
1914–2014. Европа выходит из истории? (Жан-Пьер Шевенман)
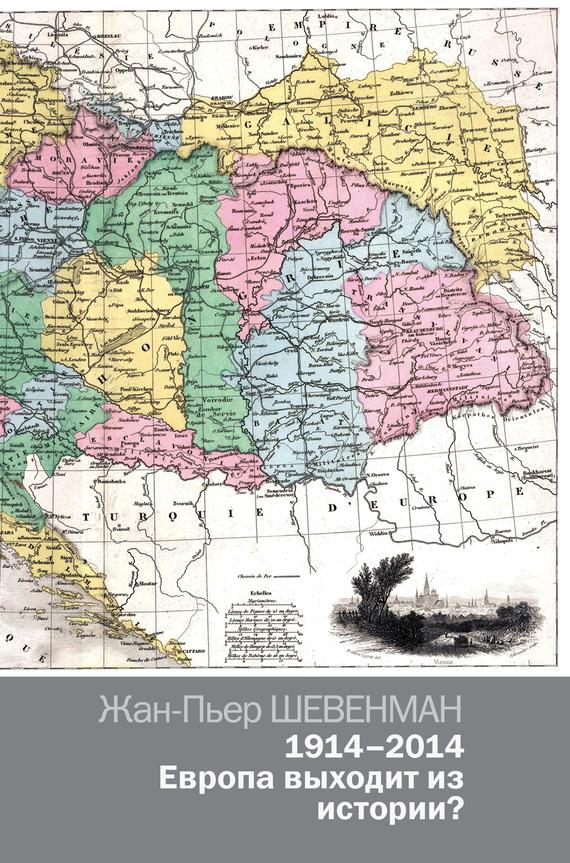
Жан?Пьер Шевенман
1914–2014. Европа выходит из истории?
Здесь, в Европе, мы больше не можем общаться друг с другом на языке дипломатии. Нам следует, как и во внутренней политике, обсуждать любые проблемы без обиняков и точно так же их разрешать.
Ангела Меркель (Le Monde, 25 января 2012 г.)
Введение
От одного броска к следующему, или Инструментализация истории
1914: все еще загадка
Существует множество вариантов того, как осмыслить[1], а значит, отметить годовщину столь чудовищного события (одиннадцать миллионов погибших, тысячи французских солдат, которые каждый день в течение четырех лет гибли на фронте), как начало Первой мировой войны, разразившейся в августе 1914 г., – события, колоссального по последствиям и до сих пор не раскрывшего всех своих тайн. Каждый судит о нем по своей мерке, и уже спустя век мы все еще не можем точно сказать, что это было: внезапный и резкий цивилизационный разрыв; «брутализация», т. е. одичание общества; трагическая заря предсказанной Марксом «эры войн и революций»; пролог «короткого XX века», который, по словам Хобсбаума, начался в 1914 г. и закончился в 1991 г. вместе с распадом СССР? Самоубийство Европы и, возможно, начало конца Франции? Закат либерализма и матрица двух «тоталитарных» режимов, которые поспешили провозгласить «близнецами?братьями»? Триумф «культуры войны», которая способна разрешить загадку холокоста?
Можно ли иначе объяснить, как в недрах одного из самых культурных народов мира вызрел смертоносный план уничтожить еврейский народ, без которого невозможно понять идентичность Европы? Как пишет историк Кристиан Инграо, «палаческая жестокость» айнзацгрупп, состоявших из полицейских, многие из которых прошли через Первую мировую, а в 1941 г. на русском фронте превратились в карателей, взывает к памяти о Великой войне: «Все сходились на том, что противостояние, начавшееся в 1914 г., еще не закончилось»[2]. Вот почему Джордж Мосс ставит свой «ключевой вопрос»: «К чему привел опыт массовой смерти на полях Первой мировой войны?»[3] Очевидно, что Первая мировая, из которой, как на взгляд немцев, так и позднее на взгляд союзников, вышла и Вторая мировая с исторической точки зрения остается горячей и даже болезненной темой. Хотя ей посвящено более пятидесяти тысяч книг, в ее истории все еще много загадочного. Я не профессиональный историк, но, как политик, не могу удержаться от некоторых «эвристических» параллелей между двумя периодами: сегодняшним днем и эпохой перед Первой мировой.
То, что век спустя ее все еще окружает ореол таинственности, происходит по понятной причине: если встать на точку зрения европейских наций, которые в 1914–1945 гг. объединились против Германии, 1914 год открывает новую «Тридцатилетнюю войну» (этот термин звучал из уст де Голля и Черчилля). Эти годы потребовались, чтобы сокрушить силу, которую в 1914 г. называли пангерманизмом, – одну из форм социал?дарвинистского этнонационализма, чье влияние явно выходило за пределы круга его прямых адептов[4]. Даже если он не был прямой причиной войны (это явное упрощение), то, конечно, приложил руку к тому, чтобы ее развязать. У войн памяти всегда есть политическое измерение, которое историки не должны игнорировать. Вот почему я хочу сразу же констатировать факт, который сегодня звучит настолько резко, что о нем предпочитают не говорить: пойдя на риск превентивной войны против России и Франции, политики, стоявшие у руля Германии в 1914 г. и находившиеся под более или менее сильным влиянием пангерманизма, взяли на себя политическую ответственность за первый в истории конфликт мирового масштаба. Таковы – в первом приближении – факты, которые ни одно историческое исследование не может оспорить, даже если в Германии они долго подвергались сомнению.
Я знаю, что существует множество манер писать историю: через призму социального, культуры и т. д. И все они могут принести свои плоды, если только не «заболтать» главное. Само собой, я вовсе не ставлю знак равенства между ответственностью узкого круга властей предержащих и всего немецкого народа.
Повторю, нельзя отождествлять пангерманизм (сколь бы он ни был влиятелен), которым были охвачены лишь военная элита, часть промышленников и несколько тысяч адептов, со всем немецким народом, – в 1914 г. он вовсе не стремился к войне. Он искренне полагал, что защищается от русской агрессии, в которую его заставили уверовать власти предержащие. Даже рейхсканцлер Бетман?Гольвег, если судить по его фразе: Wir springen in das Schwarze («Мы бросаемся в бездну»), в отличие от генералов, похоже, не понимал, что делает, когда объявлял войну. Подавляющее большинство европейцев в 1914 г. желало мира. Сами народы, на мой взгляд, не виновны в Первой мировой войне. Лишь требования «политкорректности» и привычка все упрощать заставляют сводить конфликт к столкновению разных «национализмов». Если непосредственные причины, приведшие к началу войны, могут, как мы увидим в дальнейшем, быть установлены с точностью, глубинные факторы следует искать в противоречиях «первой глобализации»[5], начавшейся в 1860?х гг. под эгидой Великобритании, и в борьбе за гегемонию: рынок не функционирует вне рамок «политики», а если этот рынок глобален, то зависит от мирового «гегемона». Вот почему вопреки господствующей сейчас моде я буду анализировать события, растянувшиеся более чем на век, прежде всего в их политическом измерении.
Память расплывчатая… и избирательная
Наша эпоха, базирующаяся на мгновенной передаче информации, по своей природе способствует забвению. Для «видеосферы» существует лишь настоящее. Интернет, который одновременно дарует индивиду свободу и делает его одиноким, растворяет коллектив. Британский историк Тони Джадт, возглавлявший Институт Эриха Марии Ремарка в Нью?Йоркском университете, в 2008 г. писал о том, как в «эру забвения» тяжело понять смысл даже того столетия, которое только что истекло. Мы ведь буквально «опутаны» «пристрастными полуистинами» (которые вдобавок сегодня уже устарели): «триумф Запада, конец истории; американский однополярный мир и неотвратимый триумф глобализации и рынка». «Мы стремимся, – продолжал он, – скорее забыть, чем вспомнить, и отрицаем преемственность, воспевая новизну каждого мига»[6]. Первая мировая война оказалась так глубоко вытеснена из памяти потому, что была перекрыта памятью о Второй мировой, и оттого, что наши современники были бы не в состоянии претерпеть неслыханные испытания, выпавшие на долю солдат траншейной войны, и вести наступления, из которых часто возвращалась лишь половина шедших в атаку. Мы лишь, пытаясь заклясть этот ужас, насмехаемся над глупостью генералов, которые приносили в жертву своих солдат, политиков, не желавших думать о том, сколько продлится и во что обойдется конфликт, и, наконец, над бессмыслицей самой войны.
«Я ненавижу войну!» Как не понять этот возглас, звучавший не только из уст пацифистов? Даже после 1918 г. можно было ненавидеть войну и тем не менее понимать, что она грозит повториться, ведь Вторая мировая была прежде всего попыткой пангерманизма взять реванш за поражение 1918 г. Конечно, она была не просто повторением – геноцид евреев раздвинул границы немыслимого. Тем не менее вряд ли кто?то осмелится спорить с тем, что это преступное безумие выросло из социальных и идеологических корней, сформировавшихся до 1914 г. На коммеморациях 1914 г. мы точно услышим об уникальности и радикальной новизне Первой мировой, и вряд ли кто?то, пойдя против духа нашего времени, напомнит о том, чем наши дни так похожи на ту эпоху.
Здесь вновь стоит прислушаться к Тони Джадту: XX век почти что скрылся «во тьме расплывчатой памяти», превратившись в «царство морализирующих воспоминаний, музей исторических зверств на службе у нравоучения. […] Опасность подобной трактовки, представляющей истекший век как эпоху беспрецедентных потрясений, […] состоит в том, что она убеждает нас, будто все это уже позади, смысл произошедшего ясен, и будто мы, сбросив груз прошлых ошибок, можем смело идти вперед, в лучшее и принципиально иное будущее»[7].
* * *
Память избирательна. Благомыслие диктует нам, что следует, а что не следует вспоминать. Будьте уверены, что на коммеморациях 1914 г. станут вовсю рассказывать об ужасах окопной войны и катастрофе Европы, но, скорее, не для того, чтобы их понять, а чтобы изгнать сам их призрак. Нам напомнят о четырехстах тысячах французов, погибших с августа по декабрь 1914 г., когда, решив любой ценой перейти в наступление, их бросили под немецкие пулеметы, превратив их алые панталоны в мишени; или о катастрофических попытках штурма: немецком наступлении при Вердене, которое должно было «обескровить французскую армию»; английском – на Сомме в 1916 г. или французском – на Шмен?де?Дам в 1917 г. Две последние атаки скосили не меньше солдат союзников, чем военные планы, состряпанные имперским Генштабом под Верденом.
Провал в памяти: русский фронт
На памятных церемониях, скорее всего, позабудут о том, сколь важны были русские наступления, развернувшиеся в начале войны. Они оказались почти безуспешны, поскольку немцы остановили их при Танненберге в конце августа 1914 г. и на Мазурских озерах в середине сентября. Однако едва ли кто?то скажет хоть слово о том, что эти атаки, призванные облегчить положение на французском фронте и предусмотренные соглашением генеральных штабов, тем не менее достигли своих политических целей: оттянув немало немецких дивизий с французского фронта, они способствовали победе на Марне (8–11 сентября 1914 г.) и позволили спасти Париж. В наши дни мало кто помнит, чем Франция обязана русским солдатам, сражавшимся сто лет назад при Танненберге или семьдесят лет назад под Сталинградом. «Политкорректность» (другое название для духа покорности) требует об этих простых фактах не распространяться[8].
С другой стороны, вряд ли мы от кого?то услышим, что наши наступления (например, при Артуа в 1915 г.), которые сегодня принято называть «нелепыми», зачастую были нужны для того, чтобы в благодарность за Танненберг помочь русскому фронту, который устоял до конца 1917 г. После провала плана Шлиффена[9] почти до конца войны центральные державы были вынуждены сражаться на двух фронтах: еще в июле 1917 г. правительство Керенского отдало приказ о всеобщем наступлении! По сравнению с поддержкой США, вступивших в войну сильно позже, роль союза с Россией в том, что французский фронт устоял, будет едва упомянута. Кажется, будто эти факты уже устарели! Так, ангажированный историк Жан?Ив Ле Наур без обиняков пишет: «Националистический тезис, который возлагал всю вину на Германию, и его марксистский антитезис, перекладывавший ответственность на капитализм, были дискредитированы: первый – франко?германским примирением и европейским строительством, а второй – упадком коммунизма»[10]. Подобный взгляд на вещи, как минимум, телеологичен и, на мой взгляд, смешивает историю как научную дисциплину с памятью о событиях, которая по определению изменчива и зависит от того, что считается «политкорректным» сегодня.
Так что давайте снова вернемся к фактам.
Последняя схватка
Брест?Литовский мир (март 1918 г.), заключенный Лениным на Восточном фронте, позволил немецкой армии собрать все силы и попытаться совершить прорыв на Западе, в Пикардии. Эрнст Юнгер в своей переписке так описывал этот момент наивысшего напряжения: «Когда неделя за неделей, каждую ночь на нас, в подготовке решающей битвы, обрушивались люди и снаряды, каждый из нас намного четче, чем после тысячи конференций, понял, кто мы есть и каковы наши права на существование и на господство […] Я догадывался, пусть до конца и не сознавая, какое значение имел этот час, и думаю, что каждый понимал, что личное исчезает перед силой ответственности, падавшей на него». Во французской литературе мы ни у кого не встретим такой интонации, как в книгах Юнгера («В стальных грозах», «На мраморных утесах» и т. д.). В «Тех, из 14?го» Морис Женевуа показывает французских солдат, которые исполняли свой долг, но не считали себя профессиональными воинами: они просто отбывали военную службу, защищая свою родину от захватчика. Сокрушительные удары Людендорфа неоднократно разрывали линию фронта франко?английских сил. 27 мая 1918 г. немецкие войска перешли Эну, а 30?го заняли Шато?Тьерри, в шестидесяти километрах от Парижа. Клемансо выступил в защиту Фоша и Петена, которых подвергли критике в палате депутатов. Он погасил пацифистские стачки, начавшиеся в металлургической промышленности. 15 июня Людендорф предпринял последнюю попытку прорыва, которая, по иронии судьбы, получила название Friedensturm («Натиск мира»). Немецкие ударные части захватили еще небольшой карман к югу от Марны, на западе от Реймса. Однако 18 июля Фош, ставший 26 апреля генералиссимусом союзных войск, силами тридцати восьми дивизий (двадцати девяти французских, четырех британских и пяти американских) начал контрнаступление, которое окончательно остановило немецкое продвижение. 24 июля он перешел к первому всеобщему наступлению. Атаки союзников, предпринятые 8 и 20 августа, отбросили немцев к их исходным позициям, которые они занимали 21 марта. 8 августа под Амьеном четвертая армия британского генерала Роулинсона благодаря более чем 450 тяжелым танкам одержала верх над германскими силами. Людендорф в своих мемуарах назовет эти дни «трауром для немецкой армии». C этого момента германские войска будут лишь отступать. По свидетельству адмирала фон Мюллера, 2 сентября 1918 г. Вильгельм II признал случившееся: «Битва проиграна. С 18 июля наши войска безостановочно отступают. Мы следуем от поражения к поражению. Наша армия выдохлась»[11].
Описывая последний рывок, решивший исход войны, точно не скажут, что важнейшую роль в нем сыграла французская армия. Сопротивление «пуалю» в ходе второй битвы на Марне выбило почву из?под ног немецких ударных частей – элитных подразделений, которые Отто Дикс на одной из редких гравюр его цикла «Война», где мы видим саму сцену боя, изобразил с огнеметами, гранатами и в противогазах, нужных, чтобы ползать под газовой завесой.
Роль США в завершении войны
В ходе коммемораций мы, конечно, много услышим о решающей роли, которую сыграли американские войска. Однако действительно массово и как основная сила (тринадцать американских и восемь французских дивизий) они вступили в бой лишь 12 сентября 1918 г., ликвидируя Сен?Миельский выступ. Это ничуть не преуменьшает храбрости американцев, но мы не должны забывать и о стойкости британских войск, сражавшихся с 1914 г., и о важной поддержке со стороны канадских, индийских, австралийских и новозеландских частей. Не забудем еще о том, что во французской армии сражались алжирские и тунисские солдаты, а также «Черная Сила» генерала Манжена. При этом следует признать, что именно перспектива скорой высадки многочисленных американских войск (конец сентября 1918 г.) и череда провалов, накопившихся у центральных держав на Восточных фронтах, вынудили немецкий Генеральный штаб (Гинденбург, Людендорф) осознать, что на Западном фронте выиграть войну уже невозможно. К 11 ноября 1918 г. на передовой сражались более двухсот тысяч американских солдат, которые для молодых рекрутов демонстрировали завидную храбрость, а общий объем войск, высадившихся на территории Франции, приближался к двум миллионам. В 1917 г. американские власти ввели обязательный призыв. Видя эту поднимающуюся волну, имперский Генеральный штаб логично (и не без задней мысли) заключил, что новому немецкому правительству придется запросить перемирие.
Неизвестные Восточные фронты
Поскольку основные сражения развернулись на Западном фронте, именно он в основном и остался в памяти. Однако мы не должны забывать, что Германия была вынуждена попросить о перемирии, а потом принять его условия еще потому, что в сентябре – октябре 1918 г. ее союзники, прежде всего основной из них – Австро?Венгрия, потерпели крах.
Два больших театра боевых действий, о которых сейчас мало кто помнит: Македония и Палестина. После 15 сентября Австро?Венгрия зашаталась под ударами Восточной армии: греков, сербов и французов под командованием Франше д’Эспере. Вскоре Османская империя под давлением англо?арабского наступления Алленби была вынуждена сдать Иерусалим, а потом и Дамаск (30 октября). Пройдя по Вардарскому ущелью, Восточная армия освободила Сербию. В начале октября перемирие подписала Болгария. 30 октября сама Османская империя была вынуждена заключить Мудросское перемирие. В тот же день итальянцы одержали победу при Витторио?Венето, и 3 ноября на перемирие пришлось согласиться и Австро?Венгрии. После этого Германии не оставалось ничего, кроме как поступить точно так же и приказать войскам отступить на свой берег Рейна.
Противоречивое перемирие
Мы плохо знаем исход Первой мировой войны, а еще хуже – условия, при которых было подписано перемирие. Германский Генеральный штаб воспринимал его лишь как передышку. Не желая нести за него никакой ответственности, он переложил ее на новое правительство Макса Баденского. Тот запросил перемирия на основе «Четырнадцати пунктов», сформулированных в феврале 1918 г. президентом Вильсоном. Армии Рейха, конечно, пришлось отступить с Западного фронта, однако она не была сокрушена на немецкой земле, как того хотел Фош. Клемансо вынудил его согласиться на перемирие, поскольку не желал терять поддержку со стороны Вильсона и позже, в момент заключения мира, лишиться американских гарантий. Тут он был прав, но события вышли из?под его контроля: несмотря на личные обещания Вильсона, которого в сентябре 1919 г. после изнурительной предвыборной кампании сразил инсульт, американский Сенат дважды – 15 ноября 1919 г. и 19 марта 1920 г. – отказывался ратифицировать Версальский договор. По тем же причинам не был утвержден и «гарантийный пакт», заключенный Вильсоном с Клемансо. В ноябре 1920 г., после того как Вильсон с отставанием в 8 миллионов голосов проиграл президентские выборы Уоррену Гардингу, США заключили с Германией сепаратный мир. На коммеморациях 1914 г. вряд ли вспомнят о том, что тогдашний отказ США от солидарности с Францией откроет дорогу для Второй мировой войны. Не переизбрав Вильсона, американский народ продемонстрировал свою верность изоляционизму. На более масштабный, трансатлантический, взгляд была способна только его элита.
Из?за того, что германские войска не были разбиты на своей земле, позже возникнет миф о «непобежденной армии», а вскоре и легенда об «ударе ножом в спину». 9 ноября 1918 г. Вильгельм II был вынужден отречься от престола не столько из?за поднявшихся революционных движений, сколько под давлением со стороны Генерального штаба и канцлера Макса Баденского. Хотя в глазах Генерального штаба перемирие подразумевало лишь передышку, в реальности его значение было намного бо?льшим: это был триумф французской воли прежде всего, воли Клемансо, и ясный знак того, что Германия, истощенная потерями и долгой блокадой, а теперь оставшаяся в одиночестве, больше не хотела за все расплачиваться. Следует разобраться во внутренних механизмах этой жестокой схватки и сути временной победы, которой она завершилась. Ореол тайны, все еще окружающий Первую мировую войну, связан с тем, что она закончилась не в 1918 г., а намного позже.
Забытый патриотизм
Вспоминая о Первой мировой войне, конечно, будут рассказывать не столько о героизме и находчивости, сколько о безрассудстве или бессчетных ошибках командования. Никто не воздаст должное духу самопожертвования простых солдат (я думаю о пятерых братьях Жардо из маленькой коммуны Эвет?Зальбер, недалеко от Бельфора, которые были убиты на фронте с сентября 1914 по июль 1915 г.), а также их офицеров (на второй день немецкой атаки на Верден, которой предшествовал удар двух тысяч крупнокалиберных пушек, извергавших не менее двух миллионов снарядов в день, в Коресском лесу погиб полковник Дриан, сражавшийся во главе отряда, оставшегося от его двух батальонов стрелков). Храбрость попытаются объяснить репрессиями и страхом – «пистолетом в руках замыкающего цепь сержанта»[12]. На щит поднимут память о «расстрелянных для острастки», которые действительно заслуживают реабилитации, только одновременно стоило бы воспеть храбрость миллионов солдат, для которых Франция еще что?то значила. Они были достойными наследниками солдат II года[13]. Ведь для Франции, куда вторгся враг, война 1914–1918 гг. была в первую очередь национально?освободительной. Сам этот факт, по забывчивости или по незнанию того, как началась война, будет скрыт под завесой молчания. Для патриотизма – так, словно бы он уже устарел или стал неприличен, – на коммеморациях не найдется места.
Дело в том, что патриотизм немыслим без нации: но чтобы сбросить ее с парохода истории, как позже решат сделать «европеисты», ее требуется сначала дискредитировать.
В этом кроется важнейший секрет коммеморации: следует ли смотреть на жертвы, принесенные «пуалю», как на силу, которая позволит Франции продолжить свою историю, либо, напротив, как на знак того, что ее время подошло к концу?
У Германии нет монополии на «споры историков». Во Франции они, правда, выглядят поскромнее: концепт «патриотического согласия», созданный в 1990?е гг. такими исследователями, как Жан?Жак и Аннет Бекер или Стефан Одуан?Рузо[14], очень быстро столкнулся с жесткой критикой со стороны противоположного направления, известного как «школа принуждения»[15]. Подобные войны памяти больше говорят о современных политических дебатах и стремлении денационализировать общественное сознание, чем о Первой мировой войне.
«Постнациональная» идеология поставит знак равенства между республиканским патриотизмом и национальным шовинизмом, который на самом деле является его противоположностью (в отличие от пацифизма – зеркального двойника шовинизма). На фоне гор трупов и сотен тысяч солдат, оставшихся изуродованными (gueules cass?es), они якобы чтобы не допустить повторения подобных ужасов, примутся заклинать: «Европа! Европа! Европа!», так, словно после 1945 г. это «Европа», а не стратегический (вскоре ставший ядерным) паритет между США и Россией гарантировал мир на опустошенном и изнуренном войнами континенте.
Открытие «Зла»
Поскольку сегодня память о Первой мировой войне часто оказывается заслонена памятью о Второй, можно, не рискуя ошибиться, предположить, что коммеморации 1914 г. обернутся попытками заклясть Зло: зло, можно сказать, «первичное» по отношению к злу «вне категории» – гитлеровскому геноциду евреев, о котором мир узнал на исходе войны. Тони Джадт напоминает фразу, сказанную Лешеком Колаковским: «Дьявол – часть нашего непосредственного опыта». Нацистский дьявол, хорошо всем известный и всеми признанный, мешает нам ясно увидеть, что действительно произошло в 1914 г.
* * *
В Германии между политиками и историками идет диалог, которого во Франции попросту не существует. Конечно, интерес Германии к науке и рефлексии восходит к ее традиции религиозного и философского самопознания, а также связан с ее бурным прошлым. Так, в беседе со знаменитым историком Фрицем Штерном, ныне профессором Колумбийского университета, Йошка Фишер, бывший министр иностранных дел из «красно?зеленой» коалиции, заметил, что вопрос об ответственности за войну 1914 г. «не играет сегодня в немецком общественном мнении никакой роли. Он полностью заслонен нацизмом и Второй мировой войной. […] Это словно доисторические времена. […] В мемориальной культуре ФРГ Первая мировая война никогда не имела существенного значения»[16]. Фриц Штерн ему отвечает, что во Франции и в Англии дело обстоит принципиально иначе, и там память о битве на Сомме до сих пор жива. Однако то, что воспоминания о Первой мировой войне в Германии оказались вытеснены, вовсе не мешает Йошке Фишеру самым проницательным, строгим и смелым образом анализировать эти страницы прошлого, погребенные под грузом истории. Он прямо говорит об «антидемократических ценностях и мощи прусско?немецкого милитаризма, которые не были сокрушены Версальским договором».
Мы не встретим столь острых оценок в беседах бывшего министра иностранных дел либерала Ганса?Дитриха Геншера и Генриха Августа Винклера, профессора истории Берлинского университета имени Гумбольдта[17]. Они полностью выносят за скобки вопрос об ответственности за начало Первой мировой. Г.?Д. Геншер, не вдаваясь в подробности, использует концепт «европейской гражданской войны»: «После 1945 г. стало ясно, что две мировых войны будучи спровоцированными «крайним национализмом» и драматическим образом сократившие влияние Европы в мире» были гражданскими европейскими войнами. Этот несколько редукционистский взгляд позволяет заболтать важнейший вопрос: какие политические и социальные силы к этому всему привели?
Спор идет вокруг концепции «Тридцатилетней войны» (1914–1945). Г.А. Винклер его отвергает, поскольку тот не учитывает возможности, заложенные в локарнских соглашениях. Историк задает вопрос, который ему кажется «ключевым»: «Не слишком ли мы склонны приписывать историческим процессам характер необходимости так, словно бы результаты Первой мировой войны и Версальского договора сделали Гитлера и Вторую мировую войну необходимыми и даже неизбежными? Я утверждаю, что исторической неизбежности не было. Гитлера можно было предотвратить»[18]. Эти слова отчасти возвращают нас к спорам о Версальском договоре (был ли он слишком жестким или, наоборот, слишком мягким?), которые неотделимы от самого понятия «Тридцатилетняя война». Однако можем ли мы допустить, чтобы «зло вне категории» (Гитлер) скрывало от нас более давнее прошлое (1914 г.), релятивизировало совершенные ошибки и затемняло обстоятельства, сделавшие их возможными? Не стоит ли вновь задаться вопросом, который, казалось, уже навсегда решен: «Не может ли быть, что именно Версаль, а не 1914 год стал матрицей нацистского зла?» Мы ниже к нему вернемся.
От открытия «Зла» один шаг к возгласу: «Больше никогда!», который звучал уже из уст «пуалю», выживших на фронтах Первой мировой. С тех пор как слово «зло» вновь вошло в наш дискурс, оно часто затемняет, а не проясняет суть вещей. Рейган в 1984 г. увидел в СССР «Империю зла». В 2002 г. Джордж Буш Младший записал Ирак, Иран и Северную Корею в «Ось зла». Этот концепт все чаще используется в политических целях. Именно он лежит в основе интервенций, которые всегда выдают себя за «гуманитарные». Заметим, к слову, что мы никогда не видели, чтобы слабые вмешивались в дела сильных. В наши дни отвергнуть европейский бюджетный пакт (Договор о стабильности, координации и управлении) во имя прав парламента – значит присоединиться к «суверенистам» (т. е., на взгляд благонамеренной публики, к «националистам») и пополнить ряды «зла». Отмечая памятные даты, не только заклинают прошлое, но и оправдывают те решения, которые принимаются в настоящем.
Шестьдесят лет назад, замечает Тони Джадт, «Аренд опасалась, что мы не научимся говорить о «зле» и не сможем понять его смысл. Сегодня мы без конца о нем говорим, а результат все тот же»[19]. Банализация этого концепта должна была бы нас научить различать цели, с которыми нас пичкают слоганом «Больше никогда!», вовсе не для того, чтобы укрепить пацифизм, который в прошлом уже показал свою смертоносность, а дабы заставить принять волшебное средство (Европа! Европа! Европа!), которое в том виде, как нам его приготовили, рискует лишь еще больше морально и политически разоружить европейские нации.
Когда настоящее подчиняет себе интерпретацию прошлого
Не нужно особой проницательности, чтобы предсказать, что во Франции и во всей Европе коммеморации 1914 года будут поставлены на службу политике. История, скорее всего, окажется на побегушках у «политкорректности» наших дней, которая столь часто делает правду невыносимой. Вопрос о механизмах принятия решений, которые сделали возможной первородную катастрофу XX в., будет оттеснен на второй план. На первый же выйдет забота о том, как преодолеть колоссальные трудности, с которыми сегодня столкнулись правящие классы Европы: повторяя «Больше никогда!», они под тысячу раз звучавшим предлогом, что «Европу нужно спасти от ее демонов», пытаются списать со счетов демократию, которая все еще жива в лоне наций.
Кризис неолиберальной Европы
Наши правящие классы сегодня столкнулись лицом к лицу с последствиями более или менее давних ошибок, которые они едва ли способны признать и уж точно не собираются исправлять: сделанный после Второй мировой войны выбор в пользу строительства Европы под опекой США вне рамок наций, а то и против них; тихая сдача в 1985–1987 гг. континентальной Европы англо?саксонскому неолиберализму (Единый акт заложил в основу европейского строительства принцип конкуренции) и, наконец, решение ввести единую валюту (1989–1999), которая изначально была переоценена из?за того, что фактически оказалась привязана к марке, и уязвима в своих основах, поскольку под ее эгидой были объединены национальные экономики, абсолютно непохожие друг на друга.
В сознании тех, кто принимает решения, «программное обеспечение» Европы свелось к догмам неолиберализма: их умственные горизонты определяются верой в «эффективность рынков»[20]. Они не видят другой Европы, кроме как той, которая построена с помощью силы рынка в глобализированном мире под эгидой США. Политика, а значит, и европейские нации должны быть списаны со счетов.
Европейские правящие классы сегодня пожинают разрушительные плоды своих собственных решений: делокализацию производств, стагнацию экономики, рост безработицы и т. д. Связав свою судьбу с финансовыми группами, которые отныне будут искать источники прибыли и роста за пределами Европы, они видят спасение лишь в политике экономии, которая ставит под угрозу «социальное государство», завоеванное благодаря столетней борьбе. Во всех европейских странах, кроме Германии, производственная база разваливается. Таковы тягостные последствия той политики, которую требует европейский бюджетный пакт: он обрек европейские экономики на длительную стагнацию.
Большинство европейских наций – опять же, возможно, за вычетом Германии – сегодня едва держится на ногах, сомневается в себе, а некоторые стоят на грани распада, в то время как развивающиеся нации демонстрируют победоносный динамизм, а то и отдаются национализму. На наших глазах «цивилизации?континенты» с миллиардным населением (Китай, Индия) выходят на первый план истории, вознамерившись взять реванш за унижения, понесенные от колониализма и империализма, и покончить с экономическим отставанием, на которое те их обрекли.
Большинство европейских «национальных государств» отказалось от своего суверенитета и лишилось собственных силовых инструментов, на смену которым вместо общеевропейских пришла мощь США. В Америке, на родине либерального индивидуализма, обычно сторонящегося любого государственного вмешательства, вопреки всяческим ожиданиям восторжествовало классическое суверенное государство (?tat r?galien), которое в этих формах повсюду уже было демонтировано. Его расходы на оборону равны суммарным военным бюджетам всех остальных стран мира. Америка – это последний из могикан, на которого в конечном счете опирается социальная система, воздвигнутая на фундаменте финансового капитала и не слишком отличающаяся от той, что существовала до 1914 г.
Страны Европы превратились в тени самих себя. У них нет ни общего горизонта, ни подлинного видения будущего. За исключением разве что попыток спасти единую валюту, которая идет ко дну.
Оправдать переход к «постдемократической Европе»
Чтобы спасти то, что заменяет им политические проекты, европейские правящие классы должны убедить свои народы в необходимости «броска в федерализм» или хотя бы развеять их опасения. Даже Юрген Хабермас, некогда бывший приверженцем «постнациональной» Европы, в конце концов понял, что их цель состоит в том, чтобы сделать Европу «постдемократической». Под словом «федерация» они понимают вовсе не свободную ассоциацию народов, основанную на общем проекте, одобренном на референдуме, с ясным разделением компетенций и демократическим контролем за их реализацией со стороны ассамблей, действительно представляющих волю народов. В их представлении, если отнять у национальных парламентов право принимать бюджет и вводить налоги, можно создать технократическую систему принятия решений, полностью оторванную от всеобщего голосования: министр финансов или еврокомиссар, контролирующий государственные бюджеты отдельных стран; каркас бюджетных процедур, лишающий их парламенты всякого поля маневра; соглашения между Еврокомиссией и национальными правительствами, которые определяют общее направление «реформ», призванных еще больше урезать «европейскую социальную модель»; регулярный контроль со стороны Брюссельской комиссии, которую на местах представляют пресловутые «тройки», состоящие из представителей Европейской комиссии, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Международного валютного фонда (МВФ). Такова постдемократическая система, которой обернулся для Европы глобальный капитализм.
На уровне закона она была внедрена после принятия европейского бюджетного пакта, подкрепленного пакетом директив и регламентов (six pack и two pack на сленге еврочиновников). На практике все это выглядит совсем по?другому! Одна из главных задач коммемораций 1914 г. – привести европейские народы к смирению.
* * *
Хотя сравнение само по себе ничего не доказывает, я думаю, будет полезно сопоставить две волны глобализации: первая, развернувшаяся в XIX в., когда Европа еще была центром мира под эгидой Великобритании, привела к Первой мировой войне; вторая, начавшаяся после Второй мировой, в контексте холодной войны превратила США в сверхдержаву, а Европу обрекла на маргинализацию и подчинение, привела к нынешнему переустройству мира в пользу развивающихся стран и, наконец, к начавшемуся в 2009 г. глобальному кризису финансового капитализма.
Эта параллель позволяет лучше понять, как новая иерархия держав, сложившаяся с подъемом Германской империи до 1914 г., привела к войне и переходу мировой гегемонии с этого берега Атлантического океана на тот. Она также показывает причины упадка Европы, наметившегося еще сто лет назад. Его точкой отсчета можно считать 2 августа 1914 г., когда в Жоншере (территория Бельфор) погибли капрал Пежо и уланский лейтенант Майер – первые жертвы Первой мировой. Однако две мировых войны, с первого дня Первой до последнего дня Второй, продлились тридцать лет. Мало кто задается вопросом, почему более шестидесяти лет назад, как только Европу начали «строить» в тени Америки, ее упадок лишь стал еще глубже. Для этого понадобилось нейтрализовать нации, т. е. политическое сознание Европы.
От одного броска к следующему
Та Европа, которая была задумана Жаном Монне после окончания Второй мировой войны, сегодня бьется в агонии. Умирает не сама европейская идея, а попытка «построить Европу» вне наций, а то и против них с целью поставить ее на службу внешнему гегемону.
Как это ни парадоксально, коммеморации 1914 г. пройдут под знаменем той вненациональной, если не сказать антинациональной, модели Европы, от которой народы вот?вот отвернутся.
Европейские нации, которым вновь предъявят счет за ужасную катастрофу, выставят в самом черном свете якобы для того, чтобы спасти тонущую Европу, а по сути, чтобы затопить ее еще быстрее. Жалкая хитрость, чтобы списать со счетов демократию и навязать политику экономии, которая подвергает эрозии социальные и демократические завоевания ушедшего века! В истории таких казусов было немало: годовщина 1914 г. будет использована для того, чтобы оправдать подчиненную роль Европы в процессе глобализации и создать условия для реставрации финансового капитализма в той форме, как он существовал до 1914 г. Чтобы защитить и сохранить финансовую ренту, пригодится и визит на кладбище…
«Демонизация» европейских наций непременно развернется сразу на нескольких уровнях: во?первых, нацию, необходимый фундамент для демократии, объявят тождественной национализму, ее злокачественному перерождению; нацию изобразят как своего рода Молоха, жаждущего крови своих детей, но, поскольку этот образ сегодня утратил свою актуальность, акцент будет сделан на то, что европейские нации устарели и уже в 1917 или в 1940 г. оказались слишком малы, что и поставило Францию и Великобританию в зависимость от Америки. Не обращая внимания на то, что в мире (от Бразилии до Индии, от Израиля до Южной Кореи) полно противоположных примеров, нам объяснят, что в Европе нации отжили свое и что их дела будут в полном порядке, если, как в 1920 г. предсказывал Поль Валери, отдать их на откуп американской комиссии.
Само собой, никто не станет разбираться, какую роль в развязывании Первой мировой войны сыграли европейские правящие классы. Но разве мировой конфликт не был катастрофическим итогом первой волны глобализации? Никто ни слова не скажет о том, насколько иррациональным было решение немецкого канцлера Бетмана?Гольвега «броситься в бездну» (как он сам выразился), и все для того, чтобы оправдать другой, столь же иррациональный, выбор: так называемый «бросок в федерализм», который обернется для Европы демонтажом демократии. Какую участь вторая волна глобализации, начавшаяся после 1945 г. под американской эгидой, готовит Европе в мире, где будут доминировать две силы: США и Китай? Не дает ли сравнение двух исторических эпох ключ к ответу?
Моя цель вовсе не в том, чтобы напророчить новую бурю, возможность которой, однако, не стоит списывать со счетов, а в том, чтобы переключить внимание с «беспрецедентных зверств» (Тони Джадт) на то, чем наши эпохи схожи. Надеюсь, это поможет избежать повторения катастрофы.
Вопрос о гегемоне глобализации
Война 1914–1918 гг. – это не автомобильная авария, которой можно было бы избежать, ловко повернув руль. Ее нельзя вслед за Лениным свести к прозаическому конфликту за раздел финансовой ренты. Она была спланирована и сознательно начата. Сегодня такое даже произнести страшно!
За торговым, экономическим и финансовым соперничеством скрывался вопрос, который к 1914 г. подъем Германии поставил ребром: кто будет мировым гегемоном – Германия или Великобритания, а на более глубоком уровне – Европа или США? В первой половине XX в. Великобритания, дабы уйти от неизбежно шаткого раздела господства с Германией (чтобы Германия господствовала в Европе, а Великобритания – на море и в остальном мире), предпочла – во имя демократии, а заодно под знаменем солидарности между англоязычными народами – передать пальму первенства США. Большинство лидеров Германии, без сомнения, согласились бы на такой раздел сфер влияния, но факт остается фактом: они даже не попытались его добиться. Однако с чего бы Англии в 1914 г. идти Германии на уступки, в которых за век до того она отказала наполеоновской Франции? Сознательно пойдя в Сербии на риск европейской войны, лидеры Германской империи пожали войну мировую.
Вопрос о гегемоне не может объяснить все политические, социальные и культурные факторы того колоссального переустройства мира, которое произошло в 1914 г. Однако во всех крупных кризисах, с которыми капитализм сталкивался с XVI в., проблема гегемонии всегда оказывалась центральной: этот момент предпочитают не замечать, поскольку он подвергает сомнению нейтралитет, на который претендует либеральная доктрина. В конечном счете «рынок» функционирует только там, где «политика» достаточно сильна, чтобы создать для него условия и заставить соблюдать его правила. Именно благодаря этому Англия в XVII в. отодвинула Нидерланды и успешно остановила гегемонистские устремления Испании и Франции. Подобно тому как в начале XX в. Германия требовала для себя «места под солнцем»[21], сегодня Китай стремится вернуть себе ту роль в мире и долю мировых богатств, которые принадлежали ему до того, как его звезда закатилась на целый век: с 1840 (опиумная война) по 1949 г. (провозглашение КНР). Подобное устремление вполне можно понять. XXI век, с его противостоянием Китая и США, вновь станет двухполярным. Эти державы порой зовут «Большой двойкой» (G2). Но эта «двойка» сегодня тянет соки из Европы – не потому, что Китай с США так агрессивны, а из?за того, что сама Европа слаба. Вторая волна глобализации раскалывает Европу и обрекает ее на беспрецедентный по своим масштабам кризис. Он вынуждает кардинально пересмотреть основания, на которых Европа была построена, и выявляет просчеты, допущенные за последние десятилетия теми, кто стоит у ее руля.
* * *
Так что можно, не рискуя ошибиться, предположить, что мероприятия по случаю столетней годовщины Первой мировой войны станут ареной для чествований не самой европейской идеи, которую вряд ли кто?то оспаривал, если бы она опиралась на фундамент наций, а той либеральной конструкции, которая была задумана Жаном Монне и его преемниками под европейскими лозунгами, а на деле обернулась против народов Европы и уже отжила свое.
Поэтому нам сейчас следует разобраться в том, как европейское строительство (в той форме, в какой оно идет сегодня) связано с масштабными сдвигами, спровоцированными войной, разразившейся в 1914 г.
1914 год и истоки нынешнего европейского строительства
«Потребность в Европе»
1914 г., без сомнения, ознаменовал глубокий разрыв в мировой истории – цивилизационный регресс невиданного масштаба. Европа оказалась втянута в войну, инициаторы которой не могли предвидеть, ни на сколько она затянется, ни какие бедствия принесет, ни какие изменения спровоцирует.
В течение четырех веков, со времен Великих географических открытий, Европа властвовала над миром. Гегемония, которой обладали или к которой в разные времена стремились ведущие европейские нации – Испания, Франция, Великобритания, Германия, – окончательно рухнет после Второй мировой войны, которая (если вынести за скобки радикальную новизну нацистского расизма) оказывается прямым продолжением Первой. Нетрудно понять, почему после двух конфликтов такого масштаба европейские нации почувствовали, как почва уходит у них из?под ног, однако это не следует, как нынче принято толковать, будто они отжили свое.
Колоссальные страдания, пережитые во время Первой мировой войны, и изъяны, изначально заложенные в Версальском договоре, без сомнения, разожгли ненависть между народами, но они же вызвали к жизни острую «потребность в Европе», о которой еще в 1914 г. говорил Ромен Роллан. «Европа» – именно так автор «Жана?Кристофа» назвал свой журнал, основанный в 1919 г., как только война закончилась. Как не понять такую потребность преодолеть самого себя, пусть даже в 1914 г. стремление «остаться над схваткой», отвергнув собственную национальную идентичность, и могло выглядеть как гордыня?
В тот период «интернационализм» принял два различных обличья: большевистского отрицания империализма во имя революции и идеалистически?космополитического пацифизма, который как раз и стал непреходящим источником вдохновения для адептов «европейской мечты». Вопреки всеобщему убеждению эти два искушения вовсе не во всем противостоят друг другу: они с одинаковой бескомпромиссностью отрицают нацию как общность, созданную историей. Сама идея «политической нации», пришедшей из глубины прошлого, которую республиканцы до 1914 г. не отвергали, а принимали как данность и претворяли в коллективный проект, была поколеблена Великой войной. Во Франции она не сошла с арены истории лишь благодаря де Голлю. Не случайно Морис Агюльон решил поместить портрет генерала на обложку своей книги, посвященной республике. Однако столькие испытания не могли не поколебать сам республиканский патриотизм…
В Европе крах Лиги Наций, в которую США в 1920 г. отказались входить, а Германия в 1933 г. покинула, подъем гитлеризма, человеческие потери Второй мировой войны (пятьдесят миллионов жертв – в пять раз больше, чем во время Первой мировой!) и, наконец, правда о геноциде евреев убедили всех в том, что ничто уже не сможет быть как прежде. Даже Уинстон Черчилль в 1946 г., выступая в Цюрихе, призвал к примирению Франции и Германии и созданию Соединенных Штатов Европы.
В 1923 г. сын австро?венгерского дипломата Рихард Куденхове?Калерги сформулировал «панъевропейский» проект и основал «Панъевропейский союз», который во Франции повлиял на Аристида Бриана, а в Германии – на Густава Штреземана. Однако попытки Бриана создать политический союз были предприняты слишком поздно (в 1930 г.) и не учитывали стремления Германии начать не с политического, а с экономического сближения (как логическое продолжение проектов, обсуждавшихся до 1914 г., и прообраз Общего рынка 1957 г.). В любом случае Германия в то время вовсе не собиралась признавать свои восточные границы с Польшей. А это было немалым препятствием для любой интеграции…
Выступая в 1950 г. в Аахене на вручении ему премии Карла Великого, Рихард Куденхове?Калерги сформулировал долгосрочную цель в духе устремлений, которые Германия и Австро?Венгрия лелеяли до 1914 г.: «Объединенная Европа от Исландии до Турции и от Финляндии до Португалии», а также более скромный проект, не столь удаленный от реалий холодной войны, разделившей тогда Европу: союз, тоже названный им в честь Карла Великого, который должен был объединить Францию, Западную Германию, Италию и Бенилюкс: «Речь идет ни больше ни меньше, как о возрождении Каролингской империи на демократических, федеральных и социальных основах». Он предложил создать «Федеральную конституцию, которая бы позволила выстроить будущие франко?германские отношения на базе законов, а не договоров».
Я вспоминаю о Куденхове?Калерги, потому что его проект «Панъевропы», без сомнения, повлиял на умы и стал благотворной почвой для разработки других похожих инициатив. Его идеи встретили поддержку в англосаксонском мире и среди европейских социал?демократов. Те же силы во Франции стали опорой для Жана Монне. Архитектор Европейского объединения угля и стали (1951 г.), а потом и Римского договора, по которому был создан Общий рынок (1957 г.), сразу же понял, что в контексте холодной войны Соединенные Штаты Америки одобрят проект Соединенных Штатов Европы, только если те отдадут ключ к своей оборонной политике за океан. Это тонкое наблюдение Робера Маржолена[22] сразу же объясняет, почему Европейское оборонительное сообщество, во главе которого должен был встать американский генерал, изначально приняло такую уродливую форму и почему французский парламент, которому Пьер Мендес?Франс своевременно развязал руки, в 1954 г. отверг этот проект.
Во имя Европы – новый «просвещенный абсолютизм»
Жан Монне построил свою карьеру на тесных связях с англосаксонскими финансовыми кругами, а после 1941 г. – на прямых отношениях с американской администрацией. Когда в 1943 г. Рузвельт направил его в Алжир, чтобы поддержать Жиро, он уже (хотя перспектива мира едва появилась на горизонте) размышлял о том, как интегрировать Европу на базе Общего рынка[23]. Будущий «отец Европы» стремился навсегда перевернуть ту страницу истории, к которой сам был причастен, когда с 1914 по 1918 г. служил представителем французского правительства в Лондоне. Он не видел в этом прошлом ничего, кроме абсурдного противостояния между европейскими нациями (не исключая его родной Франции), которые, на его взгляд, друг друга стоили. Жан Монне ставил знак равенства между нацией и национализмом. Он хотел все начать с чистого листа и вычеркнуть из повестки дня суверенитет наций, который считал смертельно опасным. Первым на очереди, конечно, стоял суверенитет Франции, который был восстановлен де Голлем. Дело в том, что на фоне разгромленных Германии и Италии Франция оставалась единственным препятствием для его «европеистского» проекта. Я называю так попытки построить единую Европу не как продолжение наций, а как их подмену с целью сделать их более покорными указаниям, исходящим из Вашингтона.
«Национальный суверенитет – вот враг!» – таков был урок, который диктовал его опыт, полученный еще во время Первой мировой войны, когда он впервые занялся снабжением Франции и Великобритании из США и Канады. Правительства и их функционеры – виновники беспорядка в системе, которая могла бы прекрасно работать, если бы подчинялась узкому кругу компетентных экспертов, в том числе в первых рядах самому Жану Монне. Дабы «построить Европу», вместо национальных суверенитетов требовалось создать общий рынок, регулируемый независимым высшим руководящим органом, который бы взял на себя роль «хранителя общественных интересов» и получил монополию на законодательную инициативу.
Однако знаем ли мы хоть один пример, когда бы совет из нескольких человек смог определить и защитить общественные интересы? По канонам республиканской традиции они рождаются из дискуссии между гражданами, а решения принимаются на всеобщем голосовании. Однако по своей жизненной траектории Жан Монне был прежде всего бизнесменом, близким к политическим и финансовым кругам англосаксонских стран, а также лоббистом, для которого республиканские идеи во французском духе были весьма далеки. В фундамент Европы, как он ее себе представлял, были заложены гегемония рынка и отрицание наций с их неустранимой спецификой. В силу этого в европейском строительстве иноземный экономизм с самого начала подменил собой политику. Так что «общеевропейские интересы» по определению не могли не совпасть с установками «благосклонного гегемона» в лице США.
Само собой, дабы достигнуть цели, Жану Монне требовалось преодолеть сопротивление правительств Четвертой республики. Для этого он нашел неоценимую поддержку у Робера Шумана, депутата от департамента Мозель и тамошнего уроженца, который с 1948 по 1953 г. был министром иностранных дел Франции. Только что началась холодная война – в 1949 г. СССР установил блокаду Западного Берлина. В том же году молодой Клод Шейсон, недавний выпускник Национальной школы администрации (ENA), завязавший в Бонне доверительные отношения с Конрадом Аденауэром, организовал ему в Ко (Швейцария) конфиденциальную встречу с Робером Шуманом, якобы для обсуждения «морального перевооружения». Вернувшись оттуда, Аденауэр признался Шейсону (я цитирую его слова): «Вы понимаете, нам – троим уроженцам приграничья [во встрече также участвовал Гаспери[24]] – несложно договориться: ведь во время Первой мировой войны мы все были немцами. […] Единственное различие между нами, – прибавил он, улыбаясь, – состоит в том, что они служили в немецкой и австрийской армиях, а я был уже слишком стар. Тем не менее мы трое – братья?германцы, и нам было просто друг друга понять…»[25].
Кроме того, Аденауэр сказал Шейсону: «Нам, западным немцам, требуется подольше пожить вместе с Францией. Это поможет рейнцам, буржуа и католикам получить необходимый перевес над пруссаками, саксонцами, протестантами, торговцами и милитаристами…»
Подобные идеи, само собой, работали на успех Жана Монне.
После того как на базе собственного опыта он пришел к выводу, что европейские нации уже можно списать со счетов, Монне вдохновил Робера Шумана на декларацию (9 мая 1950 г.) о создании Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). В ней он предложил организовать независимый высший руководящий орган, который бы действовал как своего рода «просвещенный деспот». Ключевой из его полномочий должна была стать монополия на законодательную инициативу, о которой мы уже упоминали выше. Таким образом была выработана технология принятия решений, которую позже назовут «методом сообщества» (m?thode communautaire): в рамках ЕОУС (1951 г.), а позже и Общего рынка (1957 г.) роль наций, представляемых своими правительствами, сводится к обсуждению предложений, сформулированных Высшим руководящим органом (который затем был преобразован в Европейскую комиссию). Этот «просвещенный абсолютизм» покоился на двух основаниях: невидимой руке рынка, с одной стороны, и признании американского сюзеренитета в сфере обороны и внешней политики – с другой. Европа Жана Монне – это лишь реализация «явного предначертания» США, которое вывело Америку на роль гегемона второй волны глобализации, развернувшейся после 1945 г.
В 1964 г.[26] Европейский суд в Люксембурге, основанный в соответствии с основополагающими договорами 1950 и 1957 гг., принял решение о том, что европейское право имеет приоритет над правом отдельных стран, а затем навязал этот принцип. Суд вознамерился «построить Европу через право». Однако не является ли «правление судей», особенно когда их решения не могут быть обжалованы, просто еще одной формой «просвещенного абсолютизма»?
Придется дождаться конца 1990?х гг. и создания единой валюты, чтобы на свет появилась третья независимая инстанция, целиком оторванная от всеобщего голосования, – Европейский центральный банк, чей Совет состоит из 17[27] управляющих центральных банков стран еврозоны. Этот всеведущий и всемогущий центральный банк, на который была возложена лишь одна сакральная миссия – борьба с инфляцией, воплощает абсолютизм, который я, даже в председательство Марио Драги, не смогу назвать «просвещенным».
Теперь, дабы достроить эту «демократическую» конструкцию, осталось лишь официально назначить «европейского министра финансов», который бы одобрял или отклонял национальные бюджеты (сегодня эту роль играет европейский комиссар по экономическим вопросам). Если народы не попытаются этому помешать, сей якобы «просвещенный» абсолютизм, конечно же, благосклонный к богатым и сильным, подведет черту под эрой демократии, открытой в 1789 г.
* * *
«Национализм – это война», – провозгласил Франсуа Миттеран перед Европейским парламентом через несколько лет после того, как 9 ноября 1988 г. перенес прах Жана Монне в Пантеон. Однако национализм не тождествен нации. Это ее болезнь, от которой нельзя навсегда привиться, но против которой нужно бороться с помощью республиканской концепции нации – естественной опоры для демократии и важнейшего пространства солидарности. Эрозия нации неизбежно ведет к разладу демократических механизмов и утрате чувства ответственности, безразличию к общественным интересам, снижению явки на выборах и в конечном счете к распаду гражданской жизни. Сознательное отрицание нации как общности, сформированной самой историей, обрекает европейскую демократию на гибель, поскольку невозможно, приняв декрет, создать «европейскую нацию», для этого требуются столетия. Вместо этого стоит помочь развитию и сближению «постнацоналистических наций», как их назвал немецкий историк Генрих Август Винклер, и, отталкиваясь от них, вновь придать европейской политике импульс. Это единственный шанс избавить Европу от нынешнего безволия.
Показательный нонсенс – единая валюта
«Единая валюта» – прекрасный пример контрпродуктивной логики, отрицая реальность – и разнородность – наций, ее создатели воздвигли путаную конструкцию, чьи плоды сегодня уже очевидны: созданная, чтобы объединить народы и при том отрицающая их реальность, единая валюта настраивает их друг против друга, поскольку по самой своей сути ведет к поляризации богатств там, где они создаются, и обрекает остальные страны на недоразвитие, превращая Южную Европу в своего рода большой итальянский Юг (Меццоджорно). Вот почему народы смотрят на эту конструкцию чисто технократического толка все с большим недоверием. Просто не нужно ставить телегу впереди лошади. Следовало бы действовать прагматически: создать общую валюту, не упраздняя национальных валют и тем самым сохранив механизмы адаптации. Вместо этого во главу угла поставили идеологию, а о том, что валюта создается для одного народа, а в Европе их около тридцати, позабыли.
В 1989–1992 гг. единая валюта стала идеологическим ответом на объединение Германии. В те годы говорили о том, что, отняв у ФРГ ее марку, можно будет связать немецкого великана, вновь обретшего единство. Однако в действительности все случилось ровно наоборот, ведь валюта связана с конкретной экономикой и культурой. Бывший посол Германии в Париже Рейнхард Шефферс отмечал, что, если французы воспринимают валюту как инструмент экономической политики, для немцев она предстает как своего рода Грааль, священная ценность.
Франсуа Миттеран, который раньше многих других задумался о том, как сложится будущее Европы после немецкого объединения, хотел опутать соседей множеством связей, которые неизбежно сделали бы Германию «европейской» (если воспользоваться выражением Томаса Манна). Историческая и литературная эрудиция Миттерана была колоссальна, но экономическими познаниями он похвастать не мог. Он никогда не слышал о теории «оптимальных валютных зон» Роберта Манделла.
Единая валюта была задумана, чтобы форсировать создание «европейской нации», без которой невозможно никакое федеративное строительство. Однако даже если этот проект и не лишен смысла, он реализуем лишь в длительной исторической перспективе и требует согласия самих народов. Ошибка Маастрихта, к сожалению, привела к результатам, прямо противоположным тем, на которые он был рассчитан. Сколько времени еще нужно, чтобы это понять и тем более чтобы найти общий выход из того тупика, в который завели Европу? В бурных водах глобализации она сегодня напоминает корабль, оставшийся без руля и ветрил. У нее нет ни торговой, ни промышленной, ни фискальной, ни валютной, ни оборонной политики, а значит, и внешней политики тоже нет.
Европа и ее нации выходят из истории
Две мировых войны, которые в определенном смысле были одной и той же войной, привели к тому, что Европа на время (что объяснимо), а возможно, и навсегда (что уже принять сложнее) сошла с исторической арены. Вторая мировая война открыла путь к демонтажу колониальных империй, подобно тому, как Первая мировая подписала приговор империям старого режима. Она способствовала эмансипации колонизированных народов и появлению новых наций (порой – возвращению очень древних). Наконец, сорок лет холодной войны привели к краху СССР. Родился новый мир. Старая Европа, существовавшая до 1914 г., умерла, и об этом бессмысленно горевать.
В этом новом мире все европейские нации дезинтегрируются. Единственная из стран Запада, которая по?настоящему вышла победительницей из двух мировых конфликтов, – это Соединенные Штаты Америки. Согласившись на американскую гегемонию и списав со счетов свои нации, Европа, похоже, смирилась с тем, что отныне будет не творцом, а объектом истории. Владычица прошлого превратилась во владение.
Европейские нации в той или иной степени превратились в американские протектораты. Не желая повторять ошибок, совершенных после Первой мировой войны, и стремясь преодолеть национальные антагонизмы, Франция, позабыв об уроках генерала де Голля, совершила величайшую ошибку, согласившись на то, чтобы растворить свой суверенитет во все нарастающем бессилии. Сперва ограниченная шестью странами в границах древней Каролингской империи, Европа постепенно расширилась: сначала в нее вошла Англия, которая, по сути, мечтала лишь об обширной зоне свободной торговли; затем другие страны, соблазненные будущими субсидиями, но не способные справиться с конкуренцией более развитых соседей; и наконец, после краха СССР – центрально– и восточноевропейские государства, раньше входившие в Варшавский договор. Они видели в Европе не столько проект политического союза, сколько шанс, сохранив американское покровительство, вступить в клуб процветающих стран.
В этой расширившейся Европе Франция потеряла ту ключевую роль, которую она еще играла в эпоху Римского договора (1957 г.) и даже когда Европейское экономическое сообщество выросло до двенадцати членов после вступления Испании и Португалии в 1986 г. Под властью неолиберализма, зафиксированной Единым актом (1985–1987 гг.), Франция поставила свое государство на службу брюссельской бюрократии, озабоченной в первую очередь тем, как навязать «примат конкуренции» и вычеркнуть нации из истории.
Можно ли понять Первую мировую войну вне рамок национальных историй?
Под воздействием европеистской идеологии Первую мировую войну стали все реже рассматривать в национальных рамках. Крах европейских наций с 1940 (Франция) по 1945 г. (Германия), само собой, тому немало способствовал.
Начиная с 1970?х гг., голлистское видение роли Франции во Второй мировой войне сменилось исповедуемой правящими классами идеологией «Вишисто?Сопротивления», которая соответствовала европеистским взглядам Жана Монне: обратившись 17 июня 1940 г. с просьбой о перемирии, Франция будто бы перестала быть «великой нацией» и сошла с исторической арены или в лучшем случае превратилась в державу второго плана, по сути лишенную собственных интересов. Правда, пришлось дожидаться ухода Франсуа Миттерана (1995 г.), чтобы глава Республики признал ответственность не «Французского государства», а самой Франции за «облаву Зимнего велодрома» и в целом за окончательное решение на территории страны. При таком раскладе выходит, что Франция – это Петен, а Петен – это Франция!
Аналогично Германия, сокрушенная на поле боя в 1945 г. и морально поверженная, после того как мир узнал правду о лагерях смерти и холокосте, не могла больше претендовать в Европе ни на какое лидерство: единственный шанс не быть изгнанной из семьи наций и подготовить почву для будущего объединения, был хотя бы на время соединить свою судьбу с европейской.
После краха фашизма в 1943 г. мечты Италии о господстве в Средиземноморье тоже рассеялись.
Даже если в истории некоторых малых стран (Нидерландов, Дании и др.) когда?то были периоды величия, им пришлось осознать, что они остались одни и что никакой нейтралитет не даст им защиты (эту иллюзию продолжали питать только Швейцария и Швеция).
Наконец, Польша вновь убедилась, сколь опасно то вечное одиночество, на которое ее обрекло географическое положение.
* * *
«Национальная» трактовка Великой войны постепенно сменилась идеологической – противостоянием антагонистических моделей общества, а в конечном счете теорией «европейской гражданской войны». Пацифистская интерпретация в духе Ромена Роллана была затем, в другом прочтении, подхвачена Эрнстом Нольте. В этой вненациональной версии, которая, скорее, отражает реалии Второй мировой войны, чем Первой, «короткий XX век» предстает как скобка в истории либерализма, на фоне которого два «тоталитарных режима» (согласно концепту, созданному полвека назад Ханной Арендт) оказываются близнецами?братьями.
Подобный взгляд на две мировых войны, который сегодня проповедуют идеологи либерализма, идет нога в ногу с идеей «конца истории», отождествляемого с триумфом рынка и демократии (само собой, либеральной). Впервые предложенная Люсьеном Эрром и группой французских историков в 1919 г. («Республика выполнила свою программу. Что делать дальше?»), эта идея была в 1992 г. подхвачена американским историком Френсисом Фукуямой: после того как СССР рухнул, коммунизм предали земле, рынок и либеральная демократия одержали верх, что предстоит делать Соединенным Штатам? Головокружение от «однополярного» всемогущества или иллюзия такового…
Как некогда показали Антуан Про и Джей Винтер, сейчас все большее влияние приобретает «социальное» прочтение двух мировых войн. Оно подчеркивает роль иных, нежели нации, факторов: социальных классов, политических партий, идеологий. Появившаяся недавно культурная интерпретация сосредоточена на истории знания и эволюции ментальностей. Выводы всех этих подходов можно резюмировать следующим образом:
Коммунистическая трактовка, сегодня утратившая актуальность, выдвигала на первый план рабочий класс, естественно, неотделимый от своей партии.
Нацистская интерпретация, выстроенная вокруг идеи Volk и погребенная вместе с бункером Гитлера, делала акцент не столько на нацию, сколько на расу.
Либеральная интерпретация воспевает окончательную победу рынка и демократии над двумя «тоталитаризмами?близнецами».
Самая недавняя из идеологических трактовок несет на себе отпечаток холокоста: после Аушвица ничто больше уже не может быть как прежде; это «системный» разрыв, разлом в истории человечества. Подобный взгляд служит аргументом в пользу либеральной интерпретации, провозгласившей, что в XX в. история завершилась.
Что касается истории ментальностей, то она стремится охладить столь горячий объект, каким все еще остается Первая мировая война. Подчеркивая, сколь она от нас далека, историки ментальностей не дают ей объяснения, а описывают и преподносят как нечто, оставшееся в прошлом.
Однако через сто лет после 1914 г. выясняется, что нации не только в Европе, но и по всему миру вовсе не стоит списывать со счетов. Древние нации расправляют плечи. Хотя упадок Старого Света ускорился, Германия обрела там господствующее положение, о котором мечтала еще до 1914 г. и которого было бы гораздо проще добиться мирным путем, чем с помощью превентивной войны. Конечно, ее территория сильно ужалась, но в сегодняшней Европе и в контексте глобализации границы во многом утратили свое былое значение…
Выдвигая тезис о том, что европейские нации в XXI в. продолжают существовать, я, конечно, рискую столкнуться с неприятием тех, кто держится за «здравый смысл», сформированный за последние семьдесят лет постнациональной идеологией, для которой сам концепт нации кажется устаревшим.
Однако что, если это ошибка? Европа достигла величия благодаря своим нациям. Каждая из них принесла в достояние человечества что?то свое: итальянский Ренессанс, мечты об открытиях, которые лелеяли португальские мореплаватели, испанское великолепие, фламандская живопись, британский парламентаризм, французское Просвещение и Революция, немецкая музыка и философия, русский роман и т. д. Европейские нации не только приходили друг другу на смену, но и умели на разных этапах истории сами себя поднимать с колен. Даже их конкуренция между собой была плодотворна, пока не выходила за определенные рамки. Не считая некоторых пограничных конфликтов, у каждой из них было свое место, каждая прекрасно знала, где начинается чужая земля, и не помышляла о том, что все может выглядеть по?другому. Империалистические войны никогда не были национальными. Карл V стремился объединить христианский мир против турка. Наполеон, который, на взгляд Великобритании, был слишком связан с идеями революции, хотел принудить британцев к миру с помощью континентальной блокады. Гитлер собирался на фундаменте расы воздвигнуть новый мировой порядок, в котором бы тысячу лет властвовал Третий Рейх. Все они переоценили свои силы. Сама реальность и многообразие наций обрекли их затеи на поражение.
Что, если сегодня Европе, дабы остановить свой упадок и вернуться на путь демократии, а значит, политики, стоит вновь довериться своим нациям? Что, если вытеснение национального, а вместе с ним и отказ от республиканского патриотизма, оборачиваются лишь цензурой и мешают понять не только прошлое, но и вызовы будущего, т. е. историю, которую еще предстоит сотворить? Конечно, этот запрет касается прежде всего молодых поколений, которых лишают коллективного горизонта, в который они могли бы вписать собственные устремления. Раймон Обрак[28] как?то сказал мне: «Амбиции молодежи прямо пропорциональны амбициозности целей, которые ставит перед собой нация». Каждому народу требуются идентичность и проект. Лишить народы таких опор, значит, cо временем обречь их на «выход из истории», а в краткосрочной перспективе – списать со счетов демократию и приговорить будущие поколения к прозябанию.
Утверждая, что история наций продолжается, мы вовсе не натравливаем их друг на друга (если только не путаем нации с национализмом). Напротив, мы даем им ключ к тому, чтобы выстроить будущее сообща. Реальная демократия неотделима от национальной идеи. Вот почему так важно помочь нациям отыскать нить их истории и позволить вместе двигаться дальше. Не следует списывать со счетов «национальное прочтение» двух мировых войн, само собой, не сводя все к нему одному. Социальная и национальная интерпретации должны дополнять друг друга. Лишь в связке они обретают свою полноту.
Сколь бы ни было прошлое скорбным, мы должны о нем говорить. Как пишет Йошка Фишер, «было бы прекрасно, если бы по всей Европе завязался диалог [о Первой мировой войне]… ведь в ней лежат истоки европейской трагедии». Бывший министр иностранных дел сожалеет о «деисторизации политического сознания из?за того, что смысл этой первородной катастрофы не обсуждается»[29]. Европа не воспрянет без созидательной энергии своих наций. Вот почему так важно снять с них обвинение в преступлении, которого они не совершали: они не стремились развязать Первую мировую войну; их стравили друг с другом могущественные скрытые силы; новое прочтение прошлого позволит их реабилитировать и вновь, сообща, стать творцами собственного будущего.
Никакой телеологии
Вместо того чтобы дальше укреплять нас в «черной легенде» по поводу нашего прошлого, коммеморация Первой мировой войны должна была бы помочь ее преодолеть, чтобы мы смогли лучше справиться с противоречиями наших дней. Между ситуацией, предшествовавшей 1914 г., и сегодняшним днем есть множество точек пересечения. Во?первых, мы вернулись к тому жесткому, прежде всего финансовому, капитализму, который не знаем, как регулировать, поскольку подлинное регулирование всегда лежит в политической плоскости. Кроме того, как и перед 1914 г., мир вошел в переходный период с присущей ему неопределенностью. Однако кое?что мы знаем наверняка: сегодняшняя Европа не сможет вновь устремиться в будущее, если не поймет, как и почему ее предшественница образца 1914 г. распалась на части, и как после тридцатилетней войны попала под внешнюю опеку, и постепенно, вот уже как шестьдесят лет назад, пришла к нынешнему бессилию.
Однако мой взгляд на вещи вовсе не «телеологичен». Я не собираюсь писать «европейскую историю Первой мировой войны» для того, чтобы она стала базой для некой «европейской идентичности». Великая война, увы, была не только европейской, а мировой и, увы, не станет «последней» (der des ders). Однако ее следует понять в политических категориях.
Позабыв о туманных теориях и «полупристрастных истинах», о которых говорил Тони Джадт, нам требуется осмыслить первую волну глобализации и извлечь урок из того века, который начался в 1914 г. Это единственный путь, чтобы сориентироваться в нынешней «второй глобализации». Европа сегодня все быстрее клонится к закату, поскольку она уже с ним смирилась, а весь остальной мир это понял и даже предвкушает.
Но не окажется ли «великий бросок в федерализм», к которому призывают многие «авторитетные деятели», желающие нас уберечь от повторения 1914 г. и стремящиеся поставить точку в эпохе национальных противостояний, еще одним «броском в бездну», если вспомнить о выражении, которое немецкий канцлер Бетман?Гольвег использовал в августе 1914 г., говоря о «броске», подведшем черту под первой волной капиталистической глобализации? Нетрудно доказать, что «великий бросок в федерализм», который сегодня отстаивают обезумевшие или нечистые на руку политики, не сопряжен ни с каким реалистическим проектом и просто не должен быть реализован. Он не поможет вернуть Европу в историю.
Над второй глобализацией сгущаются тучи. Неолиберальный цикл, открывшийся в начале 1980?х гг., подходит к концу. Один за другим следуют кризисы: за ипотечным кризисом 2008–2009 гг. в 2010 г. разразился кризис евро. Именно против него нам предлагают бороться с помощью «великого броска в федерализм». От одного «броска» к следующему мы все ускоряем ход.
Однако, прежде чем бросаться, может, стоит взглянуть, что под нами?
Первая часть
Как Европа бросилась в бездну
Глава I
Непосредственные виновники Первой мировой войны
Вопрос о том, кто несет ответственность за развязывание Первой мировой войны, может показаться неактуальным: сколько с тех пор воды утекло! Однако если мы разберемся в истоках этого конфликта, то сможем лучше понять и сегодняшний мир со всеми его опасностями.
Первая волна глобализации – фактор мира?
Как отмечает профессор Массачусетского технологического института Сюзанн Бергер, «после окончания холодной войны горизонтом наших надежд и страхов стала глобализация»[30]. Сегодня мы уже знаем, что глобализация, давно инициированная и подготовленная Соединенными Штатами, не защитила нас от кризисов. Однако поколение, жившее до 1914 г., также столкнулось с тем, что Сюзанн Бергер назвала «нашей первой глобализацией». В то время капиталы, товары и даже людские потоки циркулировали по миру почти свободно. Ностальгия по «первой волне глобализации» чувствовалась еще очень долго.
Развернувшись под эгидой Великобритании, она ознаменовалась экспансией капитализма: прежде всего в США – после завершения Гражданской войны и в Германии – после 1871 г. К 1914 г. Второй Рейх нагнал, а возможно, и обогнал Великобританию по объему торговли и производства. Что касается Франции, то она с конца XIX в. начала сдавать позиции во всех сферах, кроме финансов, – здесь она к 1914 г. по своей мощи все еще обгоняла Германию.
У этого отставания есть много причин. С 1871 по 1914 г. население Франции застыло вокруг цифры 40 миллионов человек, в то время как население Германии выросло на 25 миллионов и накануне войны достигло 65 миллионов. Французы вкладывали свои сбережения за границу, в то время как немецкие вклады питали индустриальное развитие Рейха. С 1865 по 1895 г. промышленное производство Германии выросло в три раза, тогда как во Франции оно увеличилось всего на треть! Великобритания благодаря своему флоту и мощи империи господствовала над морями и оставалась первой финансовой державой мира. Сбережения британцев инвестировались прежде всего в их бескрайнюю колониальную империю, которая наравне с США манила мигрантов из Европы.
Торжество финансового капитализма стало объектом исследования американца Джона Гобсона и австрийского социалиста Рудольфа Гильфердинга. Их выводы будут развиты Лениным, который в 1916 г. увидел в «империализме как высшей стадии капитализма»[31] причину Первой мировой войны. Однако, если обратиться к его тексту сегодня, эта экономистская схема практически не оставляет места для политических факторов: соперничество за финансовую ренту вряд ли стало спусковым крючком Первой мировой войны, как это может показаться постфактум. Если говорить о сегодняшней глобализации, то никто, кроме Жака Аттали, который взял на себя роль Пифии, никогда не говорил, что она может привести к третьей мировой войне, чей масштаб рискует оставить позади две предыдущих[32].
Напротив, большинство теоретиков?социалистов, писавших до 1914 г., подобно Каутскому, верили, что «ультраимпериализм», который тогда называли «сверхимпериализмом», приведет к тому, что крупнейшие индустриальные державы будут вместе эксплуатировать ресурсы планеты. Это убеждение разделял и Жорес: хотя он и говорил, что «капитализм несет в себе войну, как туча – бурю», на конгрессе социалистического Интернационала, собравшемся в 1912 г. в лютеранском соборе Базеля, он хвастался, что сможет отвратить «громы войны».
Недавние конфликты (противостояние Франции и Германии в Марокко в 1905 и 1911 г., Балканские войны 1912 г.) можно было предотвратить. Конечно, США воевали с Испанией, которая была вынуждена оставить Кубу и Филиппины. В 1900 г. Пекин был занят экспедиционным корпусом западных стран под командованием немецкого маршала фон Вальдерзее. Англичане в 1903 г. не без труда победили южноафриканских буров. Японцы в 1904–1905 гг. разбили русскую армию и флот в Маньчжурии и под Цусимой. Однако эти конфликты были локальными. И они, как всем казалось, лишь чуть корректируют баланс сил между великими державами. Россия при посредничестве Америки заключила мир и уступила Японии Порт?Артур. Британская империя, без сомнения, стояла на пороге «перенапряжения» (если использовать термин, созданный гораздо позже историком Полом Кеннеди для описания Американской империи), но кто тогда это понимал?
Конечно, противоречия между странами никуда не исчезли. Так, на Балканах отступление Османской империи и пробуждение национализма под славянскими (в Сербии и Болгарии) и православными (в Греции и Румынии) знаменами рикошетом подтачивало полиэтническую империю Габсбургов и разжигало соперничество между ней и Российской империей, которой казалось, что перед ней открывается путь к проливам и прямому выходу в Средиземноморье. Однако со времен Крымской войны статус Босфора и Дарданелл был закреплен международными соглашениями, гарантировавшими всем право пользования проливами. О чем тут можно было беспокоиться?
Первая волна глобализации, само собой, выглядела совсем иначе для так называемых «цветных» народов: колониальные державы разделили между собой почти весь мир. За исключением Эфиопии, Сиама и Афганистана, которые сохранили свою независимость, их ждал удел колонии. Даже в тех случаях, когда формально страна избегала подобной участи, колониальные державы вступали в борьбу за сферы влияния, а позже, как это случилось с ослабшим Китаем, Персией или Османской империей, принимались делить их наследство. Даже в Латинской Америке, по наблюдению Ленина, финансовое влияние Англии было так велико, что целые страны, такие, как Аргентина, по сути, превратились в протектораты.
Казалось, что мир установился прочно и альтернатив у него нет: кто мог быть заинтересован в том, чтобы разорвать плотное переплетение всех коммерческих и финансовых связей между странами? Конечно, столкнувшись с усилением Германии, Великобритания сблизилась с Францией («Сердечное согласие», 1904 г.), а потом и с Россией (Тройственное согласие, 1908 г.), однако Лондон отказался брать на себя обязательство автоматически вступить в войну в случае агрессии против одного из его союзников. Одновременно Великобритания отказалась гарантировать Германии, что «при любых обстоятельствах» сохранит свой нейтралитет. Иначе говоря, Британия, находясь на вершине своего имперского могущества, старалась «сохранить себе руки развязанными». Равновесие сил между Тройственным союзом (Германия, Австро?Венгрия, Италия) и Тройственным согласием (Антантой) казалось гарантией мира. Их монархи были двоюродными братьями и называли друг друга по имени (сегодня та же привычка распространяется под влиянием моды на все американское).
Так, после случившегося 28 июня 1914 г. убийства Франца Фердинанда, наследника королевской и императорской короны Габсбургов, которое быстро окрестили «инцидентом в Сараево», власть имущие отправились отдыхать: германский император Вильгельм II – на норвежские фьорды, а президент Франции Раймон Пуанкаре вместе с председателем совета министров Рене Вивиани – в круиз, который должен был доставить их в Санкт?Петербург, Стокгольм и Копенгаген. Только что завершились одиннадцатые гонки Тур де Франс (28 июня – 26 июля)[33].
Ставка на войну
6 июля 1914 г., вскоре после убийства эрцгерцога Франца Фердинанда сербским националистом из Боснии, немецкий Генштаб и правительство стали подталкивать Австро?Венгрию воспользоваться покушением, чтобы нанести смертельный удар панславянскому национализму на Балканах и приструнить Сербию, если понадобится – силой оружия. Замысел состоял в том, чтобы политически поддержать важнейшего союзника Германии, которому после Балканских войн угрожала территориальная дезинтеграция.
Даже сегодня просвещенная публика не до конца понимает, насколько в начале XX в. была слаба Дунайская монархия, неспособная справиться с подъемом славянских народов (чехов, поляков и сербов), поскольку ни одна из господствовавших наций (немцы и венгры) не была готова на «тройственную» монархию и уж тем более на федерацию дунайских народов под эгидой Габсбургов. Император Карл I, наследник Франца Иосифа, в 1917 г. предложит такой проект, но уже слишком поздно.
В 1908 г. Австро?Венгрия вопреки договорам, которые предоставляли ей лишь право протектората над Боснией и Герцеговиной, их аннексировала. Существовала опасность, что австрийское вторжение в Сербию спровоцирует вмешательство России, которая считала себя покровительницей славянских народов. Балканы были настоящей пороховой бочкой, похожей на сегодняшний Ближний Восток. «Панславизм» как идеологию, скорее, поддерживала не Россия, а малые славянские народы Балкан и Центральной Европы. В этом регионе Россия играла примерно такую же роль, как сегодня США на Ближнем Востоке, и претендовала на то, чтобы служить посредницей в конфликтах, в которых сталкивались славянские народы, например, Сербия и Болгария в 1913 г. Поэтому попытка навязать России «прото?Мюнхенский сговор»[34] была для центральных империй весьма рискованна. Такое «требование гарантий», которое Германия советовала Австро?Венгрии[35], означало бы для России поражение «братского народа».
Ни начальник немецкого Генштаба Гельмут фон Мольтке, ни тем более рейхсканцлер Бетман?Гольвег, без сомнения, не стремились к всеобщей войне, однако в начале июля они пошли на (плохо) просчитанный риск: войну, которая могла распространиться на всю Европу в том случае, если бы дипломатам не удалось удержать конфликт на Балканах. Но для того чтобы ситуация повернулась в пользу центральноевропейских империй, требовался распад Антанты либо из?за нерешительности России, либо из?за колебаний Франции. Однако Антанта не дрогнула. Лидеры Германии стремились не только, как говорил кайзер Вильгельм, «покончить с Сербией», но и «прощупать намерения России». В письме от 17 июля, адресованном немецкому послу в Лондоне, министр иностранных дел Рейха фон Ягов писал: «Россия не готова к войне. Франция с Англией тоже сегодня, кажется, не стремятся к конфликту. Через несколько лет Россия реализует свои военные проекты и будет в состоянии нас сокрушить. […] Я не стремлюсь к превентивной войне, но, если конфликт все же вспыхнет, мы не должны отступить»[36].
Едва ли имеет смысл упрекать Антанту в том, что она вообще появилась на свет, как это делают во Франции хулители союза с Россией, а в России – ненавистники союза с Францией. Не стоит забывать, что Тройственный союз возник еще до Антанты – в 1882 г., а Двойственный союз между Германией и Австро?Венгрией так вообще в 1879 г. Альянс между Францией и Россией фактически сформировался в 1890?е гг. Англия стала сближаться с Францией после 1903 г. прежде всего из опасений, вызыванных необдуманным наращиванием военного флота, которое начали Вильгельм II и адмирал фон Тирпиц, назначенный в 1897 г. морским министром. Конечно, можно сделать вид, что международная политика не зависит от сложившегося баланса сил (даже тогда, когда она как минимум в теории, определяется нормами права) и возложить всю вину на «политику блоков», со всеми рисками эскалации, которые в ней заложены. Однако при том, что эти риски объективно существуют, нельзя давать политикам карт?бланш и снимать с них ответственность за непродуманные решения. За небольшим конфликтом на Балканах скрывалось гораздо более масштабное противостояние – борьба между Англией и Германией за мировое господство. Однако кажется, что лидеры центральных держав в тот момент этого просто не понимали. Они недооценили те опасения, которые их политика вызывала у Лондона, и, наоборот, значительно переоценили угрозу со стороны России.
23 июля 1914 г. австрийское правительство, дождавшись отъезда Пуанкаре из Санкт?Петербурга, направило Сербии ультиматум, на который та должна была дать ответ в течение 48 часов. Поскольку Россия призывала к сдержанности, Белград принял все условия ультиматума, за исключением одного пункта, позволявшего австро?венгерским полицейским проводить расследование на территории Сербии. Австрия восприняла такой ответ как отказ, отозвала своего посла и провела мобилизацию восьми армейских корпусов. 28 июля Вена под германским давлением объявила Сербии войну. 30?го числа глава немецкого Генштаба фон Мольтке сумел продавить это решение перед рейхсканцлером Бетманом?Гольвегом. А тот, перед тем как «броситься в бездну», попытался возложить всю ответственность на Россию, которая только что объявила частичную, а потом и полную мобилизацию. Рейх сделал вид, будто всеобщая мобилизация в России, которая из?за масштабов страны и неразвитости транспортных коммуникаций неизбежно растянулась бы на долгое время, требовала от Германии тотчас принять аналогичные меры, что фактически означало объявление войны. Возможно, как подчеркивает Жорж Соколофф, Николай II допустил ошибку, «позволив себя убедить, что частичная мобилизация была с технической точки зрения невозможна, и тем самым дал немцам предлог, которого они только и ждали»[37]. Однако, даже если он прав, это всего лишь простительный грех по сравнению с замыслом агрессии, который в течение девяти лет хранился в папках имперского Генштаба: план Шлиффена превратил конфликт, который был призван «локализовать», в мировую войну. «Локализовать» означало не что иное, как потребовать от других держав не вмешиваться в конфликт между Австрией и Сербией!
Не вызывает сомнений, что последние дипломатические демарши, предпринятые германским правительством в Вене 28 июля (телеграмма, которая была отправлена и тотчас же аннулирована), были нужны, чтобы в глазах Великобритании и немецкого общественного мнения, прежде всего социал?демократов, возложить ответственность за начало войны на Россию. «Бетман?Гольвег советует австрийскому правительству действовать так, чтобы никто не смог обвинить в развязывании войны Германию и чтобы всем стало ясно, что эскалация произошла по вине России. […] Германия не собиралась предвосхищать действия австрийского правительства. Но если бы война оказалась неизбежна, следовало обеспечить себе самую выгодную расстановку сил на международной арене»[38]. Германия лишь нехотя согласилась принять посредничество, предложенное британским министром иностранных дел сэром Эдвардом Греем: она продолжала рассуждать о британском нейтралитете и одновременно отвергла прозвучавшее из Лондона предложение созвать международную конференцию. 31 июля Великобритания вновь обратилась к Германии и Франции за разъяснениями, собираются ли они уважать нейтралитет Бельгии. Ответ Германии был уклончив, Франция однозначно ответила «да».
Германия отрезала все пути к отступлению, когда 1 августа 1914 г. объявила войну России, а 3 августа – Франции и сразу же в соответствии с планом Шлиффена вторглась в Бельгию. Тот предлагал атаковать Францию с севера, чтобы сразу же вывести ее из игры и избавить Берлин от необходимости вести войну на два фронта. Однако реализация его плана не могла не выставить Германскую империю как агрессора. Да и никакой страх перед окружением не оправдывает нарушения суверенитета Бельгии, чей нейтральный статус был гарантирован договором, заключенным еще в 1839 г.!
Нарушение бельгийского нейтралитета 4 августа 1914 г. сразу же спровоцировало вмешательство Великобритании, которого Германия еще за неделю до того рассчитывала избежать. После 1918 г. большинство немецких историков принялись опровергать тезис о вине Рейха, как он был сформулирован в 231?м пункте Версальского договора. Официальная позиция Германии возлагала ответственность на Россию, которая, объявив всеобщую мобилизацию, сделала неизбежным аналогичный ответ Германии, и на Францию, чей посол в Санкт?Петербурге Морис Палеолог, несмотря на призывы к сдержанности, которые ему передавало французское правительство, после отъезда Пуанкаре из Санкт?Петербурга слишком рьяно уверил Россию во французской поддержке. Этот тезис будет подхвачен французскими пацифистами, обвинявшими Россию в том, что она стремилась к войне, а Пуанкаре – в намерении любой ценой возвратить Эльзас?Лотарингию. Подобные построения кажутся мне в высшей степени предвзятыми: царь Николай II не желал войны. Что касается Пуанкаре, он, конечно же, был патриотом. Он не хотел ослаблять франко?российский союз, но мы не можем сказать, что он сознательно сделал ставку на войну. Он решился на нее, когда она уже была объявлена: что ему тогда оставалось делать? Вопрос об Эльзасе и Лотарингии, конечно, служил препятствием для подлинного примирения Франции и Германии. Однако находившиеся у власти республиканцы давно оставили всякие помыслы о реванше. Линия оборонительных укреплений, построенная Сере де Ривьером вокруг Бельфора, Эпиналя, Нанси и Вердена, служит тому доказательством. Французы были патриотами, но их патриотизм был лишен агрессивности. Что касается национализма «Аксьон франсез», то он прежде всего был обращен в прошлое и предназначался для внутреннего пользования.
Карл Каутский, которого новое германское правительство 13 ноября 1918 г. назначило ответственным за публикацию официальных документов, связанных с событиями, приведшими к войне, допустил ответственность Второго Рейха, но сразу же после подписания Версальского договора в июне 1919 г. его выводы были дезавуированы, поскольку многие положения договора слишком травмировали немецкое общественное мнение. Были ли у немцев основания для обиды, мы обсудим в дальнейшем[39]. Лишь в 1945 г. выяснилось, что дипломатические документы, опубликованные германским правительством в 1918 г., были изданы с серьезными купюрами[40].
Ответственность за начало войны в целом, если не исключительно, несут германские лидеры. Этот факт, установленный еще в 1925 г. Пьером Ренувеном, не был никем опровергнут за целый век исторических изысканий. Более того, работы немецкого историка Фрица Фишера[41], опирающиеся на дневник Курта Рицлера, советника рейхсканцлера Бетмана?Гольвега, проливают дополнительный свет на империалистические цели войны, поставленные немецким правительством после 9 сентября 1914 г. Фриц Фишер продемонстрировал, как амбиции Германии вели к всеобщей войне, на которую правительство Рейха сознательно сделало ставку в июле 1914 г.
Жак Дроз в своем предисловии к книге ясно показывает, почему реакция на тезисы Фишера в Германии оказалась настолько острой: «В 1920?е и 1930?е гг. Германия была убеждена, что ее лидеры не несут никакой ответственности за начало Первой мировой войны. Даже после падения Гитлера этот факт почти не подвергался сомнению: немцы были готовы признать, что Гитлер виновен в европейском кризисе 1939 г., но были убеждены, что за 1914 г. им себя упрекнуть не в чем». Его вывод таков: «Если бы [немецкие] историки поостереглись подливать масло в огонь демагогических обличений «Диктата Версаля», гитлеровская пропаганда наверняка лишилась бы одного из своих важнейших аргументов»[42].
До сих пор не утихли споры вокруг личности канцлера Бетмана?Гольвега. Заняв эту должность в 1909 г. с репутацией человека культурного и выступавшего за сближение с Лондоном, он, под влиянием «Немецкого Оборонного союза» (Deutscher Wehrverein), постепенно пришел к убеждению, что стране следует сконцентрироваться на наращивании сухопутных сил (теоретически эти взгляды были вполне совместимы). 7 апреля 1913 г., выступая с трибуны Рейхстага, он заявил о «вековом конфликте между славянами и германцами». В июле 1914 г. он, без сомнения, не стремился к общеевропейской войне, но согласился на этот риск. В разговоре с советником Куртом Рицлером он так сформулировал свою позицию: «Сначала атаковать, а потом уже любезничать с противником – так мы смягчим удар»[43]. Он не помешал Генеральному штабу начать «превентивную войну», дабы предотвратить «окружение» Германии, о котором предостерегал Генштаб. 30 июля 1914 г., как пишет Эммануил Гейсс, Вильгельм II воскликнул: «Окружение стало реальностью. […] Мы угодили в ловушку. Англия, ухмыляясь, добилась блистательного успеха в своей “мировой политике, направленной против Германии”…» Конечно, ощущение, что Германия оказалась в кольце врагов, намеренно внедрялось в немецкое общество, однако лидеры Рейха и сами отчасти в это поверили: отсюда ставка на неограниченный рост военного флота, переоценка – до Танжерского кризиса – трений между Францией и Великобританией, преувеличенный страх перед мощью России и особенно отказ считаться с опасениями, которые стремительный взлет Германии вызывал на Британских островах. Томас Линдеман точно подметил специфику свойственного Второму Рейху «дарвинистского империализма», который сводился к простой дилемме: экспансия или смерть. Экономический рост должен вести к территориальному расширению. Любые трудности на этом пути вызывают у власть имущих фрустрацию. Историк Вольфганг Момзен говорил об империализме без конкретных территориальных целей (zielloser Imperialismus), для которого характерна иррациональная агрессивность. В отличие от Германии ни французское, ни русское правительства в 1914 г. не строили никаких агрессивных планов. 88 лет спустя теория «превентивной войны» была сформулирована Джорджем Уокером Бушем накануне вторжения в Ирак в 2003 г. Тогда все, к сожалению, смогли убедиться, что вопреки распространенному убеждению демократии тоже развязывают войны. В 1914 г. аналогичной доктриной руководствовался Генеральный штаб Германской империи. По свидетельству адмирала фон Мюллера, Вильгельм II одобрил ее на военном совете, состоявшемся 10 декабря 1912 г., на котором адмирал тоже присутствовал. Правда, нельзя забывать о том, что император на многих производил впечатление одержимца…
В конце концов немецкий Генеральный штаб и крупнейшие военачальники, близкие к пангерманистским кругам, пришли к выводу, что война уже неизбежна. Так, генерал фон Бернхарди, едва выйдя на пенсию в 1909 г., вынес эту мысль в заглавие своей книги, вышедшей в 1912 г.: «Германия и грядущая война». По мнению генералитета, время играло против Германии: строительство новых железных дорог, финансируемое прежде всего французскими займами, позволит России в случае необходимости проводить мобилизацию все быстрей и быстрей. Вся стратегия, выстроенная имперским Генеральным штабом, диктовалась страхом перед войной на два фронта и опасением, что Германия может попасть в окружение (Einkreisung). Генералы планировали «за шесть недель» закрыть вопрос с Францией, чтобы затем повернуть против России. По оценкам немецкого Генштаба, работы по расширению сети российских железных дорог должны были завершиться в 1917 г. Поскольку время играло против Германии, она была заинтересована в том, чтобы война началась как можно быстрее. Вот почему немецкие лидеры так спокойно согласились с перспективой расползания конфликта.
Однако они допустили двойную ошибку: во?первых, значительно переоценили мощь России, во?вторых (если встать на их точку зрения), не смогли гарантировать, что Британия останется в стороне. Нарушение бельгийского нейтралитета, которое предусматривал план Шлиффена, не могло не спровоцировать ее на объявление войны. Более того, Германия упорно отказывалась ограничить усиление своего флота, что могло бы успокоить Британию, озабоченную экспансионистскими планами Второго Рейха. Помимо военно?морского флота, Германия под влиянием Альберта Баллина[44] – генерального директора компании «Гамбург – Америка?лайн» (HAL), более известной как HAPAG[45], – также создала мощный торговый флот (970000 тонн в 1900 г., 3000000 тонн – в 1914 г.). С верфей Германии сошло три колоссальных трансатлантических лайнера: Deutschland, выигравший в 1900 г. «Голубую ленту Атлантики», Kaiser Wilhelm (1902–1907 гг.) и Imperator (1912 г.), ставший самым большим лайнером в мире и превзошедший размером «Титаник»!
Если бы кто?то в Германии хотел избежать конфронтации с Англией, то план Шлиффена, разработанный имперским Генштабом, был не просто преступен, а откровенно безумен, и нам бы пришлось признать, что германские лидеры того времени не смогли или не сумели ему воспротивиться.
Ради справедливости стоит отметить, что Рейхстаг не был заблаговременно о нем информирован. Общественное мнение Германии не стремилось к войне. «Дух 1914 года», с его национальным единодушием, восторжествовал лишь после того, как она уже была объявлена: в сознании немцев слилось убеждение, что они встают на защиту родины, и мечта о величии, которое Германия перед лицом западных демократий давно заслужила. Немецкое общественное мнение искренне уверовало в сказку об «окружении». В глубине души оно считало положение Германии несправедливым: разве не пришло время, чтобы и она, вслед за Францией и Великобританией, заставила мир признать свои заслуги? Бетман?Гольвег приложил все усилия, чтобы дело войны поддержали и социал?демократы, – и ему это в значительной степени удалось, так как он убедил немцев, что агрессором была Россия. Последние сомнения социал?демократов были развеяны вновь ожившим страхом перед Россией, засвидетельствованным Марксом еще в 1848 г., когда русские войска подавили венгерское восстание Кошута. 29 июля 1914 г. один из лидеров левого крыла Социал?демократической партии Гуго Гаазе заявил в Брюсселе, что немецкое правительство стремится к миру[46].
Следует тем не менее напомнить, что 3 августа во время внутреннего голосования фракции СДПГ в Рейхстаге небольшая группа депутатов, представлявших левых социалистов, отказалась поддерживать выделение военных кредитов. Французский германист Шарль Андлер, тоже придерживавшийся социалистических взглядов, задолго до 1914 г. говорил о том, что немецкая социал?демократия встраивается в систему Рейха Вильгельма II. Голосование по военным кредитам продемонстрировало, что СДПГ в нее уже полностью интегрировалась. В обмен Бетман?Гольвег посулил лидерам социалистов, что в Пруссии вместо трехуровневой системы голосования будет введено прямое избирательное право. Это обещание стало одной из причин его будущего падения: в 1917 г. немецкий Генеральный штаб не был готов к подобной «демократизации» империи.
Говоря об истоках Первой мировой войны, не стоит ограничиваться легковесными ссылками на простое «стечение обстоятельств», как это делают некоторые авторы[47], старающиеся не бередить раны Германии, – их забота была бы оправдана, если бы не искажала историческую правду.
Не стоит сводить причины войны к «эскалации союзных обязательств». У нас в руках есть нить Ариадны, которую можно распутать, обратившись к переписке между главой немецкого Генерального штаба фон Мольтке и его австрийским коллегой Конрадом фон Хётцендорфом. Ему практически приказали вторгнуться в Сербию. Это, по некоторым свидетельствам, признал сам Бетман?Гольвег, который 24 февраля 1918 г. якобы заявил: «Боже мой, да, в некотором смысле это была превентивная война… Но если война была неизбежна, […] и если военное командование – да, военное командование! – говорило, что сегодня мы еще можем в нее вступить и не быть разбитыми, а через два года уже будет поздно…». Он продолжал: «Этой войны можно было бы избежать, лишь заключив соглашение с Англией»[48]. Ту же мысль в своем дневнике сформулировал советник канцлера Рицлер.
Если взглянуть с противоположной стороны баррикад, следует констатировать, что нарушение нейтралитета Бельгии стало важнейшим поводом, но не глубинной причиной вмешательства Великобритании: она вступила в войну прежде всего из страха, что, одержав верх, Германия установит на континенте свою гегемонию. Этот страх лишь усиливался укреплением ее морской мощи – по закону, принятому Рейхстагом в 1912 г., Второй Рейх рассчитывал обзавестись 33 броненосцами и линкорами, лишь часть из которых (тринадцать линкоров класса «дредноут») успела сойти со стапелей к 1914 г. Когда 30 июля 1914 г. Вильгельм II осознал, что не может рассчитывать на нейтралитет Англии, он воскликнул: «Выбор между войной и миром целиком лежит на совести Британии! Это не мы! Германия была окружена! Против нее задумали войну на уничтожение! Германия должна была погибнуть… Эдуард VII, даже после того как умер, сильнее меня, живого»[49]. Как пишет Фриц Фишер, «им овладела давняя идея, которую он лелеял уже несколько десятилетий: уничтожить Британскую империю, спровоцировав восстание мусульманских народов… 30 июля был начат новый раунд переговоров с Турцией, которая должна была стать базой для партизанской войны против Англии»[50].
Конечно, следует разделять непосредственные поводы, которые привели к началу войны и, кажется, вполне ясны, и ее глубинные причины. Катаклизм такого масштаба не мог разразиться из?за козней или недомыслия нескольких человек. Чтобы он все?таки произошел, требовалось долгое нагнетание противоречий самого разного рода. Глубинные причины Первой мировой войны лежат в сфере экономического, коммерческого и финансового соперничества между державами, но не стоит забывать и об одном политическом факторе: конечно, в части политических кругов Германии было распространено убеждение, что из?за противодействия других держав ей самой предстоит (если понадобится, с помощью силы) отстоять свое «место под солнцем»; в то же время Британия опасалась нового «континентального блока» (теперь под немецкой эгидой), который напоминал ей о блокаде, устроенной за век до того Наполеоном. Дэвид Ллойд Джордж, тогда занимавший пост канцлера казначейства, казался всем пацифистом, но 11 июля 1911 г. в своей речи в Мэншн?хаусе заявил: «Если обстоятельства сложатся так, что мир можно будет сохранить лишь ценой отказа Англии от ее лидирующего положения […], такой мир любой ценой будет не чем иным, как унижением, которое такая великая страна снести не может»[51]. Ошибка лидеров Второго Рейха состояла в том, что они недооценили опасения Великобритании и, как позже признал Бетман?Гольвег, переоценили собственные силы в сравнении с мощью противника. Не гарантировав нейтралитета Англии, немецкие лидеры пошли на риск скорого вмешательства США (1917 г.), превративших европейскую войну в подлинно мировую.
«Франко?немецкий учебник», или Искусство экивока
Поразительно, что взгляды Франции и Германии на то, кто несет непосредственную ответственность за разжигание Первой мировой войны, с тех пор сблизились лишь незначительно. Похоже, что обе стороны просто решили этот сюжет не затрагивать. Так, франко?германский учебник для второго года лицея[52], сделанный в принципе вполне добротно, в политкорректном духе выносит этот вопрос за скобки: «Больше никому не приходит в голову возлагать на Германию и ее союзников (Австро?Венгрию) всю полноту ответственности за начало войны, как это было сделано в 231?й статье Версальского договора»[53]. Такая оценка не может не сказаться на всем последующем изложении. Учебник упоминает «мировое соперничество империалистических держав», «складывание двух противоборствующих альянсов» и «русско?австрийское соперничество на Балканах» и этим ограничивается. Он ничего не говорит о том, что союз Германской и Австро?Венгерской империй (1879 г.), а затем Тройственный союз Германии, Австро?Венгрии и Италии (1882 г.) сложились раньше альянса Франции и России (1894 г.). Что еще важнее, он вовсе не упоминает вопрос о гегемонии на континенте, который заставил Англию вмешаться в войну после нарушения нейтралитета Бельгии в соответствии с планом Шлиффена. Словно это одно из табу, которые еще слишком рано снимать. Учебник не объясняет, что, собственно, привело к «Сердечному соглашению» Франции и Британии в 1904 г., а потом к созданию тройственной Антанты – Англии, Франции и России в 1907–1908 гг. Его авторы, на мой вкус, несколько неуклюже переносят акцент на амбиции России по отношению к проливам, на дестабилизирующую роль «югославизма» в Австро?Венгрии и преступления, совершенные сербами во время Балканских войн, а преступления других сторон оставляют за скобками.
Учебник лишь однажды упоминает то, как после покушения в Сараево Германия предоставила Австро?Венгрии полную свободу действий, но признает «неприемлемый» характер ультиматума, который Австро?Венгрия выдвинула Сербии и который 28 июля 1914 г. привел к началу войны. Франко?немецкий учебник стремится к максимальной «сдержанности в оценках» и приходит к следующему выводу: «Ни последние усилия дипломатов, ни пацифистские демонстрации не помогли преодолеть кризис: дипломатические обязательства, ощущение того, что война становится неизбежной, и страх опоздать с собственной мобилизацией привели к тому, что события вышли из?под контроля»[54].
Такого рода поверхностные объяснения свидетельствуют не только о недостаточной строгости анализа, но и о стремлении из лучших побуждений утаить неудобную правду. Авторы учебника задним числом оправдывают убеждение немцев в своей невиновности, которое восторжествовало в Германии после 1919 г. Мы знаем, как им воспользовались те, кто боролся с «Версальским диктатом» и требовал отмены «ненавистной» 231?й статьи договора. При этом нельзя не признать, что в ее тексте не была проведена четкая грань между прямой политической ответственностью, которую несло руководство Германии, и моральной ответственностью, которая была несправедливо возложена на немецкий народ в его совокупности.
Та поспешность, с которой франко?немецкий учебник истории обходит вопрос о непосредственных виновниках Первой мировой войны, без сомнения, отражает взгляд, сегодня господствующий во всей Европе, в том числе и в Германии. В соответствии с ним за конкретными решениями, которые некогда привели к войне, а сейчас теряются в тумане коллективной памяти, скрываются глубинные причины, которые для простоты списываются на какую?то «систему». Эти соображения вовсе не лишены оснований, но не могут оправдать историческую амнезию и, на мой взгляд, не отменяют тщательного исследования конкретной цепи событий: сегодня мы не лучше, чем в прошлом, защищены от цинизма и недомыслия тех, кто в тиши кабинетов решает нашу судьбу. Сейчас, как и в те времена, к парламентам чаще всего обращаются, лишь когда решение о войне уже принято. Механизмы воздействия СМИ на общественное мнение стали настолько же изощренны, как и сама война, так что по сравнению с ними «промывание мозгов» в 1914 г. кажется просто дилетантскими играми. Да и «конструирование образа врага» сегодня тоже превратилось в подлинное искусство. Вот почему тщательная реконструкция и детальный анализ произошедшего в июле 1914 г. станут для политиков, которые правят нами сегодня и придут к власти завтра, постоянным призывом к бдительности.
Конечно, было бы нелепо возлагать вину за войну 1914 г. на весь немецкий народ. Однако, чтобы понять, как крошечная группа людей, которые вовсе не были монстрами: генералы Генштаба, император, канцлер и несколько высших сановников приняли такое решение, как оно без особого сопротивления было одобрено умеренной буржуазией, а потом и большинством социал?демократической фракции Рейхстага, следует разобраться, как развивалась Германия до 1914 г. и какую роль она тогда играла в Европе.
Глава II
Германия в XIX веке: страна в поисках идентичности
Распустив в 1806 г. после «Битвы трех императоров» под Аустерлицем Священную Римскую империю германской нации, а потом разгромив Пруссию под Иеной, Наполеон заслужил, чтобы его вспоминали как одного из творцов германского объединения. Эту мысль еще в 1940 г. отстаивал Франсуа Миттеран: «Только разрушив Священную Римскую империю, император французов упразднил паутину границ […], создал фундамент для национальной идеи и принес [Германии] единство»[55].
Перемешав друг с другом народы, Священная Римская империя на восемь веков лишила немцев ясных границ. В 1000 г. она, помимо Германского и Итальянского королевств, включала Богемию?Моравию, Восточные марки, лежавшие по ту сторону Эльбы, а также герцогство Лотарингию и королевство Бургундию, протянувшееся от Марселя до Безансона. Конечно, Священная Римская империя принадлежала германской нации. Германцы всегда помнили о том, что, после того, как их племена наводнили Римскую империю, она была разделена между их королевствами. В 800 г. претензии на римское наследство предъявило самое могущественное из них – королевство франков, а спустя век с небольшим после раздела Каролингской империи (843 г.) король Германии Оттон I, победив венгров в битве на Лехе, вновь поднял на щит идею всемирной империи и в 962 г. короновался в Риме императорской короной. Даже если по названию Священная Римская империя была германской, ей приходилось мириться с хроническим распылением власти. Так, у немцев, разделенных между множеством княжеств, не было собственного политического лица. «Быть немцем» значило разделять общую культуру и ничего более осязаемого. Привыкнув к переплетающимся и подвижным границам, этот разделенный народ поздно задался вопросом о своей идентичности и лишь во второй половине XIX в. встал на путь политического объединения.
Вопрос об особом пути (Sonderweg)
Зажатые между Австрией и Пруссией многочисленные Германии, т. е. три королевства (Бавария, Саксония и Вюртемберг) и различные княжества, возникшие после Венского конгресса, в конце концов вручили себя королю Пруссии. Тот сперва отверг демократическое решение Ассамблеи, собравшейся во Франкфурте в 1848–1849 гг., но спустя двадцать два года принял корону императора Германии, предложенную ему от имени германских князей Отто фон Бисмарком, ставшим в 1862 г. канцлером и министром иностранных дел Пруссии – для этого понадобились три победоносных войны: против Дании (1864 г.), Австрии (1866 г.) и Франции (1870–1871 гг.). Так Германия была объединена сверху «железом и кровью» (если воспользоваться выражением ее объединителя). Следовало бы еще добавить «с помощью хитрости», которой макиавеллиевскому гению Бисмарка было не занимать.
Второй Рейх под эгидой династии Гогенцоллернов был провозглашен 18 января 1871 г. в Зеркальной галерее Версаля: немецкие князья признали сюзеренитет прусского короля, ставшего императором Германии под именем Вильгельма I. Однако победа Пруссии стала одновременно победой аристократов над либералами: немецкая буржуазия долго будет плестись в хвосте у земельной и военной аристократии старого режима. В отличие от Франции и Англии, где буржуазия (отрубив головы своим монархам) довела до конца «либеральные революции», в Германии ее захватили идеи, которые не имели ничего общего со стремлением к равенству. Само собой, Французская революция отличается от Английской, но в Германии вовсе не произошло ничего подобного: там реформы всегда (и в 1813 г., и после 1871 г.) исходили сверху. Таков «особый путь» (Sonderweg) Германии, зажатой между Востоком и Западом, между юнкерами и промышленными магнатами Рура, между монархической традицией и либеральной парламентской демократией.
Те, кто сегодня в Германии отвергает тезис о ее «особом пути», реагируют так, будто от них кто?то требует признать прямую преемственность между немецким романтизмом и нацизмом и тем самым выставить национальную идентичность немцев как некую неизменную сущность. Подобный тезис действительно звучит абсурдно. Как и прочие нации, Германия многолика, и на каждом этапе истории перед ней открывалось поле возможностей. Однако она прошла собственный исторический путь, складывающийся из политических и социальных событий, которые принадлежат ей и никому другому. Этот путь заслуживает того, чтобы в нем разобраться. Между странами без труда можно отыскать точки соприкосновения: многие течения мысли и художественные направления были общими для всей Европы. Однако у разных наций одновременно есть собственные национальные черты, о которых, во имя взаимопонимания между народами, следует говорить свободно. Например, можно, вслед за Йошкой Фишером[56] задаться вопросом о том, существует ли в немецкой истории после 1813 г. некая общая линия, различимая a posteriori.
Очевидно, что у Германии есть «особый путь», который отличает ее от Франции и Англии, точно так же, как есть он и у России, Китая, Турции и других стран, которые вошли в современный мир, не пройдя через «либеральную» революцию. Из?за того, что Священная Римская империя германской нации дожила до начала XIX в., Германия в отличие от Франции и Англии поздно пошла по пути строительства национального государства. Кроме того, ее запоздалое единение было достигнуто благодаря усилиям сверху. Французам казалось, что они понимают немцев по работам немецких философов и музыкантов. В своих «Воспоминаниях детства и юности» Эрнест Ренан писал: «Я изучил Германию, и у меня было чувство, что я вхожу в храм». Создание Германской империи в 1871 г. застало французскую интеллигенцию врасплох.
Гюго, Ренан, Литтре и другие обнаружили, что подлинная Германия (больше) не похожа на ту страну поэтов и музыкантов, как ее в 1810 г. описывала Жермена де Сталь[57]. Французская интеллигенция могла бы в этом убедиться, если бы прислушалась к предостережениям, прозвучавшим в 1834 г. из уст Генриха Гейне[58] – немецкого писателя и поэта еврейского происхождения, который после июльской революции 1830 г. поселился в Париже и которого до сих пор кажется неудобным цитировать, поскольку он вовсе не предавался телеологии (то есть реконструкции целостности a posteriori), а действительно оказался пророком!
Травма 1871 г. стала для Франции потрясением. Клод Дижон писал о «немецком кризисе французской мысли»[59]. Сложившийся во Франции образ Германии требовалось радикально пересмотреть. Литтре, который до 1870 г. был влюблен в немецкую культуру, обнаружил «в центре Европы массу солдат, способных перейти в сокрушительное наступление». «Следует быстрее перевооружаться», – сделал он вывод. Точно так же Лависс, вернувшись из научной поездки в 1886 г., писал: «Мы чувствуем, что нам пора собрать свою волю, и нас подталкивают к этому грубыми ударами шпор».
Потрясение 1871 г. также заставило Францию пересмотреть представление о самой себе, а Третья Республика была вынуждена напрячь все силы, чтобы унаследованная Революцией идея нации как сообщества граждан не пала под натиском идентитарной (скорее культурной, чем этнической) концепции, проповедуемой Барресом, а позже под напором позитивистского роялизма Шарля Морраса, подпитывавшего антисемитский национализм «Аксьон франсез». На смену идеализации Германии пришло мощное отторжение, которое, конечно, подпитывалось воспоминаниями о потерянных провинциях Эльзас?Лотарингии, но целиком ими не объяснялось: чувство унижения, вызванное неожиданным и потому необъяснимым поражением, вызвало у французов сильнейший комплекс неполноценности. Им не хотелось знать о том, что консервативная буржуазия согласилась на поражение, чтобы сохранить свою власть: Базен из ненависти к Республике сдал Мец, а Тьер запросил перемирия, чтобы усмирить Париж… и разобраться с теми республиканцами, кто был не так консервативен. Национальное унижение пробудило реваншистские настроения, которые быстро были использованы политиками и еще больше исказили образ Германии. Трудно без иронии (или изумления) читать короткий роман Барреса «Колетт Бодош» (1909 г.), в котором чистая лотарингская девушка противопоставляется своему жильцу?немцу, преподававшему в Меце немецкий язык. Вернувшись с попойки, он падает с лестницы и, обдав их пивными парами, говорит Колетт и ее матери, которые пытаются дотащить его в комнату: «Извините, так уж мы приучены».
Недоверие Франции к могущественному соседу усиливалось еще тем, что Бисмарк с помощью ловкой дипломатии заставил всю Европу от нее отвернуться. В то время как в Германии торжествует воинственный оптимизм, Франция замыкается в себе. В течение десяти лет после поражения она «сосредоточивается», а потом попадает в мальтузианскую ловушку, которая контрастирует с мощным экономическим и демографическим ростом Германии. Страх перед «прусским милитаризмом» подпитывался быстрым перевооружением армии, предпринятым при Вильгельме II. Жак Бенвиль в 1906 г. писал: «Немцы возвратились к своему первоначальному состоянию: “индустрия войны и война за индустрию” – таким мог бы стать их девиз». Французские путешественники, побывавшие на том берегу Рейна, восхищенно рассказывали, как эффективно внедрялись в промышленность научные открытия (химия, электричество) и как блестяще функционировали немецкие учреждения (кредит, профсоюзы, транспорт и т. д.). Эжен Мельхиор де Вогюэ писал в 1905 г.: «Моя Германия преобразилась. Добрая старушка превратилась в юную великаншу». Однако на первых порах речи, звучавшие в пангерманистских кругах, не вызывали ничего, кроме улыбки…
Лишь после 1905 г. Франция приняла пангерманизм всерьез. Что же он в действительности собой представлял?
Расположенная в сердце Европы, Германия, без сомнения, превратилась в мощнейшую силу на континенте, которую на востоке сдерживала лишь мощь России, а на западе – англо?саксонские империи. Франция, где была установлена Третья Республика, кое?как продолжала сопротивляться. Сделав ставку на прибыльные инвестиции за границей, она почти осталась в стороне от второй промышленной революции (электричество, химия…). Правилен был этот путь или нет, но она стремилась компенсировать все более заметную утрату позиций в Европе за счет колониальной экспансии на юг. Французский проект назывался «Республика», однако и в своей внутренней, и в своей внешней политике она далеко не всегда следовала республиканским принципам. Франция просто не поняла, что с ней случилось, и не заметила, как Германия расправила плечи. Она все еще смотрела на мир так, словно времена Наполеона не ушли в прошлое, и не заметила ничего из того, что произошло на другом берегу Рейна после 1815 г.
Однако после Реставрации 1815 г. Германия не только предалась мечтам об объединении, но и активно погрузилась в поиски собственной идентичности. Литература, искусство и философия XIX в., над которыми возвышается олимпийская фигура Гёте, умершего в 1832 г., свидетельствуют о тех вопросах, которые волновали немецкое общество. Написав в 1774 г. «Страдания молодого Вертера», поэт стал одним из предвозвестников романтизма. В конце пути он пришел к классицизму «Фауста», «Вильгельма Майстера» и «Разговоров с Экерманном». Наряду с Кантом и Гегелем он воплощает немецкое Просвещение (Aufkl?rung). Это была эпоха, когда лишь зарождающаяся Германия, в духе скончавшегося в 1768 г. Винкельмана – создателя истории искусства, представляла себя «новой Грецией» или сестрой Италии. Вот почему на прекрасной выставке, посвященной немецкой живописи с XIX в. до 1939 г., которая открылась в Лувре[60] весной 2013 г., мы видим полотно Иоганна Фридриха Овербека, на котором склонились друг к другу две девушки, Italia и Germania. То, насколько Германия была очарована «римско?германским» прошлым, видно и по картине Франца Пфорра (1808 г.), изображающей въезд Рудольфа I Габсбурга, основателя императорской династии, в Базель. Чтобы понять подобную ностальгию, следует вспомнить, что всего двумя годами ранее, в 1806 г., Наполеон распустил Священную Римскую империю. Множатся живописные школы, которые, подобно «назарянам» и «немецким римлянам» (Deutschr?mer), размышляя о будущем Германии, устремленной мечтами к единству (это было во времена студенческих лиг – Burschenschaften), ищут точку опоры и вдохновение в античности и у мастеров итальянского Возрождения.
Выставка в Лувре спровоцировала на том берегу Рейна глупейшие споры. Понятно, что историю немецкого искусства нельзя «деконтекстуализировать», а монополия на его интерпретацию вряд ли может принадлежать самим немцам. Обвинения, звучавшие в адрес организаторов выставки со стороны немецкой консервативной прессы, прежде всего Frankfurter Allgemeine Zeitung, как писала берлинская газета Tagesspiegel, «больше говорят не о Франции, а о чувстве неуверенности, которое все еще царствует в интеллектуальной жизни Германии»[61].
Можно ли рассматривать искусство как воплощение духа народа и при этом не скатываться к редукционизму? Такая опасность действительно существует, но не бывает искусства, которое было бы полностью оторвано от той почвы, на которой возникло. Очевидно, что немецкая живопись XIX в. отражает сомнения, которые после Реставрации 1815 г. охватили раздробленную «Германскую конфедерацию», балансировавшую между двумя полюсами: Веной, столицей Габсбургов, и Берлином, столицей Пруссии, и лишь усилились после поражения революции 1848 г. Это время, когда друг с другом столкнулись два проекта: «Великой Германии» в рамках империи Габсбургов и однородной «Малой Германии» под эгидой династии Гогенцоллернов. В 1849 г. Фридрих?Вильгельм IV отказался от императорской короны, которую ему предложила Франкфуртская ассамблея, избранная всеобщим голосованием. По его словам, эта корона была «обесчещена запахом мертвечины, который оставила Революция»[62].
Живопись прекрасно отражает противоречия, присущие той эпохе, когда политика все еще вершилась владетельными родами, но немецкий народ, лишенный привычных рамок Священной Римской империи, уже устремился на поиски своего пути. Само собой, живопись говорит не только об этом. Совсем не случайно, что романтизм так расцвел именно на немецкой почве (Новалис и Гёльдерлин в поэзии, Шуман в музыке, Каспар Давид Фридрих в живописи); однако он приобрел влияние и во Франции – вспомним о Делакруа, Берлиозе, Гюго и др. Романтизм восстает против мира, который он не в силах изменить, душного буржуазного мирка, где нет места для возвышенных устремлений души. «Из моей великой скорби песни малые родятся», – скажет иронично Роберт Шуман. Историческая живопись также свидетельствует об ощущении бессилия: в 1848 г. Адольф фон Менцель пишет «Почести погибшим в мартовские дни», в 1857 г. – картину, посвященную странной встрече Фридриха II и Иосифа II в Нейсе (1769 г.), как будто живопись могла предотвратить столкновение двух держав при Садове (1866 г.). От Садовы осталась только картина «Трое мертвых солдат, лежащих на земле» (1866 г.), которая предвосхищает работы, созданные Отто Диксом и Максом Бекманом после Первой мировой войны. После Садовы Менцель отказывался писать батальные сцены.
Так, во второй половине XIX в. Германия постепенно расстается со своими «аполлонийскими» мечтаниями. Немецкое единство было выстроено Бисмарком сверху и с помощью войны. Последствия этого чувствовались еще долго как в общественных настроениях, так и в устройстве государства. В 1914 г. военные вопросы все еще находились вне ведения демократического парламента, оставаясь на усмотрении императора и Генерального штаба.
В 1871 г. в дверь постучал Дионис – вышла работа Ницше «Рождение трагедии из духа музыки». Конечно, в своей «первой книге» молодой Ницше не полностью избавился от Аполлона, а лишь провозгласил первенство дионисийского начала, т. е. священного буйства. Для него суть Греции воплощена не в Афинах риторов и философов, а в архаической Греции – стране художников и музыкантов, где по лесам бродили сатиры и плясали вакханки. Было бы непростительным упрощением ставить знак равенства между Ницше и его временем, от которого он неустанно открещивался. После выхода в свет его книги «Человеческое, слишком человеческое» Вагнер порвал с ним всякие отношения. Ницше ответил ему в 1888 г. книгой «Казус Вагнера». В том самом 1871 г., когда философ предложил свою трактовку греческой культуры, открытие Пергамского алтаря (который ныне хранится на Музейном острове в Берлине) перевернуло представления о греческом искусстве. На смену идеализму Парфенона, как его представлял Винкельман, пришел реализм экспрессивной и монументальной скульптуры.
В те же годы Вагнер совершил переворот в опере. Вместе с музыкой, которая как будто звучит из иных миров, он воскресил легенду о Нибелунгах и древнюю германскую мифологию. Вся Европа стекается в Байройт и восхищенно внимает Вагнеру. Художник Арнольд Бёклин демонстрирует зрителю резвящиеся тела наяд («Игры наяд», 1886 г.). В начале XX в. вокруг его живописи, которая тогда была очень популярна, разразится горячая полемика о сути современного искусства. Генрих Тоде, профессор истории искусств в Гейдельберге, видел в Бёклине воплощение подлинно немецкого искусства, порвавшего с французским импрессионизмом.
Стоит ли упрекать выставку, прошедшую в Лувре, за то, что она показала, как после объединения Германия предалась спорам о том, что является «немецким», а что – нет? Вопрос о культуре (Kultur) приобрел национальную значимость. Бисмарк в 1871 г. повел войну (Kulturkampf) против католицизма, а также эльзасского и польского меньшинств, чтобы создать гомогенную немецкую нацию. В начале XX в. оформилась оппозиция между «культурой» (Kultur) и «цивилизацией» (Zivilisation): «культура» виделась как совокупность духовных ценностей, присущих германскому миру, а искусственная и материалистическая «цивилизация» отождествлялась с западными демократиями. Однако разве эта оппозиция не свидетельствует о том, с каким трудом в Германии приживалась идея универсальности человеческого рода? Нет ничего оскорбительного в утверждении, что Германия, поздно сформировавшаяся как нация, в XIX в. пребывала в поиске своей идентичности. Об этом можно судить по тому, сколь критично Ницше в «Веселой науке» (1882 г.) высказался о германском единстве: «Мы, безродные […] не любим человечества; но, с другой стороны, мы далеко и не “немцы”, в расхожем нынче смысле слова “немецкий”, чтобы лить воду на мельницу национализма и расовой ненависти, чтобы наслаждаться национальной чесоткой сердца и отравлением крови, из?за которых народы в Европе нынче отделены и отгорожены друг от друга, как карантинами».
Поворот 1890 года
Через год после того, как Вильгельм II отправил в отставку Бисмарка (1890 г.), по инициативе националистов?интеллектуалов, консервативных парламентариев и промышленников, среди которых заметную роль играли Альфред Гугенберг, Фридрих Альфред Крупп и Фридрих Ратцель, основатель политической географии, формируется Пангерманский союз (Allgemeine Deutsche Verband)[63]. Хотя число его членов всегда оставалось невелико (40000 на пике; 16000 накануне роспуска «за ненадобностью»), он со временем превратился в мощную лоббистскую группу[64]. С самого начала в нем существовало два направления: сторонники колониализма, которые ратовали за создание мощного военного флота, и течение, которое можно было бы назвать европейским. Его адепты подчеркивали центральное положение Германии на континенте и требовали усиления сухопутных сил, способных выкроить для Германии обширную колониальную империю в Восточной Европе. Так что Пангерманский союз отстаивал два противоположных видения будущего, одно из которых неизбежно столкнуло бы Германию с Англией, а другое – с Россией. Пангерманизм был порождением молодой и до сих пор не обретшей себя нации.
К несчастью Германии, в 1890 г., за год до основания Пангерманского союза, новый император Вильгельм II, отправив Бисмарка в отставку, тотчас же демонтировал важнейшую опору возведенной им дипломатической конструкции. Бисмарк, который был категорически против попыток Германии создать собственную колониальную империю или слишком большой военный флот, который вызвал бы беспокойство у Англии, задумал, дабы обеспечить безопасность Рейха, заключить двойственный союз с Австрией и с Россией (несмотря на то, что интересы обеих империй сталкивались на Балканах). Заключая русско?германский союз, окрещенный «договором перестраховки»[65], Бисмарк рассчитывал на понимание со стороны других держав, «насытившихся» завоеваниями и потому по своей природе консервативных. По этому договору Германия была обязана вмешаться, только если бы одна из двух империй, Российская или Австрийская, подверглась чьей?то агрессии на своей территории. В любом ином случае Германия могла сохранить нейтралитет. Эмиль Людвиг показывает, что, руководствуясь такой здравой логикой, Германия в 1914 г. никогда бы не рискнула вступить в войну с Россией из?за второстепенного конфликта между Австрией и Сербией. Отказавшись продлять договор о перестраховке с Россией под предлогом того, что та выгадывает от него больше Германии, Вильгельм II, только вступив на престол, сразу беспечно разрушил систему безопасности, терпеливо возведенную Бисмарком. Его преемник на посту канцлера, Лео фон Каприви, сказал ему: «Такой человек, как вы, может жонглировать сразу пятью шарами, тогда как другие справляются лишь с одним или двумя»[66].
Этим необдуманным решением Вильгельм II бросил Россию в объятия Франции и сам создал вокруг Германии то мифическое «окружение», которое двадцать четыре года спустя заставит его объявить войну России и Франции под предлогом самозащиты!
Глава III
Роль пангерманизма в развязывании войны и во время хода военных действий
Немцы до сих пор продолжают спорить о том, могла ли разумная политика в духе Бисмарка помочь им избежать катастрофы, на которую их обрекла Первая мировая война, или же причины, приведшие их в исторический тупик, следует искать глубже, в неудаче либеральной революции 1848–1849 гг. и в том, что германское единство было выковано сверху «железом и кровью»: в подчиненной и не слишком либеральной буржуазии и сплоченной против идеалов 1789 г. аристократии, которые сообща сконструировали немецкую нацию в противоборстве с этими идеалами, используя Францию как пугало для сограждан.
Однако существовала и другая Германия: прошедшая протестантскую школу рефлексии, интеллектуально требовательная, рано вставшая на путь индустриализации благодаря Германскому таможенному союзу и обладавшая самым мощным в Европе движением за социальные права. Там Маркс положит на лопатки Прудона, а немецкая социал?демократия благодаря авторитету таких лидеров, как Август Бебель, Карл Либкнехт, Карл Каутский и Роза Люксембург, встанет во главе рабочего движения Европы. Не случайно именно в Германии на рубеже веков разразится важнейший спор между Каутским, который стремился сохранить верность марксистской мысли, и Бернштейном, первым из теоретиков постмарксистского ревизионизма. На недавней выставке в Лувре, посвященной Германии, можно было увидеть созданное в 1875 г. полотно Менцеля под названием «Железопрокатный завод», на котором перед нами открывается грандиозный индустриальный пейзаж. Как справедливо замечает Tagesspiegel, эта картина представляет «совсем другую Германию, строгую и укорененную в современности».
При этом не вызывает сомнений, что особенности объединения Германии в XIX в. создали благоприятную почву для ее последующих «срывов». Ни одна страна не может рассчитывать на то, что всегда найдется крупный государственный деятель, который удержит ее от ошибок. В случае Германии, внезапно ставшей доминирующей нацией в самом сердце Европы, эти ошибки, объединив против нее все окрестные державы, могли иметь фатальные последствия. Империя Вильгельма II решила одновременно погнаться за несколькими зайцами на суше и на море. Зачем ей понадобилось самой запускать маховик войны, если изобретательность и методичный ум немецкого народа обеспечили ей такие успехи в торговле и индустрии? Даже Рицлер, советник Бетмана?Гольвега, который в своей первой книге «Необходимость невозможного» (1916 г.) ратовал за то, чтобы Германия вместо Англии стала мировым гегемоном, во второй книге, «Основы мировой политики», согласился с тем, что предпочтительней сделать ставку на «поступательный рост»[67].
Иностранцы, наблюдавшие за Германией на протяжении долгого периода мира между франко?прусской войной 1870–1871 гг. и началом Первой мировой в 1914 г., были буквально поражены стремительным ростом ее населения (40 миллионов жителей в 1870 г., 56 миллионов – в 1900 г., 65 миллионов – накануне войны) и темпами ее экономического роста, который вывел Германию на лидирующие позиции в Европе. Рейх стал третьим в мире, после США и Великобритании, производителем угля. Его металлургическая промышленность (Тиссен), верфи, железнодорожная индустрия, электрические компании и химические производства начали теснить на мировых рынках английские товары. Торговая экспансия Германии опиралась на плотную сеть немецких банков.
Однако накануне войны по объему финансовых инвестиций за рубежом Германия (29,5 миллиарда золотых франков) все еще отставала от Франции (45 миллиардов) и Великобритании (94 миллиарда). Она все еще не превратилась в Geldmacht – финансовую сверхдержаву. Важная деталь: хотя у нее почти не было колоний, Германия все же изыскивает средства, чтобы финансировать одновременно свое внутреннее индустриальное развитие (впечатлявшее своими темпами) и экономическую экспансию за границей (в Австро?Венгрии, на Балканах, в Турции, России, Латинской Америке и США). В течение десяти предвоенных лет торговый оборот Германии рос быстрее (+69 %), чем английский (+51 %), который он стал нагонять и в абсолютных величинах. Товары made in Germany наводнили все рынки, в том числе и российский: накануне войны 47 % станков, импортированных в Россию, были произведены в Германии. Такой впечатляющий рост происходил под защитой умеренных таможенных тарифов. Мировая иерархия экономических сверхдержав постепенно меняла свои очертания.
Проект Центральноевропейского таможенного союза
Немецкие промышленники мечтали о создании Центральноевропейского таможенного союза (Германия, Австрия и Италия), который, подобно Германскому таможенному союзу, привлек бы соседние государства Балкан, включая Сербию и Болгарию, а также Голландию, Бельгию и, возможно, Францию.
Шарль Андлер – оригинальный автор, о котором я уже упоминал выше, – задолго до 1914 г. с озабоченностью смотрел на внутреннюю динамику Второго Рейха. Он задавался вопросом: «Сможет ли она [Франция] в длительной перспективе противостоять столь мощному экономическому и военному напору»[68]. Логика его рассуждений была такова: «Таможенный союз с государствами, где, в отличие от Германии, экономика до сих пор опирается на аграрный сектор, даст ее промышленным товарам выход на новые рынки»[69]. Однако Андлер, охваченный страхом перед усилением Германской империи, кажется, не заметил причин, по которым Франция так отстала от своей соседки: причин психологических (пессимизм), демографических (низкая рождаемость), финансовых (исход сбережений), экономических (неспособность использовать научные открытия как мотор для полномасштабной индустриализации из?за слабого роста внутреннего рынка) и, наконец, социальных (французский консерватизм, связанный с влиянием крестьянства, контрастировавший со смелыми социальными реформами, которые сверху проводил Бисмарк, и с культурой компромисса, которая смогла укрепиться на том берегу Рейна благодаря развитию немецкого профсоюзного движения и социал?демократии).
В 1888 г., т. е. за два года до отставки Бисмарка, немецкий публицист Пауль Ден, которого цитировал Андлер, писал: «Даже Франция была бы заинтересована войти в таможенный союз с Германией, чтобы выстоять в конкурентной борьбе с США». В немецких проектах реорганизации Европы, появившихся до 1914 г., Франция все реже и реже воспринималась как препятствие: ей предстояло стать большим континентальным рынком для немецких товаров; в противном случае Германии пришлось бы принять воспитательные меры, чтобы ее к этому принудить.
Каприви, новый канцлер, назначенный Вильгельмом II, возложил разъяснение своей политики на одного из самых известных журналистов из пресс?бюро на Вильгельмштрассе Юлиуса фон Экардта. В своей книге «Берлин – Вена – Рим. Размышления о новом курсе и новом европейском порядке» (1892 г.) тот призвал перекрыть России выход на Балканы, чтобы выстроить в Центральной Европе обширное пространство взаимовыгодного сотрудничества. Вся Европа могла принять участие в этом предприятии: «Невозможно покорить сердца народов, просто обещая им богатство… Промышленное и финансовое влияние Центральноевропейского таможенного союза (от Нордкапа до Малой Азии) было бы столь велико, что малые государства – Бельгия, Голландия, Швейцария, страны Балкан и, возможно, скандинавские государства – вошли бы в его экономическую орбиту».
Комментируя этот план, Андлер писал: «Соединенные Штаты Европы могут быть созданы либо в интересах всех стран, либо под давлением, с которым более слабые страны не справятся, – в любом случае гегемоном в них станет Германия»[70].
Фон Экардт стремился представить подобную перспективу в самом радужном свете: «Обширный таможенный союз, созданный по немецкой инициативе, продемонстрировал бы миру неоспоримый факт, что основание Германской империи было необходимостью и благом для всей Европы. […] Нас больше не смогли бы упрекать в том, что великое дело, свершившееся в Германии в 1870 г., привело только к всеобщему перевооружению…». Ничто не могло ярче продемонстрировать призвание объединенной Германии, чем «проект таможенной организации, открытой для всех дружественных народов». Отметим вскользь, что аннексия Эльзас?Лотарингии не слишком способствовала тому, чтобы эти радужные прожекты нашли отклик во Франции.
В 1901 г. экономист Юлиус Вольф вернулся к этой идее под более скромным названием «гибкого экономического альянса» между европейскими народами в форме «серии соглашений» между ними. На этой основе в 1904 г. будет создана «Экономическая ассоциация Центральной Европы».
Все эти проекты, в том числе тот, что фон Экардт предложил в 1892 г., кажется, предвосхищают расширение Европейского союза, который в конце XX в. включил страны, входившие в Европейскую ассоциацию свободной торговли, и, что важнее, после краха СССР – государства Центральной и Восточной Европы. Значит ли это, что через сто двадцать лет после того, как в конце XIX в. фон Экардт сформулировал свой «новый курс», его предложения реализовались? Мы увидим, что все обстоит не так просто: Европейский союз стал лишь одной из форм реализации универсального принципа свободного обмена.
В идеях Фридриха Листа, Юлиуса фон Экардта и Александра фон Пееца, рейнского экономиста, эмигрировавшего в Австрию, Андлер видел все тот же немецкий план установления гегемонии: фон Пеец предлагал перекрыть морские границы Европы с помощью таможенных тарифов, эквивалентных тем, что действуют в США, а между европейскими государствами сохранить действующие, невысокие, барьеры. Это предложение должно было стать ответом на декларацию сенатора?республиканца Генри Кабо Лоджа, прозвучавшую 7 января 1901 г.: «Торговая война с Европой уже началась. Она может закончиться лишь тогда, когда США установят торговое и экономическое господство во всем мире» (так его цитирует Александр фон Пеец).
Вопрос, который волновал Андлера, звучал так: «Если бы европейский таможенный союз появился на свет, кто пожал бы его плоды?» Может быть, старые и богатые нации: Франция и Англия? А может, этот проект «европейского треста» выгоден прежде всего молодой и нетерпеливой индустрии Германии, которая, еще не успев расправить крылья, была остановлена на взлете и прижата к обочине стремительным ростом американской промышленности? Разве в закрытом консорциуме европейских народов, защищенных общими таможенными барьерами, превосходство немецкой промышленности не станет для других наций еще более тяжким бременем, чем прежде? Вот о чем, без сомнения, мечтал Вильгельм II. После того как 7 декабря 1912 г. в Берлин прибыла миссия Хелдейна, которая должна была обменять согласие Англии на строительство железной дороги Берлин – Багдад на ограничение немецкого военного флота, Кайзер, по свидетельству адмирала фон Мюллера, его советника по морским делам, «держал себя как председатель Соединенных Штатов Европы»[71].
На практике страхи Андлера были преувеличены, так как проект таможенного союза, если и отвечал политическим установкам центральных держав, и прежде всего Германии, стал медленно продвигаться в жизнь лишь после того, как накануне войны канцлер Бетман?Гольвег вновь о нем вспомнил. Переговоры между Австро?Венгрией и Германией все еще продолжались в 1917 г.! По сути, Андлер ошибался (впрочем, это простительно, так как он писал еще в 1915 г.: «Проект Центральноевропейского таможенного союза скорее отражал цели немецких промышленников, чем самих идеологов пангерманизма».).
Охваченные эйфорией от немецкой экспансии, профсоюзы, которые Бисмарк наделил множеством привилегий, тоже мечтали отвоевать – не только для своих членов, но и для себя самих – лучшее «место под солнцем». Немецкое общество оставалось глубоко консервативным, но социал?демократы, чей электоральный вес рос с каждым годом (более трети голосов на предвоенных выборах), стояли на пороге решающего события, нетерпеливо ожидая момента, когда они смогут войти в правительство. Правящий класс смотрел на этот вопрос принципиально иначе. Консервативные круги, стоявшие у руля страны, отказывались допустить, что немецкая Социал?демократическая партия, самая могущественная в Европе и фактически стоявшая у руля Второго Интернационала, сможет когда?либо получить место в кабинете министров. Между внутренней и внешней политикой Второго Рейха существует прямая связь: 4 августа 1914 г., изображая войну, которую он только что объявил России и Франции как оборонительную, Бетман?Гольвег стремился вовлечь социал?демократов в это противостояние. Он знал, что война заставит их радикально пересмотреть свои позиции. Прежде чем войти в святая святых, совет министров, немецкая социал?демократия должна соединить свои судьбы с Рейхом. Однако первые два социалиста получили министерские портфели лишь в октябре 1918 г., когда на Германию обрушилась национальная катастрофа.
Идеология пангерманизма
Пангерманский союз, который столь активно приложил руку к краху Германии Вильгельма II, был элитарным движением: число его членов никогда не превышало 40000 человек. Его инструментом было лоббирование. И он видел себя воспитателем немецкого народа (Volk).
Даже если в конце XIX в. немецкая культура принесла блистательнейшие плоды, мы не можем закрыть глаза на то, что в Европе того времени существовали две различные концепции «народа». Первая определяла народ как сообщество граждан, эта идея была создана Французской революцией и во Франции успешно прошла через горнило «дела Дрейфуса» (капитан был реабилитирован в 1906 г.). Напротив, в Германии юридические рамки, от которых отталкивались и государство, и общество, определялись идеей Volk, «кровной общности». Эта концепция разделяла «принадлежность к народу» и «гражданство» и была обращена против евреев и поляков. Более того, в культуре того времени вокруг немецкого Volk часто выстраивается настоящий миф об искуплении. В глубине души Германия Вильгельма II была недовольна тем, что не успела принять участие в разделе мира, и явно горевала зря. На взгляд Бисмарка, ни одна колония в Африке «не стоила жизни единственного гренадера?померанца»; жизненные интересы Германии лежали в Европе. Однако в его эпоху Англия и Франция создали колоссальные колониальные империи. В ответ в Германии после 1890 г. тоже стали звучать голоса о том, что и ей пора обзавестись собственными колониями: некоторые обращали взор на Центральную Африку, но большинство думало о самой Европе, мечтая оттеснить славян как можно дальше на восток.
Председатель Пангерманского союза Эрнст Хаазе в своей пятитомной «Немецкой политике», выходившей с 1904 по 1906 г., прямо писал о том, что, дабы найти ответ на проблемы Германии, «большая война была бы наименее затратным из всех возможных решений». Так что предпосылки «европейской катастрофы», которые можно найти во всех крупных странах, были заметнее всего в Германии Вильгельма II. Конечно, милитаризм полностью завладеет немецким обществом лишь после объявления войны, когда управление страной будет возложено на Генеральный штаб. Однако влияние пангерманизма в кругах властей предержащих до 1914 г. внесло немалый вклад в то, что война действительно разразилась.
Само собой, до 1914 г. многие смотрели на пангерманизм как на «безумную утопию». «Следует опасаться того, – писал Андлер, – как бы правительства не уступили напору энергичных меньшинств, к которым они сами в начале благоволили»[72]. Однако немецкое общество в начале XX в. вовсе не было целиком охвачено пангерманскими настроениями. Немецкая культура того времени несет отпечаток исторического пессимизма, который воплощал Ницше, отрезанный от мира своим безумием после 1889 г. и скончавшийся в 1900 г., и Макс Вебер, проповедовавший превосходство общины (Gemeinschaft) над индивидуалистическим обществом (Gesellschaft). Однако не стоит забывать о блеске немецкой поэзии Стефана Георге, Райнера Марии Рильке и Лу Андреас?Саломе или прозе Томаса Манна, который в 1929 г. получит Нобелевскую премию. В архитектуре расцветает Jugendstil, а в живописи торжествует экспрессионизм. В те же годы два немца совершают переворот в физике: Макс Планк с его квантовой теорией (1900 г.) и Альберт Эйнштейн с его теорией относительности (1905 г.).
Исторический и философский пессимизм великих немецких мыслителей, писавших до 1914 г., был бесконечно сложнее тех лозунгов, которые неустанно звучали из уст таких публицистов, как Пауль де Лагард, или успешных литераторов вроде Юлиуса Лангбена. Я привожу именно эти два имени, поскольку в конце XIX в. они получили восторженный отклик в массах и стали глашатаями пангерманской идеологии[73].
Конец ознакомительного фрагмента — скачать книгу легально
[1] Prost A., Winter J. Penser la Grande Guerre. P.: Seuil, 2004.
[2] Ingrao Chr. Violence de guerre, violence g?nocide: les Einsatzgruppen // La Violence de guerre 1914–1946 (Approches compar?es des deux conflits mondiaux). P.: Complexe, 2002. P. 228–239.
[3] Mosse G. Fallen Soldiers. Reshaping the Memory of the World Wars. N.Y., Oxford: Oxford University Press, 1990.
[4] См.: Lindemann Th. Les Doctrines darwiniennes et la guerre de 1914. P.: Economica, 2001.
[5] См.: Berger S. Notre premi?re mondialisation. P.: Seuil, La R?publique des id?es, 2003.
[6] Judt T. Retour sur le XXe si?cle, une histoire de la pens?e contemporaine. P.: ?ditions H?lo?se d’Ormesson, 2007.
[7] Ibid. P. 17.
[8] Отметим, что недавно в Париже, на бульваре Альберта I, была воздвигнута статуя русского кавалериста 1914 г., держащего под уздцы своего коня.
[9] Глава Генерального штаба немецкой армии до 1906 г. и предшественник Гельмута фон Мольтке, известного как Мольтке Младший, граф Альфред фон Шлиффен в 1905 г. разработал план подавления французской обороны с помощью вторжения в Бельгию, который Германия применила в 1914 г.
[10] Le Naour J. – Y. Le Champ de bataille des historiens: www.laviedesidees.fr (P. 1, 2).
[11] Fischer F. Les Buts de guerre de l’Allemagne imp?riale, 1914–1918, pr?face de J. Droz. P.: ?ditions de Tr?vise, 1970. P. 623 (оригинальное немецкое издание вышло в 1961 г.).
[12] Rousseau F. La Guerre censur?e. P.: Seuil, 1999.
[13] Имеется в виду второй год Республики.
[14] Becker J.?J., Becker A., Audoin?Rouzeau S. 14–18, retrouver la guerre. P.: Gallimard, 2000.
[15] CRID 14–18, Collectif de recherche international et de d?bat sur la guerre de 1914–1918.
[16] Fischer J. – Stern F. Gegen den Strom, Ein Gespr?ch ?ber Geschichte und Politik. M?nchen: C.?H. Beck, 2013. P. 33, 38–40.
[17] Genscher H.?D. – Winkler H.?A. Europas Zukunft, in bester Verfassung? Freiburg: Herder Verlag Gmbh, 2013.
[18] Ibid. P. 26.
[19] Judt T. Retour sur le XXe si?cle…
[20] Chev?nement J.?P. La France est?elle finie? P.: Fayard, 2011. P. 38–44.
[21] В 1897 г. канцлер фон Бюлов заявил: «Мы не хотим никого лишать света, но мы требуем свое место под солнцем».
[22] Marjolin R. Le Travail d’une vie. P.: Robert Laffont, 1986. P. 365.
[23] Chev?nement J.?P. La Faute de M. Monnet. P.: Fayard, 2006. P. 23–26.
[24] Министр иностранных дел, а затем премьер?министр Итальянской республики, уроженец провинции Тренто, которую Италия отобрала у Австрии в 1919 г.
[25] Интервью с Клодом Шейсоном, взятое Жераром Боссюэ, профессором Университета Сержи?Понтуаз, 10 октября 1997 г.
[26] Решение Суда европейских сообществ по делу «Коста против ЭНЕЛ», 1964 г.
[27] После вступления в еврозону Латвии их станет 18.
[28] Раймон Обрак и его жена Люси были важными фигурами французского Сопротивления.
[29] Fischer J. – Stern F. Gegen den Storm… P. 33, 40.
[30] Berger S. Notre premi?re mondialisation… P. 5.
[31] Ленин В.?И. Империализм как высшая стадия капитализма // Ленин В.?И. Полн. собран. соч. 5?е изд. Т. 27. М., 1969.
[32] «Сегодня налицо все условия, чтобы угроза третьей мировой войны стала вполне реальной» (Attali J. Urgences fran?aises. P.: Fayard, 2013. P. 35).
[33] Гонщики едва успели зачехлить свои велосипеды, как их отправили на фронт…
[34] Sokoloff G. La Puissance pauvre. P.: Fayard, 1993. P. 251.
[35] Becker J.?J., Krumeich G. La Grande Guerre, une histoire franco?allemande. P.: Texto, 2012. P. 69.
[36] Ibid. P. 67.
[37] Sokoloff G. La Puissance pauvre… P. 251.
[38] Becker J.?J., Krumeich G. La Grande Guerre… P. 65.
[39] См. главу V «От краха Версальского договора к западной нормализации Германии».
[40] Prost A., Winter J. Penser la Grande Guerre… P. 53.
[41] Fischer F. Les Buts de guerre de l’Allemagne imp?riale, 1914–1918…
[42] Ibid. P. 8, 12 (предисловие Жака Дроза).
[43] Becker J.?J., Krumeich G. La Grande Guerre… P. 63.
[44] Канцлер Гельмут Шмидт – его внук.
[45] HAPAG – Hamburg?Amerikanische Packetfahrt?Actien?Gesellschaft.
[46] Becker J.?J., Krumeich G. La Grande Guerre… P. 59.
[47] Ayache G. Une guerre par accident. P.: ?ditions Pygmalion, 2012.
[48] Fischer F. Les Buts de guerre de l’Allemagne imp?riale… P. 102.
[49] Ibid. P. 95.
[50] Ibid. P. 96.
[51] См. британские документы об истоках войны: Becker J.?J., Krumeich G. La Grande Guerre… P. 41.
[52] Manuel pour les classes de premi?re L/ES/S. P., Leipzig: ?ditions Klett et Nathan, 2008.
[53] Ibid. P. 231.
[54] Ibid. P. 192.
[55] См.: P?an P. Une jeunesse fran?aise. P.: Fayard, 1994. P. 112 (статья Франсуа Миттерана «Паломничество в Тюрингию», опубликованная в 1942 г. и переизданная в: Politique 1. P.: Fayard, 1977).
[56] Fischer J. – Stern F. Op. cit. P. 43.
[57] De St?el J. De l’Allemagne [1810]. P.: Flammarion, 2 t., 1968.
[58] Heine H. De l’Allemagne [1834]. P.: Gallimard, 1998.
[59] Digeon Cl. La Crise allemande de la pens?e fran?aise (1870–1914). P.: PUF, 1959.
[60] О Германии, 1800–1939. От Фридриха до Бекмана.
[61] Tagesspiegel, 14 апреля 2013 г.
[62] Bogdan H. Histoire de l’Allemagne. P.: ?ditions Perrin, 2003. P. 295.
[63] Korinman M. Deutschland ?ber alles, le pangermanisme 1890–1945. P.: Fayard, 1999. P. 26.
[64] Ibid. P. 391.
[65] Ludwig E. Bismarck. P.: ?ditions Payot, 1929. P. 494–495.
[66] Ibid. P. 547.
[67] Lindemann Th. Les Doctrines darwiniennes… P. 301.
[68] Andler Ch. Le Pangermanisme – Ses plans d’expansion allemande dans le monde. P.: Armand Colin, 1915. P. 9.
[69] Ibid. P. 12.
[70] Andler Ch. Le Pangermanisme continental sous Guillaume II de 1888 ? 1914. P.: Louis Conard, libraire??diteur, 1915. P. XV–XVIII.
[71] Lindemann Th. Les Doctrines darwiniennes… P. 312.
[72] Andler Ch. Le Pangermanisme continental sous Guillaume II… P. LXXXIII.
[73] См.: Stern F. Politique et D?sespoir. Les ressentiments contre la modernit? dans l’Allemagne d’avant Hitler. P.: Armand Colin, 1990.
Библиотека электронных книг "Семь Книг" - admin@7books.ru