
Арктическое лето (Дэймон Гэлгут)
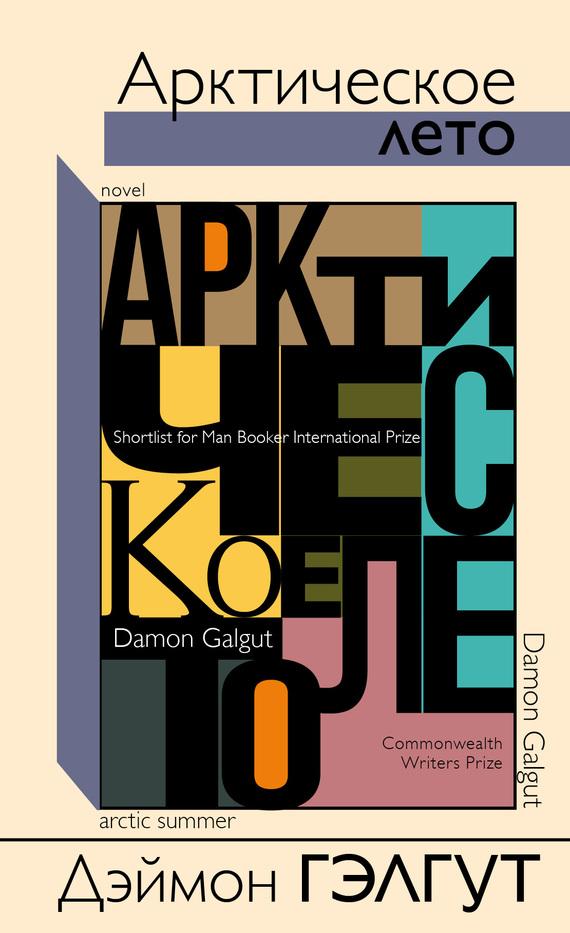
Дэймон Гэлгут
Арктическое лето
Звезды интеллектуальной прозы
* * *
Посвящается Риязу Ахмаду Миру и четырнадцати годам нашей дружбы
Оргии исключительно важны.
Как же мало о них знают люди!
Э.М. Форстер – Ф.Н. Фурбанку (1953 г.)
Глава первая
Сирайт
В октябре 1912 года пароход «Город Бирмингем», плывший по Красному морю, находился на полпути в Индию, и в один из солнечных дней на его передней палубе сошлись двое. Каждый пришел сюда своим ходом в надежде избежать участия в концерте, организованном кем?то из пассажиров; но они уже были слегка знакомы, а потому возможность пообщаться наедине не показалась им отталкивающей. Была середина дня.
Они устроились в уголке палубы, которая предоставляла им возможность наслаждаться как солнцем, так и тенью и была недоступна для свежего морского ветра. Оба принесли с собой книги, но вежливо отложили их в сторону, как только завязалась беседа.
Первому, Моргану Форстеру, было от роду тридцать три года, и он справедливо считал себя писателем. Его четвертый роман, недавно вышедший в свет, был принят настолько хорошо, что Форстер счел свои финансовые возможности достаточными для длительного путешествия. Ближайшие шесть месяцев он собирался провести вдали от дома – это было его первое бегство из Европы и второй раз, когда он надолго покидал свою мать. Его собеседником оказался армейский офицер, который возвращался в часть, стоявшую на северо?западной границе. Будучи на несколько лет моложе Моргана, молодой человек отличался привлекательной наружностью. Особенно выделялись зачесанные назад золотистые волосы и белозубая улыбка. Звали молодого человека Кеннет Сирайт.
До этого им уже приходилось беседовать, и неожиданно для себя Морган понял, что ему нравится этот молодой человек. Пароход был битком набит офицерами и их ужасными женами, но этот Кеннет Сирайт разительно отличался от армейского люда. Во?первых, молодой офицер путешествовал в одиночестве. Во?вторых, Морган заметил, с какой добротой его теперешний собеседник отнесся к единственному пассажиру?индийцу – добротой, на которую были столь скупы прочие пассажиры; и Моргана искренне тронуло это обстоятельство. Эти две особенности дали понять молодому писателю, что у него с юным офицером гораздо больше общего, чем казалось ему до этого. Хотя Морган провел на борту всего неделю, ему представлялось, что плывет он уже целую вечность. Его сопровождали трое друзей, но их компания уже начинала тяготить молодого писателя. Мыслями своими он уносился вперед, за морские горизонты. Часами без передышки Морган либо бродил по палубе, либо в бесцельной задумчивости сидел на перилах, глядя на летучих рыб, которые шлепались на бак, да на прочие водные создания, время от времени появлявшиеся из глубин, – медуз, акул, дельфинов. В такие минуты взгляд его проникал глубоко под поверхность моря. Однажды он увидел широкие алые полосы, колыхавшиеся на волнах, и ему сказали, что это рыбья икра, готовая породить мириады мальков, – нечеловеческие формы жизни, набухающие и зреющие, чтобы наконец появиться на свет в среде, чужой и враждебной человеку.
Морган же, похоже, увяз в своих отношениях с людьми. Каждое утро его встречали одни и те же лица. Корабль казался маленьким кусочком Англии, конкретно – округом Танбридж?Уэллс, который вдруг откололся от острова и отправился в самостоятельное плавание. По какой?то причине, быть может, оттого, что болтали больше других, женщины казались особенно невыносимыми. Общаясь с Морганом, женщины исходили из предположения, что он разделяет их чувства, что никоим образом не соответствовало действительности. Одна из путешественниц, молодая особа, находившаяся в активном поиске спутника жизни, пару раз исподтишка набрасывалась на Моргана, но каменное лицо писателя отвратило ее от дальнейших попыток.
Но что раздражало его более всего, так это бросаемые походя полные злобы реплики и замечания, которые он то и дело слышал за обеденным столом. Некоторые из них он занес в свой дневник, чтобы обдумать на досуге. Как?то дородная дама, которая служила медсестрой в Бхопале, между блюдами прочитала ему лекцию о том, сколь убога домашняя жизнь поклонников Магомета. Если уж детям из Англии приходится осесть в Индии, то они начинают говорить как полукровки, а это такой позор!
– А этот молодой индиец, что плывет с нами! – горячо шептала она Моргану на ухо. – Он же магометанин, правда? Говорят, в Англии он учился в приличной школе, но это что ему дало? Он?то считает, что принадлежит к нашему кругу, – просто смех!
У Моргана с молодым индийцем, имени которого он не помнил, нашлись общие знакомые, но парень был большой зануда и общение с ним не доставляло удовольствия. Морган сам относительно недавно стал избегать его компании, но антипатия, которую соседка по столу питала к индийцу, явно имела какие?то иные корни, и Моргану это было противно. Хотя эта дама не была исключением, почти все пассажиры парохода относились к индийцу с вежливым презрением. Только накануне одна из полковых дам, некая миссис Тёртон, заявила:
– Говорят, этот молодой индиец одинок. Так ему и надо. Они же не позволяют нам общаться со своими женщинами, так почему мы должны им навязываться? Если мы относимся к ним хорошо, они начинают нас презирать.
Морган хотел было возразить, но сдержался, о чем позже жалел.
Поэтому случайная встреча с златовласым юным офицером была событием вполне многообещающим. В Кеннете Сирайте крылось нечто неуловимое, что никак не вязалось ни с его военной формой, ни с его безукоризненной вежливостью.
Вначале они вели достаточно бессвязные разговоры о самом путешествии. Совсем недавно пароход прошел Суэцкий канал, и это событие – для Моргана – оказалось сродни посещению картинной галереи. Порт?Саид его разочаровал. Порт?Саид, как многие убеждали Моргана, являл собой ворота на Восток, но он не почувствовал ни запаха, ни вибраций восточной экзотики, ни ее красок – которых ждал и на встречу с которыми так надеялся. В городе был только один купол и ни одного минарета, а статуя строителя канала Фердинанда де Лессепса, одной рукой величественно указывая на канал, в другой словно сжимала связку колбасок. Конечно же, Морган сошел на берег, и арабы поначалу показались весьма привлекательными, но впечатление тут же оказалось испорчено, когда они столпились вокруг, пытаясь всучить Моргану пачки похабных открыток.
– Хотеть посмотреть что?то интим? Нету? А после чай? – верещали они.
Нет, в Порт?Саиде не было ничего воодушевляющего, ничего достойного внимания.
– За исключением угольной баржи, – предположил Сирайт.
– Да, – согласился Морган. – Именно баржи.
Конечно же, он помнил эту баржу! Точнее, те черные, покрытые угольной пылью фигуры, что в мгновение ока очнулись от ступора, в котором пребывали, и ринулись вверх по трапу, пританцовывая и переругиваясь, с корзинами угля за спиной. Когда вдруг упала темнота, одна из фигур неопределенного возраста и неопределимого пола встала на край борта с лампой, и в этом образе, в котором контрастно сошлись и глубокие тени, и ослепительно желтый свет, Моргану почудилось нечто одновременно и обнадеживающее, и пугающее.
Сирайт, как помнил Морган, находился там же. Они стояли рядом у поручней, наблюдая за происходящим. И хотя до той поры они еще не успели перемолвиться и словом, именно тогда, как вспоминал Морган, между ними и пробежала искра взаимопонимания.
Теперь они говорили о том, что их ждет по прибытии в Бомбей. До Агры они решили ехать вместе, но оттуда Сирайт направится в Лахор, а Моргану путь лежал в Алигар.
– Вы остановитесь там у друга? – спросил Сирайт.
– Да, – ответил Морган и после минутного колебания уточнил: – Он местный.
– Вот как? Я так и думал, – сказал Сирайт. – Очень рад, что это так, действительно рад. Вы ничего не узнаете об Индии, пока не наладите контакт с аборигенами, что бы кто ни говорил. У меня там довольно много знакомых. И весьма близких.
– Вряд ли ваши братья?офицеры одобряют ваши контакты.
– Между нами гораздо больше взаимопонимания, чем вы думаете, – принялся объяснять Сирайт. – Конечно, осторожность нужна. Важно знать время и место.
Он помолчал и, улыбнувшись, спросил:
– Ваш друг индус?
– Нет. Магометанин, – ответил Морган.
– Понимаю. Магометанин, – задумчиво проговорил Сирайт. – Тамошний люд считает индусов слишком чувственными – из?за их декадентской религиозной образности. С другой стороны, магометане – это люди Книги, как и мы. Могу вас уверить, что патаны – просто орда молодых дикарей, но я намереваюсь подружиться с многими из них. Это одна из радостей, ожидающих меня в связи с переводом в Пешавар. Раньше я служил в Бенгалии, в Дарджилинге, и провел там золотое время. Теперь я с не меньшим нетерпением смотрю в будущее.
Морган понял, что разговор принял странный для него оборот, и теперь они говорили о совершенно разных вещах. Тем не менее он кивнул головой:
– Я тоже.
– Вы ждете встречи со своим другом? – спросил Сирайт.
– О, да!
– Вы скучали в разлуке с ним? Как хорошо я понимаю это чувство! И мне приходилось его переживать. К счастью, в Индии вы можете легко утешиться. Это вам не Англия, там это гораздо труднее.
– Что труднее? – переспросил Морган.
– Найти утешение, – ответил Сирайт и, посмотрев на Моргана, что называется, со значением во взгляде, продолжил: – Всего пару недель назад, в Гайд?парке, я встретил конногвардейца.
Обеспокоенный и смущенный новым поворотом разговора, Морган демонстративно откашлялся и уставился на бегущие за бортом буруны. Сирайт сидел к нему вполоборота, в доверчиво?интимной позе. И вдруг после минутного молчания он заговорил о жаре. На первый взгляд это была совершенно иная тема, но она каким?то неявным образом вырастала из предыдущей. За последние несколько дней температура воздуха резко повысилась, и многие из пассажиров выходили спать на палубу. А не заметил ли Морган, что некоторые мужчины теперь носят шорты? Тем, кто постарше, этого делать не следует, сказал Сирайт, у них не настолько привлекательные ноги. И вообще, редкий англичанин может похвастать красивыми ногами – какая?то диспропорция в абрисе коленок. Однако же в Индии привлекательные ноги встречаются то и дело. Морган вскоре сам увидит, сколько там, в Индии, ног и ножек. В Индии плоть открыта гораздо откровеннее, чем дома, таковы уж здесь нравы.
Морган счел, что ему лучше никак не отвечать на это, а подождать и посмотреть, что последует за сим.
Наконец Сирайт вздохнул и промурлыкал:
– Во всем виновата проклятая жара.
– Согласен, – осторожно проговорил Морган.
– Одно вытекает из другого, – продолжал Сирайт. – Жара полностью меняет людей. Я имею в виду, люди приезжают в Индию и начинают вести себя так, как никогда не вели бы себя в Англии. И все из?за жары.
– Я буду носить пробковый шлем.
– Он вас не спасет.
– Уверяю вас, – проговорил Морган, – это шлем отличного качества.
– Не сомневаюсь, – покачал головой Сирайт. – Но спастись от самого себя он вам не поможет.
Лицо Сирайта вдруг изменилось, в его улыбке мелькнуло нечто чувственное, а возможно, и непристойное.
– Не уверен, что понимаю вас, – проговорил Морган.
– А я вот уверен, что понимаете.
В этот момент в недрах корабля послышался шум. До сидевших на палубе донеслись звуки музыки вперемешку с человеческими голосами, слегка приглушенными плеском воды, рассекаемой форштевнем. Обычный мир был рядом – рукой подать. Морган быстро огляделся, чтобы удостовериться, что они на палубе одни.
– Может быть, нам лучше сойти вниз и приготовиться к обеду? – предложил он.
Но, перед тем как он сделал первое движение, Сирайт склонился к нему и передал книгу, которую до того держал на коленях. Морган мельком глянул на протянутый ему томик, полагая, что это сборник стихотворений – такой же, какой лежал рядом с ним. Однако пухлая книжка в зеленом переплете выглядела как нечто совершенно иное, нечто более личное. На обложке было начертано таинственное слово «Педиктон», а внутри вместо типографски исполненного текста оказалась рукопись.
Хотя на той странице, которую открыл Морган, располагалось именно стихотворение.
…О, солнце Азии, волшебный Пешавар,
Где ароматом плоти загорелой
Его смущая, юный отрок смело
Любовнику себя приносит в дар…
– О господи! – воскликнул Морган. – Что это?
– Это история моей жизни, в стихах, – ответил Сирайт.
– Это вы написали?
…Но если свежесть юного туземца,
И нежная округлость ягодиц,
И томный взмах густых его ресниц
Не привлекут вниманья чужеземца,
В недоуменье скорбном взор потупив,
Ему вослед глядит он, и слеза
Туманит с поволокою глаза…
– Я же сказал, что во всем виновата жара, – громко рассмеявшись, проговорил Сирайт.
* * *
Почти не дыша, Морган передал содержание этого разговора Голдсворту Лоусу Дикинсону, когда они в своей тесной каюте переодевались к обеду. Даже теперь, по прошествии времени, Морган не освободился от шока, а пальцы дрожали, не слушаясь его, когда он застегивал пуговицы. Это было удивительно, сообщил он Голди, и так необычно! Так смело говорить с незнакомцем, так безрассудно раскрыться перед ним! Это не являлось исповедью – исповеди сопутствует стыд, а здесь не промелькнуло и тени стыда. Самым же замечательным было то, что Сирайт, похоже, гордился сознанием того, кто он таков и что собой представляет.
Морган и Голди в молчании смотрели друг на друга. Затем Голди поинтересовался:
– Он взял с тебя клятву в том, что ты никому не расскажешь?
– Нет, я думаю, он считал это само собой разумеющимся.
– Почему он верил, что ты…
– Я не знаю.
– А о себе ты ничего не рассказывал – так же смело и открыто?
– Да нет, – покачал головой Морган. – Похоже, мной он не слишком интересовался. Я немного рассказал ему о том, как живу в Англии, и он сменил тему.
– Вот как! – сказал Голди.
Он произнес это тоном, которым обычно выражают соболезнования, но то, что он почувствовал облегчение, было очевидно.
Обычно они и общались подобным образом – один делил воодушевление другого, после чего следовал бисер тонких намеков и аллюзий. Они многое умели сказать друг другу почти без слов, зная друг друга уже несколько лет, с того момента, когда Морган стал студентом Королевского колледжа, где Голди был доном[1], но их дружба расцветала неспешно и окончательно оформилась лишь недавно, когда Морган вышел из Кембриджского университета. Оба в равной степени беспокойные и нервные, возрастом обогнавшие свое время, они несли на себе проклятие безбрачья. Оба в прошлом имели несчастие любить – тайно и безответно. Они отлично понимали друг друга, а потому Морган знал, хотя Голди не проронил об этом и слова, что друг его не доверяет Сирайту. Тот, кого отличает подобная неосмотрительность, по?настоящему опасен.
Голди принадлежал к поколению, которое считало осмотрительность своей первой линией обороны. Пренебречь ею означало сделать шаг к катастрофе. Оскар Уайльд сел в тюрьму всего семнадцать лет назад. Морган, который был моложе Голди на двадцать лет, был не таким осторожным. Правда, только в теории – на практике он боялся Государства в той же степени, в какой боялся собственной матери. Свое состояние, даже наедине с собой, он не мог описать простыми и честными словами и говорил о нем только обходным путем, утверждая, что принадлежит к меньшинству. Он был одинок. В Кембридже, в своем кругу, Морган участвовал в обсуждении данного вопроса, но оно велось под безопасным теоретическим углом, словно касалось пустой абстракции. Говорить на эту тему не возбранялось; действие же – не прощалось. Пока данный предмет принадлежал царству слов, преступление отсутствовало. Но даже слова могли быть опасными.
* * *
В течение следующих нескольких дней Морган внимательно наблюдал за Сирайтом, все больше убеждаясь, что жизнь этого человека распадается на две части. Являясь публике в образе офицера, он надевал соответствующую маску, маску энергичного мужественного человека. В этой своей ипостаси он являлся офицером Личного Ее Величества Королевы Полка Западного Кента, храбрым и непреклонным защитником Королевства. Он мог громко смеяться и пить с товарищами по полку, дружески похлопывая их по плечам. Его любили и уважали, несмотря на то что он избегал женщин, которые плыли с ними на пароходе. Это была одна его ипостась, но имелась и иная, тайная, к которой Морган уже прикоснулся. Эту сторону своей природы, являющую собой истинный его характер, он открывал только тем, кому доверял. И если он сбрасывал камуфляж, то сбрасывал полностью. Тот первый разговор изумил Моргана, но затем, и скоро, последовали другие. На следующий день Морган привел Голди на бак, чтобы познакомить со своим новым другом, и почти сразу они втроем принялись обсуждать вещи, которых Морган никогда до этого не озвучивал, а если и касался, то только в своем личном дневнике, да еще и прибегая к тайнописи.
Возьмем, к примеру, коллекцию фотографий Вильгельма фон Глёдена, изрядно потертую, несмотря на аккуратное с ней обращение. Морган и раньше видел эти картинки, но в контексте, предполагающем холодное эстетическое созерцание. Сейчас же все было иначе. Изображения печальных сицилийских юношей, в свободных позах стоящих и сидящих среди античных руин и статуй, в руках Сирайта наделялись откровенной телесностью. В его голосе появлялась хрипотца, вызванная волнением и восторгом, которые он ощущал при виде нагих юношеских тел. Дерзкий и одновременно нежный взгляд над пушистыми усами.
– А взгляните?ка на этот распутный петушок, который под углом почти в сорок пять градусов отклоняется влево. Вот она, истинная красота! Я уже не говорю про яички, сколь они живописны, особенно то, что справа…
О чем бы ни говорил Сирайт, сила его слов даже мишурный блеск способна была превратить в сияние драгоценных камней. Он вслух прочитал Моргану и Голди написанный им короткий рассказ и, читая, едва справлялся с дыханием, настолько прерывистым и учащенным оно становилось в самых ярких эпизодах повествования. Он позволил им углубиться в свою эпическую автобиографическую поэму, которую назвал «Горнило страсти», и даже показал последние странички своей зеленой книжки, заполненной колонками цифрового кода – здесь, как он объяснил, был детальный отчет о его сексуальных победах, где указывались даты, места свиданий, а также возраст партнеров и количество успешно завершенных соитий. Партнерами его были по большей части юноши и молодые мужчины в возрасте от тринадцати до двадцати восьми лет, почти все – индийцы. Общее число их доходило до сорока.
До сорока! Сам Морган еще не имел сексуального опыта. Сияющие крылышки Эроса трепетали поблизости, их шум заполнял его внутренний мир, но сам божок любви был для него пока чужим и недостижимым. Прошло только три года с того момента, когда Морган до конца осознал, как в действительности выглядит соитие между мужчиной и женщиной, и ум его содрогнулся в изумлении. Чтобы произвести его на свет, его отец и мать приняли участие в подобном физиологическом акте? Немыслимое дело (но это должно было произойти, по крайней мере, дважды). Отец умер, когда Моргану не исполнилось и двух лет, и теперь, когда бы он ни созерцал своим внутренним взором картины любви, перед ним вставал образ его матери, Лили, вечно унылой вдовы средних лет. Так и сейчас, беседуя с Голди и Сирайтом, он видел свою мать.
Но мать осталась в Италии, с миссис Моу, подругой. Морган, хоть и ненадолго, был свободен от ее опеки и внимания и намеревался как следует распорядиться своей свободой. Тем не менее он пребывал в отчаянии, созерцая дистанцию, разделяющую его и Сирайта. Он понимал, что те действия, которые совершает во время своих свиданий Сирайт, равно как и детали этих свиданий, способны шокировать его, и тем не менее завидовал молодому офицеру, который так легко превращал желания в поступки. Так много секса, так много сливающихся друг с другом тел! Образы, всплывающие в сознании Моргана, беспокоили его и заставляли краснеть. Как это делает Сирайт? Как он проводит операцию по соблазнению очередной жертвы, какие слова говорит, какими жестами пользуется?
Возможно, у него талант, особый дар, которым Морган просто не обладает. Тем не менее теперь Морган увидел, что в мире есть иной способ существования, более наполненный, и, как только он понял это, все вокруг приобрело другие очертания. Все, кого он видел, наверняка вели двойную жизнь, одна из половин которой была скрыта от посторонних глаз; в каждом разговоре содержался второй, тайный смысл. Как?то вечером Морган проходил мимо Сирайта, который о чем?то разговаривал с пассажиром?индийцем, и воспринял их разговор совершенно в новом свете. Раньше он бы подумал: вот Сирайт просто беседует из душевной щедрости с индийцем, чтобы тому не было так одиноко на корабле, полном белых. Теперь же Морган думал об этом совсем не так. Сирайт и молодой индиец стояли бок о бок, негромко переговариваясь, и рука Сирайта нежно пожимала плечо собеседника. Они могли обсуждать и погоду, и маршрут парохода; но одновременно они беседовали о чем?то другом, тайном.
* * *
Размышляя обо всем этом, Морган подумал – а не друзья ли, с которыми он путешествовал, навели Сирайта на мысль о возможности познакомиться? Как и Голди, Морган был одиночкой, но они, все четверо, были людьми необычными, и им нравилось на публике подчеркивать свою несхожесть с пассажирской массой. И не исключено, что именно их странности послужили сигналом для Сирайта.
Им было хорошо вместе, и то, что они путешествовали всей компанией, было большой удачей. Голди получил от банкира и мецената Альбера Кона грант и решил использовать его для работы в Индии и Китае. Его научные интересы лежали в сфере социологии, и он собирался, каталогизируя тамошние тюрьмы, храмы и больницы, определить таким образом направление и содержание нравственного прогресса в интересующих его странах. Боб Тревильян (большинству известный как Боб Треви) решил, что для него настал подходящий момент посетить Восток, и сделать это без жены и детей – чтобы не мешали. Гордон Люс, давний знакомый Моргана по Королевскому колледжу, из Бомбея намеревался отправиться в Бирму, где его ждало назначение. Морган же – Морган путешествовал, чтобы вновь встретиться со своим индийским другом.
В глазах прочих пассажиров они были престранной компанией. Понятно, они осознавали меру своей эксцентричности и нисколько ее не скрывали. Временами они испытывали огромное удовольствие, громко обсуждая на людях такие глобальные вопросы, как достоинства прозы Достоевского в сравнении с прозой Толстого или наличие сценического таланта у Нерона, любившего, как известно, играть в римском цирке. Для офицеров, чиновников и просто путешествующих европейцев, каковые составляли основную массу пассажиров, нелепые выходки этих вечно посмеивающихся интеллектуалов были поводом держаться начеку. Однажды за чаем, когда, выстроившись в рядок, они попивали из чашек, сидевший напротив них офицер разразился диким хохотом. С виду они принадлежали к приличной публике, по сути же – не вполне. С ними не было жен, и они не участвовали в играх на палубе и в костюмированных балах, которые проводились внизу. Ирония, с которой они ко всему относились, принималась за недостаток серьезности. Поэтому их стали называть Профессорами, а иногда – Салоном. Произносилось это обычно тоном, в котором фамильярность уживалась со злобой.
В один из последующих дней Сирайт стал почетным членом Салона; отныне он восседал с Профессорами за одним столом и прогуливался в их компании по палубе. Относясь к нему поначалу с опаской, в конце концов Морган и его спутники пришли к выводу, что Сирайт им нравится. Под маской военного скрывалась поэтическая душа, настоящий романтик. Он был начитан, остроумен, и с ним было легко. Манеры у него были самые благородные, а жизнь – изумительно интересной, о чем он поведал в серии замечательных анекдотов, в которых частенько сам препарировал себя собственным остроумием. Их он рассказывал, играя своим богатым баритоном, подходящим и к громким разговорам, и к интимной беседе. Вскоре он принялся настаивать, чтобы они непременно посетили его на границе, где стоял его полк, и все согласились, что это отличная идея. Он бы свозил их на пикник к Хайберскому перевалу, соединяющему Пакистан и Афганистан, и показал бы самый край империи.
Но пока нужно было завершить путешествие на корабле, по обеим бортам которого до самого горизонта простирались искрящиеся солнечными бликами морские просторы. Многие пассажиры, в возбуждении ожидавшие появления на горизонте твердой земли, часами не отходили от поручней. Первыми предвестниками приближающейся суши послужили две бабочки, порхавшие над палубой. Заметив их, Морган воодушевился, но бабочки исчезли, а земля все еще не показывалась.
На следующее утро Треви разбудил его и сообщил, что Индия уже видна. Они вчетвером выстроились на палубе и разочарованно смотрели, как темная полоса на горизонте превратилась в то, чем и была, – в цепь печальных облаков. Но чуть позже в морской дали действительно появилось то, что, вне всякого сомнения, являлось сушей – линия красных холмов, по всей видимости, необитаемых. По одному ему известной причине Морган вспомнил Италию. Уже достаточно давно он заметил сходство береговой полосы Южной Европы и Южной Азии – и там и здесь в море выдавались три полуострова, при этом в северной части центрального громоздились горы; Цейлон же вполне мог занять место Сицилии. Но открывающуюся перед ним Италию он не узнавал, словно она явилась ему во сне, беспокойном и намекающем на некую угрозу. Наконец они прибыли под аккомпанемент соответствующих случаю суеты и скуки. Последний обед в компании совершенно несимпатичных людей – и вот уже гребные баркасы понесли их к береговой линии. Когда они приближались к берегу, Морган, сидевший на корме маленького суденышка рядом с Голди, заметил на передней банке Сирайта, который устроился рядом с молодым индийцем, и беспокойные воспоминания охватили его.
– Интересно, почему это Сирайт хотел его убить? – сказал он.
– Что? – не понял Голди. – Что ты имеешь в виду?
Морган напомнил Голди об инциденте, произошедшем около двух недель назад в Порт?Саиде. По кораблю гуляла странная история: индиец пожаловался стюарду на своего соседа по каюте за то, что тот якобы хотел выбросить его за борт. Потом, правда, они помирились и вновь стали лучшими друзьями. Тогда Морган не придал этому значения, но сейчас вместе с вопросом, который беспокоил его, воспоминание вернулось.
Голди озадаченно прищурился.
– Ты ошибаешься, – сказал он. – Это был не Сирайт.
– Вот как?
– Конечно же, не он. Сирайт рассказал мне эту историю.
– Ну разумеется, – согласился Морган, изрядно смутившись. – Не понимаю, почему я так сказал…
Не было никакой логики в предположении, что Сирайт может делить каюту с индийцем; более чем невероятная мысль. Морган не знал, как это могло прийти ему в голову. Но позже, когда он уже окончательно уверился в своей ошибке, история, которую он себе вообразил, продолжала его занимать. Страсть в тесной клетке каюты, под жарким пустынным небом, страсть, чреватая жаждой смерти, – он чувствовал, что это могло бы стать началом рассказа.
Глава вторая
Масуд
Эта поездка в Индию началась несколько лет назад, причем на суше. В ноябре 1906 года Морган и его мать уже года два как жили в Уэйбридже, в графстве Суррей, когда друживший с Форстерами сосед мистер Морисон задал необычный вопрос: не знает ли Лили кого?нибудь, кто мог бы подготовить по латинскому языку молодого индийца, собирающегося поступать в Оксфорд?
– Скажи?ка, дорогой, – спросила она Моргана, – а не было бы тебе интересно…
– Конечно, – немедленно ответил тот.
Последние два года он преподавал латынь в Лондоне, в колледже для рабочих, но его интерес к сему предмету простирался далеко за границы учебного плана колледжа. Кто был этот молодой человек с противоположного конца земли и что он делал в пригородах Лондона?
– Это непростая история, – поведала Моргану мать. – Морисоны опекают этого молодого человека. Ты помнишь, вероятно, что Теодор Морисон служил директором Англо?Восточного колледжа для магометан, где?то в Индии…
– В Алигаре, как мне кажется.
– Так основателем колледжа был как раз его дедушка. Следовательно, он выходец из весьма приличного круга.
– Не сомневаюсь, – кивнул головой Морган. – Но как он оказался под опекой Морисонов?
– Не уверена, что знаю, – ответила миссис Форстер. – Тебе придется все разузнать самому. Миссис Морисон говорила что?то, но очень туманно. Они считают его своим сыном.
– Но у Морисонов есть сын.
– Да, но теперь, похоже, у них два сына.
И Лили, которая до этого пребывала в отличнейшем расположении духа, вдруг занервничала и стала капризным голосом звать служанку, а потому Морган счел разумным ретироваться и отправился к роялю, чтобы поработать над своим Бетховеном.
Этот индиец тем не менее оставался для Моргана чем?то вроде неразгаданной загадки. Не очень значительной, но достаточно колоритной, чтобы скрасить унылое окружение, в котором Морган пребывал после выхода из университета. Прошло уже пять лет с тех пор, как он оставил Кембридж, и теперь он чувствовал, что теряет путеводную нить. Яркий и интересный мир существовал в действительности, но большей частью Моргану самому приходилось отправляться на его поиски. Редко когда этот мир сам являлся к нему, тем более по предварительной договоренности и с желанием подучить латинский перед поступлением в Оксфорд.
В назначенный день за полчаса до начала занятий Морган в возбуждении барражировал возле входной двери. Тем не менее ученик опоздал. Сайед Росс Масуд оказался высоким, широкоплечим и удивительно привлекательным юношей. На вид ему было гораздо больше, чем семнадцать – его истинный возраст. Его улыбающееся лицо – роскошные усы и печальные карие глаза – взирало на Моргана, как он потом вспоминал, с неких отдаленных высот.
Приветствуя друг друга, они пожали руки, но Масуд не сразу отпустил ладонь Моргана.
– Вы писатель. Вы опубликовали книгу, – торжественно сказал он, и в его голосе послышались осуждающие нотки.
Морган согласился со второй частью произнесенной тирады. За год до этого он действительно презентовал роман, который был очень неплохо принят читающей публикой. И теперь в комнате наверху у него лежали еще два, в разной степени готовности. Тем не менее он никак не мог толком примерить на себя костюм писателя, который, как ему казалось, совсем не шел его фигуре; он то заставлял себя влезть в него, то растерянно сбрасывал с плеч.
– Это так хорошо! Ведь писать романы – благороднейшее из искусств. Выше этого только поэзия. Вы читали стихи Мирзы Галиба? Немедленно прочтите, или я не стану с вами разговаривать! О, если бы мне довелось жить во времена Великих Моголов! Вы были в Индии? Нет? Это преступление с вашей стороны. Вы просто обязаны как?нибудь навестить меня!
Он произносил фразы низким звучным голосом и, словно совсем не ожидая ответа, все продолжал и продолжал говорить, пока они входили внутрь дома и устраивались в гостиной. Только после того, как Агнес подала чай, он неожиданно замолчал. Теперь они принялись изучать друг друга более внимательно. Масуд был одет элегантно и светски, от него пахло дорогими духами. Он был так похож на принца – и тем, как выглядел, и тем, как говорил, и тем, какие ароматы источал! Морган, напротив, выглядел помятым и изрядно потертым, отчего чувствовал себя каким?то коммивояжером средней руки.
– Так вам нужна помощь в латыни? – спросил он у Масуда.
– Нет, нет! – произнес тот. – Моей латыни невозможно помочь. Для латыни я навеки потерян.
Он принес с собой пару учебников, которые теперь сбросил на пол, в шутку изобразив на своем лице крайнюю степень отчаяния.
– Расскажите мне лучше про жизнь в английском университете, – попросил он Моргана.
– Я не был в Оксфорде. Я окончил Кембридж, – уточнил Морган.
– Мой отец тоже был студентом Королевского колледжа в Кембридже, – сказал Масуд. – Его туда послал его отец, сэр Сайед Ахмед?Хан. Мой дед хотел, чтобы Англо?Восточный колледж был как Кембридж, но только для магометан. Мой дед любил все английское, особенно английское образование. О, да! И мой отец тоже, хотя его английские друзья не всегда с ним хорошо обращались. Что касается меня, то я еще не принял окончательного решения.
– И что ваш отец изучал в Кембридже? – спросил Морган.
– Юриспруденцию. Он был присяжным поверенным. А потом стал судьей Верховного суда. Правда, впоследствии ему пришлось уйти в отставку при весьма печальных обстоятельствах.
Наконец Морган осторожно спросил:
– Как получилось, что вы стали жить с Морисонами?
– О, это интересная история. Очень интересная. Но мне кажется, я недостаточно знаю вас, чтобы ее рассказывать.
– Я не настаиваю, – успокоил его Морган. – Вы можете ничего не рассказывать.
Несколько мгновений Масуд размышлял, затем наклонился вперед. Глаза его потемнели.
– Несколько лет назад, – заговорил он, – когда мне было десять лет, мой отец совсем потерял свой ум. Он сильно пил, понимаете? Алкоголь погубил моего отца. Поэтому он и перестал заниматься юридической практикой.
– Мне очень жаль об этом слышать.
– Так вот, – продолжал Масуд. – Однажды ночью мой отец привел меня на лужайку перед колледжем. Было темно и очень холодно. Отец пытался показать мне, как пользоваться деревянной сохой. При этом он лепетал что?то невразумительное о политике в сфере сельского хозяйства. Он явно хотел чему?то меня научить. Я думаю, он хотел показать мне, что значит быть индийцем. Я страшно испугался. Моя мать тоже была напугана, и она побежала позвать мистера Морисона, который пришел, завернул меня в свое пальто и унес к себе домой. С тех пор я и живу у них.
– Понимаю, – сказал Морган, хотя на самом деле понял мало. Большая часть истории прошла мимо него.
– Это так печально, – продолжал Масуд. – Жизнь моего отца была очень печальной. Он умер вскоре после того происшествия.
Проговорив это, Масуд просветлел лицом и спросил Моргана:
– А где ваш отец?
– Он умер, давно, когда я был ребенком. Я его не помню.
– Ужасно печально, – кивнул головой Масуд.
– Я не придаю этому особого значения.
Оба посмотрели друг на друга с интересом. Морган не знал, как относиться к своему гостю, который держался с ним так откровенно – совсем не по?английски. Какая?то часть его души была бы не прочь почувствовать себя возмущенной, но вместо этого он решил, что молодой человек ему нравится, и главным образом потому, что говорит обо всем так легко и без напряжения.
И симпатия Моргана к молодому индийцу только росла в последующие недели, в течение которых они регулярно встречались. Хотя Морган и готовился к урокам, когда они садились, чтобы поработать, Масуд сразу же начинал вертеться, увиливать от дел и говорить исключительно о посторонних предметах.
Когда это произошло в третий раз, Морган попытался быть строгим:
– Вам необходимо заняться склонением существительных, – сказал он своему ученику. – Именно ради них мы здесь и сидим.
– Все это ужасно скучно, – почти простонал Масуд. – Почему бы нам не пойти погулять?
– Только когда закончим с уроком!
Масуд уныло посмотрел на Моргана. И вдруг вскочил, ухватил своего учителя за руку, толкнул его на кушетку и стал яростно щекотать. Это было невероятно – вначале нападение, а потом игра! И мгновенно в Моргане произошло нечто отбросившее его в детство, и он вдруг явственно почувствовал: вот он ребенок, утро жаркого дня, запах соломы… Ансель, сын садовника и его товарищ по детским играм, любил с ним возиться именно так. И именно в этот момент Масуд стал ему другом. Дистанция между ними исчезла.
* * *
Индия давно поселилась на периферии его сознания – но скорее как некий не вполне отчетливый образ, а не место. Среди выпускников его колледжа привычным делом, даже некой традицией, было, поступив на государственную службу, отправиться в Индию и там строить свою карьеру. Об Индии часто говорили за обедом, причем с чрезвычайной серьезностью, как о краеугольном камне империи. Однако до определенного момента Индия, которая хотя и являлась частью Англии, но находилась на противоположном конце света, не входила в число мест, которые он мог бы посетить. И когда он услышал, как Масуд говорит о своем детстве, когда в голосе своего нового друга он ощутил тоску по родине, то вдруг представил и увидел себя в этой стране. Не исключено, что однажды он туда и отправится.
Пока же его слишком занимала Англия. Особенно пригороды Лондона с их не допускающей возражений самодостаточностью. Там его жизнь и протекала, в чреде бесконечных чаепитий и дружеских, но пустых разговоров, которые он чаще всего вел с пожилыми дамами.
Одной из них была лучшая подруга его матери, Мэйми Эйлуорд.
Когда Лили сообщила ей, что у Моргана появился ученик, та подняла ладонь к лицу.
– О господи! – сказала она. – Надеюсь, он не станет воровать ложки.
Морган вежливо засмеялся, хотя ему было и не до смеха. Он умел симулировать удовольствие от подобных разговоров, но теперь возненавидел себя за притворство. Пусть он и англичанин до мозга костей, но многие ценности, исповедуемые средним англичанином, глубоко ему чужды.
Именно поэтому в Масуде Моргана более всего интересовала та его странность, тот аромат экзотики, что вошли в гостиную их английского дома вместе с его новым другом. Самый обычный предмет, когда о нем говорил Масуд, вдруг оборачивался совершенно неожиданной стороной, становился непредсказуемым. А то, что представлялось Масуду обычным делом, Моргану казалось чем?то из ряда вон выходящим.
Как, например, совершенно случайный разговор, во время которого Масуд сообщил ему, что является потомком пророка Магомета в тридцать седьмом поколении.
– А Адама – в сто двадцатом, – добавил он.
И в этот момент Морган почувствовал, насколько древним и прекрасным является божий мир.
Хотя Морган, естественно, мало что знал о магометанах, и это раздражало Масуда.
– Я тебе объясню, – терпеливо говорил он. – Нельзя пить вина. Нельзя есть свинину. Существует только один бог, а Магомет – его пророк. Нужно верить в последний суд. Да, и не есть животных, которые умерли. Даже белый человек может следовать этим простым правилам.
– Теоретически это так, – соглашался Морган. – Но я не имею отношения к религии.
– Ты хочешь сказать, что ты не христианин?
– Увы! Я потерял веру в Кембридже.
– Мой милый Форстер! Все англичане – христиане, что весьма печально. Англичане – трагическая раса. Мне их искренне жаль. Я бы хотел им помочь, но их так много, что сделать это невозможно.
Когда Масуд вскоре после этого уехал в Оксфорд, в Уэйбридже сразу же стало пусто. Здесь не осталось никого, кто был бы Моргану дорог. Но их общение продолжалось – в форме частых писем, которые помогали преодолевать пространство, разделявшее друзей. Поддерживая тон, который они для себя установили, Масуд писал в псевдовосточном стиле, тщательно выверенном и избыточно орнаментальном, где экзальтированность прекрасно гармонировала с иронией.
Он обращался к Моргану, используя принятые на Востоке пышно?почтительные формулы типа «господин сердца моего» и «свет моих очей», клялся в вечной привязанности. Так и казалось, что пишет он письма не в своем оксфордском кабинете, отделанном почерневшим от времени дубом, а в тени минаретов под звучные вопли муэдзина. Очень скоро и Морган включился в игру, начав отвечать в подобном стиле.
Вскоре он отправился в Оксфорд, чтобы навестить друга. Зима уже почти вступила в свои права; первые несколько дней пролетели как в тумане, наполненные прогулками и бессвязными разговорами. Масуд к этому моменту уже овладел всем городом, словно город был одной из его дорогих накидок, которую он мог по собственному желанию снимать и надевать вновь. Он был заинтересован не столько в своих занятиях, сколько в том, чтобы играть некую тщательно выверенную роль, хотя характер исполняемого спектакля вряд ли был ясен и ему самому. Масуду нравилось бродить во улицам Оксфорда, поигрывая тростью с серебряным набалдашником, и своим печально?мелодичным голосом декламировать Поля Верлена, либо носиться в белом теннисном костюме по корту. Он много играл в теннис, любил музыку, исполняемую на граммофоне, участвовал в розыгрышах. Он вообще любил играть.
Был он также центром небольшого кружка поклонников, большинство из которых принадлежали к его соплеменникам. Они бродили по занимаемым Масудом комнатам, словно дворня некоего изнеженного императора. Моргана в этой компании почти не замечали; он опустился ниже уровня видимости, словно шпион или ребенок. Часто разговор вокруг него вообще велся на урду, и Масуд время от времени лаконично передавал по?английски то, о чем шла речь. Но иногда все принимались говорить по?английски, хотя темы, которые они обсуждали, сами по себе были чужими для английского уха: индийские традиции, исторические деятели, о которых Морган никогда не слышал, города, о которых он не знал ровным счетом ничего.
К его огромному удовольствию, здесь изредка обсуждали и поэзию, а подчас и театрально декламировали – на урду, персидском и иногда на арабском. Темы стихотворений большей частью имели отношение к краткосрочности любви и упадку ислама. Странно было слышать лирические излияния в подобной обстановке, но Масуд объяснил ему, что на Востоке поэзия является делом публичным, а не частным, как это обстоит в Англии.
– Вы, так называемые белые люди, – говорил Масуд, – слишком боитесь своих чувств. У вас все разложено по холодным полочкам. В Индии мы открыто показываем наши чувства и никого не стесняемся.
– Почему «так называемые»? – спросил Морган.
– Потому что цвет вашей кожи далек от белизны. Я бы сказал, что ваша кожа – розовато?серого цвета. Взгляни!
Он протянул свою руку к руке Моргана, чтобы сравнить, и Морган убедился, что Масуд прав. Он никогда еще не думал о цвете своей кожи так, как Масуд. У того же цвет кожных покровов был гораздо более привлекательным.
Поэтические темы опасно соседствовали с темами политическими, которые тоже обсуждались в среде друзей Масуда. Но во время таких разговоров все начинали горячиться, в силу чего было трудно понять, о чем они говорят, хотя Морган догадывался, что все политические разговоры вертятся вокруг вопроса о независимости Индии. Только когда друзья Масуда осознавали, что Морган находится среди них, они замолкали и переходили к другой теме.
Когда Морган собрался уезжать, Масуд вложил в его руки небольшой сверток.
– Лучше будет, если ты сперва их примеришь, – сказал он. – Я не уверен в размере.
Это была пара золоченых домашних туфель.
– О! – воскликнул Морган. – Я не могу их принять, они слишком дорогие.
– Ты просто обязан их принять, – возразил Масуд, – или я перестану с тобой разговаривать.
Обхватывая ступню мягким атласным пожатием, туфли подошли идеально. На Моргане были английские брюки, и без того коротковатые, так что в этих туфлях он выглядел довольно нелепо. Но единственное, что он тогда чувствовал, – благодарность, глубокую, безграничную благодарность.
Через месяц он вновь приехал, и в завершение визита Масуд вновь сделал ему подарок. Бегло оглядев комнату, в которой тут и там лежали и стояли различные предметы индийского обихода – мозаичные панно, драгоценности, резные деревянные ящички, полные благовоний, – он почти наугад выбрал один. Это был кальян, который накануне курил Рашид, друг Масуда.
– Нет! – твердо сказал Морган. – Это я действительно не могу принять.
– Ты должен.
– Нет, спасибо, ты слишком щедр. Я безумно счастлив тем, что у меня есть те туфельки.
Лицо Масуда, на котором до того играли все оттенки доброты и дружелюбия, вдруг изменилось – странная маска холодной отрешенности закрыла его.
– Я настаиваю. И ты не имеешь права меня благодарить.
Настойчивость, с которой Масуд пытался вручить Моргану кальян, выходила за границы вежливости. Но он смягчился, когда они наконец добрались до железнодорожной станции.
– Ты не должен меня благодарить, если я хочу тебе что?нибудь подарить, – тихо повторил он. – И я тебя благодарить не стану.
– Но почему? – спросил Морган.
– Благодарят только чужие, но не друзья. Ты – моя семья. Ты благодаришь свою мать за то, что она для тебя делает? Нет, то, что она делает, разумеется само собой. Нет необходимости благодарить ее за что?либо.
– Но я благодарю свою мать, – сказал Морган. – Англичане любят говорить спасибо и постоянно всех благодарят.
– Но я не англичанин, – произнес Масуд. – И, когда ты со мной, ты тоже перестаешь быть англичанином.
Абсурдность этого заявления ничуть не умаляла чувств, стоящих за ним, и острое чувство признательности не отпускало Моргана на протяжении всей его дороги домой. Кальян, чьи полированные бока сияли отраженным светом, вызывал всеобщее восхищение – и в поезде, и в Уэйбридже. Но только оставшись в своей комнате, наедине с самим собой, Морган наконец позволил себе оценить его реальную ценность, которая состояла отнюдь не в самой этой игрушке, а в словах, которыми Масуд сопроводил свой подарок. Ты – моя семья. Эти слова навсегда останутся с Морганом. Он всю жизнь мечтал о брате, о мужчине, близком по возрасту и внутреннему миру, таком, которому он мог бы доверить самые сокровенные свои мечты. В их семье был еще ребенок, умерший незадолго до рождения Моргана, и тот всегда думал об этом создании как о брате, которого при иных обстоятельствах мог бы иметь.
Морган надел золоченые туфли, сел на край кровати, поднес мундштук кальяна к губам и почувствовал отдаленный, едва различимый аромат старого табака.
* * *
К этому времени Морган опубликовал свой второй роман. Писать его было приятно; текст изливался из души писателя так же легко, как из уст верующего изливаются слова исповеди. С другой стороны, как ни странно, местами роман казался Моргану слишком символическим и бескровным. Проблема состояла в том, что он писал о мужчинах и женщинах, а также о браке, предмете, что вызывал у него постоянные вопросы. Морган страшно тяготился тем обстоятельством, что ничего не смыслит в теме, которой посвятил свой роман и о которой, по сути, не может сказать толком почти ничего.
Книгу свою он посвятил «Апостолам», группе интеллектуалов, составляющих костяк кембриджского научно?литературного сообщества, к которым Морган сам принадлежал на четвертом году своего пребывания в Королевском колледже. Это был союз высоких умов, связанных вечными узами дружбы.
В самой истории, рассказанной Морганом, были выведены как некоторые из Апостолов, так и многое из тех бесед, что они вели. Может быть, именно поэтому роман им не очень понравился. Морган пытался скрыть, замаскировать прототипы, смешивал черты характеров разных людей, и в любом случае в его персонажах воплотился прежде всего он сам. Тем не менее один из героев его книги имел в качестве прототипа человека, который более всего нравился автору. Хью Оуэн Мередит, известный братьям?Апостолам как Хом, до сих пор занимал центральное место в сердце Моргана.
С Хомом Морган сблизился на втором году своего пребывания в Кембридже. Черноволосый атлет, открытый и чрезвычайно привлекательный. Но более всего Моргана поразила мощь его ума. Именно Хом рекомендовал Апостолам избрать Моргана в качестве нового члена их союза, хотя его влияние на сообщество студентов простиралось много дальше. Почти сразу, как только они стали друзьями, Хом взялся за религиозные убеждения Моргана. С необычайной энергией и интеллектуальным бесстрашием он нападал на них, заставляя Моргана сомневаться в том, во что тот до этого времени свято верил.
Морган был к этому готов. Религиозная форма – это одно, но содержание религии представляло собой нечто совершенно иное, и, только он начинал как следует задумываться, это содержание превращалось в пшик. Идея Троицы казалось абсурдной, а Христос представлялся безмозглым парнем без чувства юмора, который, как настоящий извращенец, высшую ценность видел в боли. Если бы Иисус сидел в соседней комнате, захотели бы вы пойти туда и поболтать с ним? Вряд ли! Христианство скорее отвлекало вас от решения насущных проблем, чем помогало их решать, и вскоре Морган полностью отказался от религии, тотчас же испытав почти физическое облегчение. И этим облегчением он был обязан именно Хому.
При всем при том сам Хом исповедовал весьма мрачное мироощущение, несмотря на внешнюю жизнерадостность. Моргана привлекали эти темные стороны его сознания; не исключено, что он надеялся излечить Хома от пессимизма. Когда они проводили время вместе, ими овладевало чувство взволнованной надежды, и радостное будущее казалось вполне возможным. Правда, что именно могло принести с собой будущее, оставалось неясным. Но по крайней мере Моргану оно рисовалось в виде некоего восторженного союза, который соединял его и Мередита.
Некоторое время это казалось почти осуществимым. Годы, проведенные им в Кембридже, были напоены ощущением полета и блеска, ожиданием того, что мир вот?вот откроет перед ним все свои сокровища и тайны. Он тогда узнал, что великие греки, населявшие древнюю вселенную эллинов, эту первую из империй, могли многое оправдать. Именно под руководством Платона он позволил себе любить не столько ум Хома, сколько его тело.
К тому времени студенческие годы Моргана подошли к концу, и он с матерью жил в гостинице в Блумсбери. Хом пребывал поблизости, занимаясь в лондонской школе экономики. Большую часть времени они проводили вместе. Однажды вечером, в разгар яростной дискуссии по поводу платоновского «Пира», они очутились на кушетке Хома, и пальцы их зарылись в волосы друг друга.
– Я люблю тебя! – сказал Морган.
Но настоящее чувство родилось только после того, как слова были произнесены; чувство яростное, свежее и истинное – в первый раз в его жизни.
С тех пор не раз повторялись и слова, и опаляющие вспышки чувства. Тем не менее никто из них пока не рискнул освободиться от одежд. Руки скользили по поверхности: кончики пальцев ласкали линию бровей, переносицу, губы. Однажды, разгорячившись как никогда прежде, Морган прижался губами к губам своего друга – неловко и неумело. Это было короткое прикосновение, сухое и мимолетное, но в голове его словно взорвался вулкан. Он вдруг почувствовал, как Хом отстраняется.
– Нам нужно соблюдать осторожность, – сказал Хом, и слова его, словно издалека, эхом отозвались в сознании Моргана.
Да, осторожность совсем не была лишней. То, что казалось столь естественным и спонтанным, по сути таило в себе опасность. Правда, и опасность могла быть сама по себе волнующей, как Морган понял в последующие ночи, полные объятий и ласки. Возможность быть обнаруженным, звуки, издаваемые другими людьми по ту сторону тонкой стены, все это, подобно магнетическому эффекту, придавало особую остроту ощущениям, вызванным прикосновениями к чужой коже. Случались моменты, когда Моргану казалось, что его сердце вот?вот остановится. В его жизни до этого не было ничего, что могло бы сравниться по степени полноты и силы с объятиями, в которые заключал его мужчина. Но в пылу даже самых жарких объятий Морган осознавал, что для каждого из них то, что происходило, могло означать совершенно разные вещи.
– Зачем ты это делаешь? – спросил он как?то, когда Хом отвел свою ставшую вдруг безжизненной руку.
– Зачем? – переспросил Хом. – А почему бы и нет? Если это было хорошо для греков…
– Так только для этого? Только для того, чтобы имитировать безмолвные голоса древних?
– Ну мы?то, согласись, совсем не безмолвны, не так ли? – усмехнулся Хом. – А кроме того, это совсем не порок.
Неожиданно он выпрямился и оттолкнул Моргана.
– Здесь нет ничего телесного! – провозгласил он новым для Моргана, ломающимся голосом. – Мы просто выражаем наши чувства. Что здесь непростительного?
– Для меня – ничего!
– Для меня – тоже, – согласно кивнул головой Хом. – Я тебя обожаю, Морган! Давай считать это экспериментом.
– Экспериментом? И каков ожидается результат?
– Это мы сможем узнать только в процессе. Я сыт по горло правилами, которые устанавливает для нас общество. Делай то и не делай этого. Чувствуй это, а вот это не чувствуй! Невыносимо. Я хочу идти туда, куда ведут меня мои чувства.
– Я согласен, – сказал Морган, ощутив, как на мгновение чувства его поблекли, утратив былую интенсивность и мощь.
Он теперь проводил много времени в Британском музее, в залах греческой скульптуры, и выпадали дни, когда все его чувства казались ему заточенными в представленный там холодный мрамор. Греческие боги казались ему людьми, а люди – богами. Особенно ему запомнилась одна идеальной формы скульптура, скульптура юноши. У него была отсечена одна рука, и, взглянув на статую, Морган почувствовал, как его пронзила острая боль. С одной стороны, он был поражен совершенством древнего искусства, а с другой – красотой мужского тела. И во всем этом сквозила такая печаль! Ведь он знал, что ему никогда не удастся возлечь подле столь прекрасного нагого тела. Касаться его, обнимать, принимать его объятья. Иногда желание настигало его с такой силой, что Моргану становилось по?настоящему больно. И во многом потому, что поведать о своих чувствах он никому не мог. Даже Хому.
Особенно после того, как Хом вскоре обычным тоном заявил, что он помолвлен.
– С женщиной? – задал Морган вопрос и тут же подивился его идиотизму.
– С Каролиной Грэйвсон, – назвал Хом имя своей кембриджской приятельницы. – Мы с ней думаем открыть школу для совместного обучения мальчиков и девочек, – продолжил он.
– Отличная идея, – отозвался Морган.
– Да, и при этой мысли я чувствую свежий прилив сил.
Мередит сиял.
– Она очень мила, Форстер, – сказал он. – И абсолютно мне подходит.
– Не сомневаюсь, – проговорил Морган, пытаясь улыбаться.
Такой боли он никогда прежде не испытывал. Он видел губы Хома – тот рассказывал о своих планах; но слов не слышал.
Вечер плавно перетекал в ночь, и Моргану пора было уходить. Хом притянул его к себе и обнял. Морган ощущал тепло его тела, его дыхание. Чувства его смешались и, возвращаясь домой по ночным улицам Лондона, он не мог понять, что с ним происходит, где он и какое сейчас время суток.
Возможно, Мередит был прав. Наверное, когда все уже сказано и сделано, остается только одно. Наверное, брак как соединение жизней является единственным способом обретения счастья. Но создан ли он, Морган, для брака? Иногда он думал: если он действительно повстречает идеальную особу, то тогда, возможно, у него что?то и выйдет. Но комфортно он чувствовал себя только с пожилыми дамами, а с молоденькими был неловок, и когда ему несколько раз случалось выказать к ним свой интерес, его сочли излишне сентиментальным и нелепым. По крайней мере, в одном эпизоде он вел себя более?менее сносно, но, по правде говоря, женщины все казались ему совершенно чуждым видом; он их опасался.
Вопрос брака стал для Моргана полем невидимой, но от этого не менее ожесточенной борьбы. В конце концов он смог решить проблему только на словах и сформулировал ее для себя и остальных в книге. Роман «Долгое путешествие», которым он разрешился вскоре, продемонстрировал Моргану все странности его натуры, наличие которых частью обеспокоило его, а частью обрадовало, так как подтвердило и то, на что он в отношении себя надеялся – что он не принадлежал, хоть в чем?то, окружавшей его унылой добропорядочности. Оказалось, что в нем уживаются две личности, и одна из них, о которой даже не догадывалась вторая, вполне цивилизованная составляющая его «я», представляла собой буйное чудовище, примитивное и алчущее, для которого стихией был лес, но не город. Для этого козлоподобного монстра он даже написал целую сцену, на протяжении коей заставил его мчаться нагишом через ландшафт, который полностью и безоговорочно принимал его как свою органическую часть. Потом, правда, он счел разумным вымарать данную сцену.
Он как в зеркале увидел свое тайное лицо во время одной встречи на холмах возле Солсбери, куда он приехал, чтобы навестить Мэйми Эйлуорд. Там он прошелся до Фигсберийских колец – относящегося к каменному веку круглого каменного сооружения, в центре которого росло кривое дерево. Он бывал здесь и раньше, ни разу не встречая ни одной живой души. Но в тот день там сидел юноша?пастух, курящий трубку, окутанный кристаллически?прозрачной тишиной. Когда Морган пристроился рядом, юноша невозмутимо, словно его совсем не заботило присутствие постороннего человека, предложил ему сделать затяжку. Мгновение Морган держал трубку в руке, ощущая жар тлеющего табака, а потом вложил ее в обветренную руку пастуха. Он подумал, что должен чем?то отплатить за любезный жест, но, когда протянул шестипенсовик, юноша отрицательно покачал головой.
Они поговорили – Морган не помнил о чем; однако самое большое впечатление, вынесенное им из этого разговора, состояло в том, что пастух ни разу не назвал его «сэр», а обращался просто по имени. И только тогда, когда юноша встал, Морган обнаружил, что юноша страдает ярко выраженной косолапостью.
Этот разговор, равно как и место, где он произошел, долго еще сохранялись в памяти Моргана; воспоминания о них пульсировали в его сознании как две концентрических волны, расходящихся вовне из некоего древнего центра. Ничего существенного не произошло, но что?то все же изменилось. Юноша был вполне реален, но одновременно казался чем?то вроде призрака. Его породила и взрастила Англия. Морган перенес пастуха в книгу – его грубоватую искренность, даже его трубку, а также пейзаж, от которого тот был неотделим.
Но косолапости Морган его лишил и передал ее кому?то другому. Дело было даже не в ноге – подумаешь, обычный физический недостаток. Да, эти ноги он отдал самому себе и ввел себя в другую жизнь, в которой был женат, хотя и не обязан был этого делать. Там находились и Апостолы, и Хом, и пригороды, которые держали его в своих бескровных объятиях. Все там было перемешано, зашифровано и скрыто от посторонних глаз – слишком много противоположностей, сплетенных в клубок, который он был не в состоянии распутать. Но потом ему все это понравилось – то есть отсутствие четкого решения. Потому что это было правдой.
* * *
Масуд писал ему: «Пройдут века, и годы обратятся в две тысячи столетий, и ты не услышишь моего слова, но ты не должен думать, что моя неизмеримая к тебе привязанность, моя истинная любовь и самое искреннее восхищение, которое я чувствую, когда думаю о тебе, уменьшились хоть на йоту…» Привязанность. Любовь. Восхищение. Голова Моргана шла кругом. Но постепенно он отвлекся и стал думать более рационально. Он вспомнил прочие письма, которые писал ему Масуд, их возвышенный, горячий стиль. Через Масуда он познакомился с другими индийцами, и, каким бы беглым ни было это знакомство, Морган смог разглядеть, что они все говорили и писали так же, как Масуд. Несколькими неделями раньше его новый знакомый, индиец, совершенно искренне заявил, что Морган – его лучший на свете друг. И индиец не лукавил. Для них слова значили совсем не то, что они значили для англичан. Язык здесь являлся чем?то большим, чем был на самом деле.
Но, несмотря на понимание этого, Морган не мог не отвечать в том же духе. Выражения нежности и обожания включили какой?то механизм. И он понял, что с ним происходит. Медленно, но верно Масуд занимал место в его сердце.
К тому времени Хом уже был женат, хотя и не на Каролине Грэйвсон. Ту помолвку он разорвал почти сразу, после чего пережил нервный срыв, породивший период внутренней темноты и едва не приведший к крайностям. Морган много времени провел рядом с ним, ведя успокоительные разговоры, и Хом после говорил разным людям, что вернулся к жизни только благодаря Моргану. Затем ему стало лучше; Хому предложили работу в Манчестерском университете, и, после того как он переехал, он встретил ту, что стала его женой. Это был не разрыв; хоть и однобокие, но отношения между ним и Хомом сохранились. Однако Морган чувствовал, что жена Хома, к которой он относился с холодной вежливостью, отдаляет их друг от друга.
Некоторое время Морган позволял себе любить их обоих – и Масуда, и Хома. Любить молча, любить издалека и по?разному. В случае с Хомом то счастье, которое Морган мог бы испытывать, было приглушено ясным сознанием того, что его друг более не сможет принадлежать ему – в определенном смысле. Самое большее, на что они могли решиться, – это целомудренные костюмированные объятия, которые и были их уделом до женитьбы Хома.
С Масудом же все могло выйти иначе.
* * *
Масуд, в надежде поправить свой французский, на несколько недель прибыл в Париж. Получив приглашение приехать в гости, Морган раздумывал недолго. Кроме прочего, это была возможность сбежать от матери.
Масуд встретил его на вокзале.
– Мне было так страшно! – объявил он. – Я никогда не научусь говорить на этом языке достаточно хорошо. А французы гораздо грубее англичан, что раньше мне казалось невозможным. Белая раса чертовски нелепа, и так дико знать, что мы были ею колонизированы. Немедленно отдай мне свои сумки!
Он снимал комнаты неподалеку от вокзала, куда и привел Моргана, не прекращая болтовни. И всю следующую неделю беседа шла за беседой – они не расставались ни на минуту. Морган до сих пор никогда не бывал в Париже, и все здесь для него казалось свежим и интересным, все сулило открытия.
В одинаковых шляпах, которые они купили в Латинском квартале, они бесцельно бродили по улицам, заходя в галереи, рестораны и театры. В первый раз они существовали бок о бок в столь тесной близости, когда им не мешали ни их семьи, ни докучливые посетители. Наверное, думал Морган, это и есть брак – абсолютно полная близость двух людей, которые закрылись от остального мира тяжелыми цветными шторами. Он бы мог вечно жить с Масудом в этом странном городе, и ему это никогда бы не надоело.
Где?то в середине недели они заговорили о том, что им неплохо было бы вместе пожить в Индии. По завершении обучения Масуду предстояло вернуться на родину, и ничего неестественного не было бы в том, если бы – как продолжение их парижского сосуществования – Морган к нему присоединился.
А вот что было несколько неестественно, так это то, что Масуд сразу предложил Моргану.
– Конечно, – сказал он, – ты напишешь про это роман.
– Что? Про Индию? – удивился Морган. – Но у меня вряд ли получится!
– Напрасно ты так думаешь, – покачал головой Масуд. – С самого начала, как я тебя узнал, я понял: вот англичанин, который понимает мир не так, как его соплеменники. Ты пока этого не осознаешь, но у тебя восточный тип восприятия мира. Именно поэтому ты способен написать уникальную книгу. Она будет написана по?английски. Все там будет подано с точки зрения англичанина. Но это будет книга с секретом внутри.
– Если мой ум так похож на твой, – спросил Морган, – то почему я все еще нахожу тебя таким странным и необычным?
Но Масуд был настроен серьезно.
– Ты обижаешь меня, – сказал он. – Если ты можешь писать об Италии, почему не хочешь написать о моей стране?
Морган задумался. Интересная идея, хотя она была столь далека от того, к чему он привык, что казалась абсолютно неосуществимой. Он вспомнил несколько романов об Индии, но все это была сентиментальная женская писанина. Любовь, которой постоянно что?то угрожает, и все происходило где?нибудь на границе. Конечно, еще был Киплинг, но Киплинг всегда провозглашал добродетели белого человека и убожество туземцев, не говоря уже о кровавом ореоле его орлиного патриотизма, которому не страшна даже смерть.
Под мелким дождем они бродили по улицам, но сырость и скользкая брусчатка мостовой нисколько не беспокоили Моргана, когда умом своим он погружался либо внутрь собственного «я», либо отправлялся в далекие страны.
– Мои итальянские романы, – сказал он, – были по сути романами про англичан. Италия здесь – просто декорация.
– Ну и что? Напиши про англичан в Индии, если хочешь. Хотя предупреждаю тебя, у нас, в Индии, ты найдешь только самодовольных дураков.
Через несколько мгновений им овладевал почти что гнев, и он провозглашал с бурным чувством в голосе:
– Я требую, чтобы ты сделал меня персонажем своего романа! Неужели только англичане достойны быть твоими героями? О, если бы я жил во времена восточных деспотов! Я заставил бы тебя писать для меня бесконечную книгу, и чтобы там не было ни одного англичанина!
И он зашагал вперед, всем видом демонстрируя уязвленное самолюбие. А может быть, он не притворялся?
Морган постоянно вспоминал об этом разговоре. Роман об англичанах в Индии, роман, в котором Масуд стал бы персонажем, – вполне это была увлекательная идея. Хотя ему, конечно, пришлось бы посетить Восток, что стало бы грандиозным предприятием, которое своим масштабом способно было превзойти масштаб самой его жизни.
Утром, в день отъезда из Парижа, Морган проснулся рано и лежал некоторое время, глядя через пространство комнаты на лицо своего спящего друга. Они знали друг друга уже три года, и тем не менее только в эти последние дни между ними рухнули последние преграды. Ни с кем Морган прежде не был так близок. И вот, когда он стал вновь погружаться в дремоту, откуда?то, из самых глубин, к нему пришло понимание. Он вскочил и сел на кровати, охваченный паникой. Как же он мог не догадываться, как мог называть очевидное совершенно другими именами? Но теперь, когда нужное слово было найдено, оно не могло более оставаться непроизнесенным.
И все же он сомневался. С недавнего времени он понимал, в чем состояли его истинные наклонности, но Масуд им не соответствовал. В прошлом году Морган по протекции Сиднея Уотерлоу, который был его другом, получил приглашение на обед к Генри Джеймсу в Рай, и случившееся там открыло ему глаза на его собственные аппетиты. Вечер был довольно приятный, хотя Моргану так и не удалось почувствовать себя свободно. Началось же все достаточно неуклюже, когда Мэтр, выйдя из своего дома, подошел к Моргану и, положив тому на плечо свою пухлую ладонь, заявил:
– Ваше имя – Мур.
Ошибка была исправлена, но затем случилась еще одна – Уэйбридж перепутали с Уэйкфилдом, и возникшая неловкость омрачила все последующие светские разговоры.
Только тогда, когда Морган покинул Лэмб?Хауз, кое?что для него стало очевидным. В теплых сумерках он увидел рабочего, который стоял прислонившись к стене и курил. Морган увидел его, и сами неясные очертания этого человека, красный отсвет угля, горящего в топке, произвели в душе Моргана переворот, который не в силах были произвести никакие самые умные разговоры. Он начал вспоминать других рабочих, которые так же, как этот, будоражили и волновали его, и припомнил, как однажды из окна поезда мельком увидел два загорелых обнаженных тела – мужчины принимали солнечные ванны на крыше склада. И тогда он понял, что его привлекало в этих образах, в чем было его предназначение. Его влекла не столько неясная тень, прислонившаяся к стене, сколько огромный мир, к которому она принадлежала: наползающая на город темнота, вечер в затухающем небе, запах дыма и ароматы полей.
Все это выходило за рамки возможного. В конце концов, это был не его мир. Он принадлежал тому миру, который только что оставил, – вежливый, сдержанный ритуал, исполняемый за обеденным столом, застегнутые на все пуговицы пиджаки и взвешенный разговор о книгах, путешествиях, опере и архитектуре. Но даже там Морган не мог украдкой не бросить взгляд в сторону – на слугу, который склонился над столом, чтобы убрать тарелки. Хотя эти два мира и соприкасались тесно, между ними пролегала бездонная пропасть, и что?то в Моргане страстно желало эту пропасть уничтожить. Только соединять! Свою страсть он выразит в книге, которую пишет. Хотя страсть эта и была чревата неутолимой болью.
И Масуд, при всех его отличиях от Моргана, при его экзотической родословной, принадлежал к этому миру. Он ни на минуту не чувствовал себя чужим в Оксфорде, в Париже, за обеденным столом в Уэйбридже. Они с Морганом принадлежали к одному классу, и в Англии так было всегда. Ничего необычного не было в том, что Морган на неделю поедет куда?нибудь с Масудом, однако провести неделю с Анселем, молодым садовником, или с тем рабочим, которого Морган увидел возле Лэмб?Хауза! Это было бы немыслимо.
Подобные мысли бессвязной чередой промелькнули в сознании Моргана, пока Масуд наконец не заворочался и не застонал, зевая и просыпаясь. Сделать любовь реальной было важно, но это же не представлялось возможным. Они были слишком похожи, они слишком во всем совпадали, чтобы любовь могла осуществиться. Любовь – по сути, невозможное предприятие, стремление по ту сторону непреодолимого барьера. Поэтому здесь было что?то другое – сбившееся с пути обожание, братская привязанность. Морган вновь надел свою маску, хотя нечто от его прежнего беспокойства задержалось, холодом и растерянностью наполняя его душу. На вокзале, когда пришла пора прощаться, он уже полностью пребывал во власти Англии. Он протянул руку для пожатия.
– Ну что ж, – сказал он. – Мне пора на поезд. Спасибо тебе большое за все. Я получил огромное удовольствие.
Масуд, не отрываясь, смотрел на него. Смятение отразилось на его красивом лице. Лишь через несколько мгновений он смог произнести внятную фразу.
– Что ты говоришь? – спросил он дрогнувшим голосом.
– Я говорю тебе «до свидания» – ответил Морган, плохо понимая, что происходит.
– Так вот как ты говоришь «до свидания»? Мне? После тех удивительных дней, что мы провели вместе, дней, подобных которым я не проводил ни с кем?
Сдавленный стон вырвался из его груди.
– О! Все бессмысленно! Бессмысленно!
– Если я опоздаю на поезд, – проговорил Морган, – моя мать будет беспокоиться. Она и моя бабушка…
– Мне неинтересна твоя бабушка! – воскликнул Масуд, сверкая очами так, словно им овладело безумие.
Выражение чувств было столь интенсивным, что Морган подумал – а не спектакль ли это? Но через несколько мгновений понял, что Масуд не играет.
– Я же увижу тебя через несколько дней, – сказал он наконец. – И я думал, что можно обойтись и без сантиментов.
– Ты прощаешься как англичанин.
– Так я и есть англичанин!
– Как бы я хотел забыть об этом, хоть на мгновение! – воскликнул Масуд. – Как бы я хотел, чтобы и ты забыл об этом! Разве чувства – мешок картошки и их можно измерять на фунты? Разве мы с тобой бездушные машины? Разве ты истощаешь свои чувства, когда хочешь их выразить? Почему ты не можешь говорить искренне, из глубин самого сердца? О, Морган! Как ты глуп!
Произнеся эти слова, Масуд своими сильными руками обнял Моргана и приподнял его над полом.
– Неужели ты не понимаешь? – воскликнул он. – Мы же друзья!
Он притворился, будто собирается бросить Моргана на рельсы, потом крепко поцеловал его в щеку, поставил на пол и, резко повернувшись, пошел прочь, на целую голову возвышаясь над окружавшей его толпой.
Морган был удивлен, обеспокоен и обрадован одновременно. По пути домой смятенными мыслями он возвращался то к разговору на платформе, то к тому, что, пребывая в полусне, думал сегодня утром.
Да, природная экстравагантность Масуда, с одной стороны, и привычка Моргана во всем следовать этикету плохо гармонировали друг с другом. Когда Морган приезжал в Оксфорд, его друг корил его за то, что Морган благодарит его или оценивает то, что пережил, через призму категорий добра и зла. По мнению Масуда, этикет являлся вещью холодной, безжизненной, и сам он был выше этих, как он считал, мелочей. Все хорошие манеры – ничто перед бальзамом дружеских чувств.
На сей счет у Моргана были сомнения. Следование правилам и учтивость могли быть ритуализированы, но тем не менее они имели значение, и немалое. С другой стороны, демонстрация эмоций могла служить не только выражению того, что человек чувствовал, но и сокрытию оного.
Вероятно, им с Масудом не прийти здесь к согласию. Конечно, это был вопрос национальной принадлежности, но в еще большей степени это был вопрос характера. Наверное, Масуд имел полное право не доверять английскому представлению о неуместности слишком горячего выражения эмоций, но, с другой стороны, он, Морган, за своей холодностью скрывал в высшей степени реальное чувство. Если бы Масуд услышал слова, которые Морган действительно желал бы произнести, не исключено, он стал бы гораздо терпимее к английской сдержанности.
* * *
Когда несколькими днями спустя от Масуда пришло письмо, Морган отнес его в свою комнату и открыл только там, как будто слова в письме содержали в себе некую опасность. Почерк у Масуда вполне соответствовал его характеру, кипящему эмоциями, хотя тон письма совершенно не корреспондировался с той картиной крайнего отчаяния и горя, свидетелем которых Морган был на станции. Правда, легкий укор в бесчувственности в свой адрес он из письма все?таки вынес. На сей раз Масуд пытался объясниться и делал это так сухо, как только мог.
В восточном характере, писал Масуд, есть черта, называемая Тара. Тара заставляет человека всегда пребывать в эмоциональном напряжении, быть всегда готовым встретить то, что случается или может случиться с ним и вокруг него.
Истинная чувствительность предполагает способность физически ощущать трудности, которые испытывает другой человек. Достаточно такому индийцу, как он, Масуд, войти в комнату, и он сразу начинает воспринимать окружающие его эмоции, а также определяет свое место в их потоке. Масуд знает, что у Моргана есть это качество, почему он всегда и думал о своем английском друге как о человеке Востока. И потому ему так трудно принять холодность Моргана и его слишком горячую привязанность к нормам и правилам поведения.
Изложив все это в самом низу письма, Масуд начертал цитату из какой?то безымянной поэмы. И всякий раз, когда любовь меня покинет, Я умираю… Чувство, воплощенное в этих стихотворных строках и являющее собой резкий контраст с тем, что было написано выше, произвело на Моргана сильное впечатление. Эти строки были написаны каким?то неизвестным поэтом для некоего неизвестного читателя, но, как стрела, своим острием были направлены прямо в сердце Моргана, раня и терзая его. В то же мгновение он понял: ощущение, испытанное в парижской гостинице, было правдой, и он пережил это вновь.
У Моргана была привычка в последний день года вспоминать все события, как внутренние, так и внешние, определившие ход прошедших двенадцати месяцев. На этот раз, через несколько дней после возвращения из Парижа, он решил высказаться. Он совсем недавно принялся вести дневник в альбоме с замком, и возможность держать написанное в секрете придала ему смелости. Никто не сможет меня критиковать, никто не сможет навредить своими интригами, – писал он. – Я хочу превратиться с ним в одно целое. Ты мне помешал. Я могу только думать о тебе, но не писать.
Прежде чем продолжать, Морган сделал паузу. Как только слово написано, его уже не исправишь, не отменишь. Немалая смелость нужна, чтобы говорить правду, даже самому себе. Испытывая легкую дрожь, Морган взял перо и продолжил.
Я люблю тебя, Сайед Росс Масуд. Люблю!
Вот оно. Зримое слово. Люблю! Слово наконец обретшее свободу, казалось, дрожит и трепещет на листе бумаги. Но какой в нем смысл? Действие – вот что необходимо. И хотя способность к действиям не являлась его сильной стороной, в этом случае для него было проще сказать, чем молчать, – даже если слова были бессмысленны. Чувства его слишком сильны, чтобы держать их при себе и не выразить.
Как бы ни был поражен Масуд, узнай он про это, он бы справился с шоком. Моргана же сама мысль о том, что его тайна может быть высказана, настолько выбила из колеи, что он непростительно нафальшивил в прелюдиях Шопена, за которые сел позднее вечером.
Они встретились через несколько дней. Моргану совсем недавно исполнился тридцать один год, и Масуд настоял, чтобы он приехал в Лондон и забрал приготовленный им подарок. Это была картина, которую они вместе видели в галерее и которую Морган, конечно же, не мог себе позволить. Морган сдержал себя и не стал отговаривать Масуда, боясь, что тот вновь обвинит его в рабском следовании формальным правилам. Но все его страхи, которые, как бактерии, размножились после того, как он принял решение, исчезли в присутствии друга. Они говорили о множестве вещей и особенно об Индии как о благословенном месте, где обязательно окажутся вместе – как оказались вместе в Париже.
Не говорили они только о том, о чем Морган хотел говорить более всего. Слова поднимались в нем, достигали губ и набухали там, но не шли наружу. Это был отличный момент, прекрасная возможность. Но минуты пролетали, и храбрость его улетучивалась. В конце концов он должен был поторапливаться на поезд, если не хотел опечалить ждавшую его дома мать. Нет, он сделает это в другой раз. Будет же другой раз, и скоро.
Тем временем все изменилось – и только потому, что он настаивал на поездке в Париж. Приглашение было высказано тоном почти безразличным, а потому проигнорировать его ничего не стоило – словно ничего и не произошло. Но он уехал, и с тех пор его поддерживало и успокаивало только это чувство – неотступное, умиротворяющее.
В письме, отправленном через несколько дней, он обращался к Масуду: «Мой милый мальчик». И подписал письмо, после минутного колебания: «От Форстера, представителя правящей расы, Масуду, ниггеру».
Можно было понять, как далеко они зашли, если Морган был уверен, что его друг весело рассмеется этой шутке.
* * *
Индия подкрадывалась к нему и с другой стороны. После того как была опубликована его третья книга, Морган получил восторженное письмо от Малькольма Дарлинга, которого знал по кембриджскому колледжу. Роман был хорошо принят критикой, но друзьям не понравился, поэтому отзыв Дарлинга был особенно ценен. В 1904 году Малькольм поступил в Индии на государственную службу и писал теперь Моргану из столицы крохотного штата Старший Девас, где служил в качестве воспитателя местного принца. Он обожал своего юного воспитанника. Когда он прочитал один из коротких рассказов Моргана Его Высочеству, тот был им очарован, что, в свою очередь, произвело сильное впечатление на писателя.
Жизнь Малькольма показалась Моргану полной фантастических событий со значительной примесью магии. Кое?какие сведения о странностях и чудесах Индии доходили до Моргана в письмах Дарлинга, которые тот присылал с кораблями, неторопливо пересекавшими безбрежные пространства нескольких морей. Малькольм рассказал Моргану с детальной, достойной анекдота точностью историю о том, как государство Девас было поделено между двумя династиями, Старшей и Младшей, и как количественно удвоились все бюрократические учреждения, обслуживающие сразу два государства. Малькольм утверждал, что это самый странный уголок мира, за исключением Страны чудес, которую посетила Алиса, и все здесь казалось делом рук сумасшедшего, восставшего против присущего серьезным людям здравого смысла с помощью всего нелепого и экзотического, что только имелось в этом мире.
Хотя Морган не был особенно близок с Малькольмом, благодаря этим письмам они сдружились. К тому времени когда Дарлинг в очередной раз приехал в Англию, чтобы жениться, они уже относились друг к другу с настоящей теплотой. Морган посетил приятеля в Лондоне, и его визит еще больше сцементировал понимание, которое существовало между молодыми людьми.
Правда, произошел случай, странный и ужасный, который Морган не мог никак забыть.
Малькольм пригласил его отобедать в ресторан «Рандеву», в Сохо.
– Форстер, – сказал при этом Малькольм. – Ты ведь не станешь возражать, если я приведу Эрнста Мерца. Он мой лучший друг и будет грумом на моей свадьбе.
– Конечно, приводи, – кивнул Морган. – Как я могу возражать?
– Он отличный парень, – продолжал Малькольм. – И тоже из Королевского колледжа. Такой же холостяк, как ты. У вас будет о чем поговорить.
Морган на мгновение задумался, не вкладывает ли какой?нибудь потаенный смысл Малькольм в слово «холостяк». Нет, вряд ли. Малькольм, притом что он был славный малый, особо сложной внутренней организацией не отличался. В мире, где он жил, не имелось никаких тайных шифров, а холостяки были просто холостяками.
Мерц действительно оказался отличным товарищем. Он смеялся гораздо чаще, чем говорил, и, чем ближе подступали сумерки, тем он смеялся больше. У них у всех было немало общих знакомых, и казалось, сияние Королевского колледжа осветило ненадолго этот уголок Лондона. В самом отличном расположении духа они покинули ресторан и решили насладиться прогулкой под летним ночным небом.
Малькольм вскоре попрощался, оставив Моргана и Мерца вдвоем. Впервые с начала вечера воцарилась тишина, которая на сей раз не столько разъединяла, сколько объединяла молчащих. Морган думал о том, что значит – быть холостяком; размышлял он и о своем холостяцком бытии.
Мерц, вероятно, думал о чем?то подобном, потому что через пару минут произнес:
– Вот и еще один туда же.
– Что ты имеешь в виду? – поинтересовался Морган.
– Так Малькольм же собирается жениться, – коротко рассмеялся Мерц. – Ты, конечно, встречал Джози. Как она тебе?
– Нас совсем недавно познакомили. Я пока не сформировал определенного мнения.
– Я и сам ее толком не знаю, – уточнил Мерц. – И не хочу предполагать…
– Я понимаю, – кивнул Морган. – Не нужно объяснять.
Так уж получалось, что Морган с опаской относился к Джози, как вообще ко всем молодым женщинам, которые завладевали его друзьями. Кроме этого, Джози показалась ему натурой чересчур импульсивной; она сперва говорила, а потом уже думала, и парочка ее заявлений по политическим вопросам Моргана встревожила. Тем не менее он видел, что Малькольм обожает свою невесту, и надеялся, что его друг будет счастлив в браке.
Хотя Морган и симпатизировал Мерцу, он не хотел обсуждать с ним подобный вопрос. Но ему показалось, что в радости, которую в связи с женитьбой друга демонстрировал Мерц, сквозила и нотка печали. Интересно, откуда она взялась?
– А как ты? – спросил Морган, стараясь, чтобы тон вопроса не выдал его интереса. – Маячит ли женитьба на горизонте?
– У меня? Нет. В всяком случае, в ближайшем будущем, – ответил Мерц. – Кое?кто у меня есть на примете, но решения я еще не принял. А может быть, пока не готов.
Звук их шагов отдавался эхом от кирпичных стен, шедших по сторонам улицы.
Теперь спрашивал Мерц:
– Ну а ты? Как насчет того, чтобы жениться?
– Нет, – ответил Морган. – Только не я.
Оба они чувствовали некую неловкость в отношении обсуждаемого предмета, и Мерц поспешил ее сгладить.
– Мне показалось, что о браке ты написал со знанием дела, – сказал он. – Как тебе удалось так хорошо понять это состояние человека, если ты сам никогда в браке не был?
– Ты считаешь, я понимаю, что это такое? – Спросил Морган. – Очень рад, что ты так думаешь, но мне кажется, ты не совсем прав. То немногое, что я знаю о браке, я почерпнул в беседах с друзьями.
– И ты не чувствуешь себя одиноким? – спросил Мерц.
– Нисколько, – быстро ответил Морган, хотя вопрос буквально пронзил его. Позднее он пожалел, что не ответил более правдиво, потому что понял – Мерц говорит о себе.
Они постепенно перешли к другим темам, менее острым. О чем они говорили, Морган потом и не вспомнил. Мерц сказал, что направляется в свой клуб в Сент?Джеймс, и, идя вдоль Пиккадилли, они едва не столкнулись с молодым человеком, который, неожиданно выйдя из тени, прошел мимо них. Выглядел он грубовато, но привлекательно – молодой рабочий, с руками в карманах и лицом, наполовину затененным козырьком кепи. Проходя мимо Моргана и Мерца, парень ухмыльнулся. Ухмылка была игриво?лукавой; подсвеченная иронией и неким знанием, на мгновение она заставила Моргана и Мерца замолчать.
Наконец, преодолев смущение, они вновь заговорили. Моргану нужно было поспеть на вокзал Чаринг?Кросс, на свой поезд. Пришло время проститься.
– Ну что ж, – сказал он, протягивая руку, – мне было приятно с тобой познакомиться.
– Мне тоже, – ответил Мерц. – К тому же для меня это честь. Ты замечательный писатель.
– О, перестань, – сделал протестующий жест Морган.
Они пожали друг другу руки, и Мерц засмеялся безо всякой видимой причины. Потом отправились в разные стороны.
Новости пришли на следующий день, в форме телеграммы от Малькольма. Слова – скупые и неопровержимые – лежали перед Морганом на бланке почтового отправления, но он никак не мог поверить в написанное. Хотя не смел и сомневаться.
Морган бросился назад, в Лондон. Он должен был поддержать Малькольма. Но, кроме того, он хотел разобраться, что же случилось. Впрочем, никакого понимания не пришло. Не было ни объяснений, ни записки, ни причин, которые могли бы объяснить происшедшее. Похоже, Мерц так и не пошел в клуб. Вместо этого он направился в свою квартиру в Олбани, выпил там стакан виски и повесился.
Малькольм был страшно бледен. Шок, пережитый им, словно согнул плечи, сделав его меньше ростом.
– Ты был последним, кто с ним говорил, – произнес Малькольм, с трудом выдавливая из себя слова. – Сказал ли он что?нибудь, из чего можно было вывести…
– Ничего абсолютно, – ответил Морган. – С ним все обстояло отлично. Он был вполне нормален.
Нормален. Это слово, как подумал Морган, не означало ровным счетом ничего.
– Но о чем вы говорили? Он же должен был что?то сказать, дать какой?нибудь ключ!
– Ничего он не говорил, – пожал плечами Морган. – Происходил совершенно обычный разговор, подобный тому, что мы вели в ресторане.
Было ли это правдой? В определенном смысле – да. Но, если оценить все с другой стороны, то Морган сомневался, прав ли он. Быть может, там проскальзывали такие намеки, ключи, как их назвал Малькольм. Но вы их не поймете, если не принадлежите к меньшинству. Тайный язык, тайные знаки, которые говорят о многом, но в еще большей степени позволяют утаивать, что ты должен сообщить другому. Морган не был уверен, что Мерц действительно что?то сказал.
Тем более он не мог поделиться своими сомнениями с Малькольмом. Это означало бы говорить и о самом себе, причем так, как они до сего дня никогда не разговаривали. А Малькольм с его примитивным обыденным сознанием может просто не понять. Поэтому, даже пребывая в одном шаге от разгадки и изо всех сил желая понять, что произошло, Морган был обречен лишь косвенно касаться этой тайны, пользуясь намеками и недомолвками.
Тем более никому он не рассказал о молодом человеке, который им повстречался. Молодом человеке с убийственным взглядом. Был ли тот готов на что угодно при условии наличия у вас и денег, и необходимой толики храбрости? Вполне вероятно, что Мерц, расставшись с Морганом, отправился за этим молодым человеком и между ними произошло нечто, приведшее к несчастью.
То, что произошло с Эрнстом Мерцем, было предупреждением Моргану. Он ходил над пропастью, по самому ее невидимому краю, через который, казалось, так легко шагнуть. И что делало эти прогулки особенно опасными, так это неодолимая сила соблазна, которая, словно сила гравитации, тянула его вниз. Он часто чувствовал эту силу, особенно в последние дни. Без всякого предупреждения его тело начинало испытывать судороги желания столь отчаянного, что сопротивляться ему он был не в состоянии. Однажды, проходя на улице мимо какого?то солдата, Морган наткнулся на совершенно равнодушный взгляд, и тут же его воображение услужливо сбросило с этого парня все одежды – так ясно и отчетливо, что Морган не смог отделить фантазию от реальности. Он принимался нервничать, стоило ему увидеть красивое мужское лицо, и даже менял свой маршрут, а иногда и вагон в поезде – лишь бы держаться поближе к источнику этой красоты. По ночам, перед тем как заснуть, он воочию наблюдал, как недостижимые образы, дистиллированные его возбужденным мозгом, дефилируют по потолку.
Это была похоть, и ничего более, хотя временами похоть обретала черты сущности почти идеальной. Кроме того, Морган постоянно поносил эту часть своей природы, а его собственные желания вызывали в нем отвращение. И хотя он не претендовал на то, чтобы считать себя существом ангельски?чистым, как это понимала его мать и некоторые другие люди из ее окружения, но он ведь и не сдавался пороку! Что можно было счесть добродетелью или, во всяком случае, ее надежной заменой.
Тем не менее он страдал. Обедая недавно с другом в Банном клубе, во время краткой паузы в разговоре он вдруг ощутил присутствие стоящего рядом служащего, на котором из одежды было только обернутое вокруг бедер банное полотенце, – тот собирал и складывал простыни. Столь близкая нагота постороннего человека, а за ним, в зелено?голубом бассейне, над которым клубился пар, еще полуодетые мужские тела – это были видения какой?то другой страны, напоенной влажным теплом и чувственными желаниями. Нет?нет, явно не Англии. Трудно было поверить в то, что буквально в нескольких футах, за кирпичной стеной, шумел Лондон, пронизанный струями дождя.
Еще более тревожное событие произошло спустя несколько дней, когда, обедая с тем же приятелем в писательском клубе, Морган начал, почти не контролируя себя, говорить о своих занятиях в колледже для рабочих. Не задумываясь над собственными словами, он вдруг заговорил об «очаровательном юноше», которого встретил там, и тотчас же один из посетителей клуба, сидящий напротив, опустил газету, осуждающе покачал головой и выстрелил в Моргана гневным взглядом из стволов своих в высшей степени добропорядочных глаз.
Морган занервничал и испугался. Ужас, который он внезапно пережил, не оставил его и в парикмахерской, куда он направился после обеда. Придя же туда, он через несколько минут осознал, что тот человек последовал за ним. Они посмотрели друг на друга, отвели взгляды и через миг вновь уставились друг на друга. Мужчина сел в соседнее кресло и завел на первый взгляд невинный разговор, который, совершив несколько крутых поворотов, заставил Моргана предположить, что этому человеку очень нужно занять десять фунтов, чтобы поставить на лошадь.
Морган, смутившись, сделал вид, что не понял и, встав, быстро вышел, похлопывая себя по карманам. Время от времени, шагая по улицам, он оглядывался. И, хотя тревожащий его человек исчез, Моргану казалось, что он весь день следует за ним по пятам.
* * *
Морган все больше читал и думал об Индии, готовясь к поездке, которую, как он знал, обязательно совершит, правда, неизвестно, когда именно. Денег, чтобы отправиться в путь в ближайшем будущем, пока не было. Не ведал он и того, как быть с матерью. Брать с собой он ее не хотел, но не желал и оставлять в Англии одну. Но он верил, что придет момент, когда вдруг все разрешится. Может быть, новый роман, который он заканчивал, позволит оплатить путешествие?
Хотя Морган уже опубликовал три романа, а голова его пухла от коротких рассказов, он по?прежнему не считал себя писателем. По крайней мере в профессиональном смысле. Это было сродни игре на фортепиано – приносящее удовольствие легкомысленное средство отвлечься от забот. Писательство предполагало наличие в пишущем отваги; но еще большая отвага требовалась, чтобы бросить это занятие. И ведь он мог, действительно мог оставить писанину. Работать он был не обязан – от своей двоюродной бабки Моники он получил небольшое наследство, на которое мог бы сносно существовать. Тем не менее по временам он размышлял над тем, чтобы найти реальное занятие, как нашли почти все его друзья. Морган понимал, что его ровесники переняли дела своих отцов, приняли из их рук бразды правления империей, а он все это время оставался дома, в окружении женщин. Люди становились самими собой главным образом в работе, он же видел вокруг себя только бездельников, каковым был и сам. Он не знал ни мира, ни людей, и это беспокоило его очень сильно.
Острее всего он почувствовал бесприютность, когда писал свою новую книгу, несмотря на то что в основании истории лежало чувство, о котором он знал не понаслышке. Это чувство поселилось в его душе, когда ему исполнилось тринадцать и когда им с Лили пришлось уехать из Рокснеста, дома в Стивенейдже, где прошли первые и лучшие годы его жизни. Разрыв с любимыми местами всегда ощущался им как утрата рая, прощание с временем, когда жизнь воспринималась как нечто цельное и ценное, как совершенный круг любящих и любимых. С тех пор ему так и не удалось вернуть себе ощущения этого счастья или найти место, которое было бы хоть сколько?нибудь похоже на дом, где он провел лучшие годы своего детства. Это чувство потери, а также тоска по утраченному и сделались основанием его новой работы.
Но во всех прочих отношениях писательство для Моргана не представляло чего?либо существенного и значительного. Масштаб его личности, как он полагал, не соответствовал темам, к которым он обращался. Кроме всего прочего, он писал о власти и о деньгах, но каждый день расшибал лоб о скудость своих представлений об этих предметах. Он постоянно выходил на границы своих возможностей и садился на мель собственного невежества. А здесь он вновь сталкивался со старыми вопросами: что такое брак и как себя ведут в браке мужчины и женщины? Что он мог сказать по поводу всего этого?
Очевидно, не лишком много. Когда книга была закончена и неотвратимо надвинулась необходимость сдавать ее в печать, Морган распространил гранки между теми, кто был ему близок, и вскоре удостоверился в том, насколько холодно некоторые из них восприняли роман. Но хуже всех отреагировала мать. Поначалу она, казалось, сияет от удовольствия, читая страницу за страницей, но затем настал день, когда Морган обнаружил ее в гостиной, напряженную и бледную, над разбросанными по полу гранками.
– Что? – спросил он. – Что?нибудь случилось?
– Да, – ответила Лили. – Кое?что случилось.
– Так что же?
– Кое?что – кое?что… О, я не могу говорить.
– Ты должна мне сказать. Пожалуйста, что тебя так расстроило?
– Ты, Морган, – наконец выдавила она из себя. – Ты меня расстроил.
– Но что я такого сделал?
До этого момента Лили не смотрела на сына, но когда она вскинула на него глаза, он почувствовал, как температура в комнате упала. Давно он не видел ее такой расстроенной, хотя все последние годы выражение разочарованности не сходило с материнского лица. Совсем недавно пришла ему мысль – если и можно было бы ему говорить о каком?либо призвании, о деле всей жизни, то не править туземцами в отдаленной стране хотел бы он, а заботиться о собственной матери. Это было бы занятием, по сравнению с которым бремя белого человека выглядело бы младенческой пустышкой. Когда он был моложе, они с Лили были отличными товарищами, связанными совершенно неромантическими и целомудренными отношениями, но с недавних пор ему стало непросто их поддерживать. Старея, Лили становилась все более желчной и все более печальной. Она страдала от ревматизма, но также и от душевных мук, которые Морган силился понять. Бывали дни, когда его мать ни в чем, абсолютно ни в чем не видела смысла.
– Все, кого мы знаем, прочитают эту книгу, – сказала она. – Будут говорить о ней. Ты обо мне подумал?
Наконец он понял, что ее так возмутило – это была сцена соблазнения Хелен Шлегель Леонардом Бастом.
– Это в природе человека, – сказал он. – Люди делают подобные вещи.
– Кто из наших знакомых так поступает? – спросила она. – Я не знаю никого, кто повел бы себя подобным образом. Так низко пасть могут только люди, живущие в самом низу. Но кто станет про них писать? Не верю, чтобы они были тебе интересны, Морган.
– Любой способен упасть, – сказал Морган, решив не сдаваться без боя. И тут же пожалел об этом. – Давай не будем ссориться, – сказал он.
– Давай совсем не будем об этом говорить.
Он решил зайти с другой стороны.
– Ты же знаешь, – проговорил он, – что я никогда не стал бы тебя расстраивать. Твой Поппи никогда бы не сделал этого.
Поппи, Попснэйк – это были слова, которые Морган помнил с детства, слова тайного детского языка, который понимали только они вдвоем. Сама интонация его изменилась, стала вкрадчивой и жалостливой.
Но сегодня трюк не сработал; душа Лили была запечатана, и никакие его ужимки ее не тронули.
– Я плохо себя чувствую, – сказала она. – У меня болит голова, и я иду в свою комнату. Пожалуйста, пришли мне Агнес.
Когда она ушла, Морган погрузился в тихую печаль. У него тоже имелись опасения по поводу этой части книги, однако эстетического, а не морального характера. Ни из книг, ни из действительности он ничего не смог узнать о тайных процессах, протекающих в женском теле и женской душе. Соблазнение, беременность – он плохо справился с этими сценами, не вытянул. Последовательность описанных событий вышла недостаточно чувственной, чтобы производить впечатление. Эта часть книги более других пострадала он недостатка знаний.
Лили терзала его еще некоторое время, но не разговорами о его преступлении, а умолчанием. Общаясь с сыном, она соблюдала вежливую холодность, при каждой возможности напоминая ему, не проронив и слова, как он ее подвел – и как, впрочем, подводил всегда. Романа ни она, ни он не касались. Теперь он уже боялся того, как роман примут другие. Он вырос в теплице, окруженный пожилыми женщинами, у каждой из которых о нем сложилось определенное впечатление, которое он должен был разрушить. Те из них, кто дожил до сегодняшнего дня, будут судить его наиболее сурово. Из таковых остались лишь Мэйми и тетя Лаура.
Но Мэйми книжка понравилась.
И не только Мэйми. Рецензии были восторженными, а отзывы членов его ближайшего окружения – теплыми и сердечными. Наверное, он создал шедевр. О нем много говорили, с ним тоже много говорили, и все в непривычной манере, которая не всегда ему нравилась. Время от времени звучало брошенное вскользь словечко «великий».
Слава – это пламя, которое вскоре становится слишком горячим, и Морган чувствовал, как вблизи призрачного жаркого пламени пот начинает струиться градом по его лицу. К его опасливому недоумению, некоторые люди принялись воспринимать его всерьез. Он почувствовал, как посредством приглашений и косвенных контактов его начинает втягивать в себя литературный свет. Морган сопротивлялся. Там он чувствовал себя неуютно. Туда он мог приходить только в качестве просителя. Он выработал технику, с помощью которой успешно справлялся с похвалами, расточаемыми в его адрес, – стоял, уставившись в пол все то время, пока ему курили фимиам. Пропускал мимо ушей славословия, но изображал саму скромность, пронзая взглядом землю вплоть до Новой Зеландии по ту сторону земного шара. Если практиковать это достаточно усердно, то со славой можно и примириться.
Единственным плюсом поднятой шумихи было то, что мать гневалась уже не так сильно. Лили дала понять, что ее утомляет литературная слава сына, но когда удостоверилась, что позора и унижения от его выходки не воспоследует, то замкнулась в недовольном смирении. Ее сын так и не научился жить как все порядочные люди, однако ему удалось достичь успеха с помощью ужимок. А то, что на нее падал отраженный свет его известности, ей в целом было даже приятно.
Пришло восторженное письмо Хома. А потом, в тот же месяц, когда книга вышла из печати, он сам приехал в Уэйбридж с визитом. Успех заставил саму кожу Моргана сиять: он чувствовал юношескую уверенность в себе и видел, что Хом находит его привлекательным. Однажды днем, когда мать вместе с Рут и Агнес ушли из дома, молодые люди вдвоем пили в гостиной чай. Хом вновь заговорил о том, насколько ему понравилась книга. После ее прочтения Морган стал ему еще ближе, сказал он.
Насколько ближе, стало ясно чуть позже, когда Хом оставил свою чашку и взялся за хозяина. Некоторое время они катались по дивану, а потом каким?то образом очутились на полу. В первый раз Хом поцеловал его, причем не один, а множество раз, и запустил свой язык Моргану в рот. Эта влажная близость была чрезвычайно возбуждающей, тем более что друзья не виделись целый год. И тем не менее единственное, о чем подумал Морган в эту минуту, так это о том, что Хом научился этому трюку у своей жены.
Послышались шаги Лили, вернувшейся с визитов. Друзья разомкнули объятия и вновь уселись на диване. Ошеломленный, Морган пил свой остывший чай. Он думал о своих сложных отношениях с другом, о том, как много ему было обещано и как мало он получил. Хом, успевший уже стать отцом близнецов, был весь в семье. Недавно он получил место профессора в Белфасте и собирался туда переезжать. Правда, жена его, Кристабель, отказалась ехать с ним, и его знакомые не без основания подозревали ее в том, что она была плохой матерью своим детям.
По известной только ему одному причине Морган решил заговорить об этом.
– То, что она не едет с тобой, никуда не годится, – проговорил он. – Я намереваюсь поговорить с ней.
– Силой же ее не заставишь! – покачал головой Хом. – Прошу тебя, не связывайся. Ты только восстановишь ее против себя.
– Она уже против меня.
– Морган, это не так. Ты ей очень нравишься. Начнешь с ней говорить, все испортишь. Умоляю тебя именем всего, что между нами было…
Образованный, Морган смягчился.
– Конечно, это твоя забота, – проговорил он. – Но вряд ли можно позволять женщине настолько усложнять твою жизнь. Если бы я был на ее месте, я поехал бы с тобой в Белфаст уже завтра.
– Я надеюсь, – сказал Хом, – что ты часто будешь меня навещать.
– И я надеюсь.
В конце концов их встреча закончилась радостно. Морган еще не знал, что они с Хомом таким образом касались друг друга в последний раз. Из той встречи он вынес теплое печальное чувство, похожее на угасающее сияние выгорающего костра. И это же чувство пребывало с ним назавтра, когда он пошел с Масудом в оперу.
Сидя рядом со своим индийским другом и братом, касаясь его колена своим коленом, а его локтя своим локтем, Морган мыслями и сердцем блуждал в другом месте, а именно – пребывал на ковре в собственном доме. Он понимал, что любить двоих людей вполне возможно, но только не в такой тесной последовательности. Он привык испытывать влечение. Но что поразило его в данном случае и что осталось с ним навсегда, так это знание, что он также способен пробуждать влечение в других. Огромное для него открытие!
* * *
Все последние месяцы Морган проводил немало времени в компании Масуда, но вряд ли был счастлив. Любовь смутила его сознание, а самого превратила в существо раздражительное и иррациональное. В привязанности людей друг к другу, размышлял он, имеется нечто противоречащее рассудку и здравому смыслу. Когда он был с Масудом, он подозревал, что все окружающие смотрят на них с холодным и злобным осуждением. Единственными счастливыми минутами были те, когда он оставался со своим другом наедине.
И тем не менее их близость возрастала. Сам тон их бесед изменился, стал более искренним и серьезным. Даже в своих письмах Масуд теперь отказывался он вычурного стиля, которым пользовался раньше, изображая в шутку то короля из волшебной сказки, то раба. Однажды в письме он признался, что любит Моргана так, как мог бы любить женщину или часть собственного тела. Такого он раньше не говорил никогда, но и Моргану эта декларация не пришлась по душе – он хотел, чтобы его любили совсем не так.
Незадолго до Рождества они вновь отправились в оперу, на сей раз на «Саломею» Рихарда Штрауса. После спектакля, по пути к своему обычному обиталищу, Оксфордско?Кембриджскому музыкальному клубу на Лестер?сквер, они обсудили то, что только что видели.
– Это смесь страсти и отмщения, – сказал Морган. – Порознь каждая из тем представляет собой достойный объект изображения, но, взятые вместе, они производят убогое впечатление. А то, что музыка поистине прекрасна, только ухудшает дело.
– Вот видишь! – воскликнул Масуд. – Именно то, о чем я и говорил, – страсть и отмщение есть очень восточное сочетание. Ты прекрасно ощущаешь подобные вещи.
К этой теме они возвращались множество раз, и обычно Моргану бывали приятны такие разговоры, но сегодня вечером шел холодный дождь и жаркая Индия казалось особенно далекой.
– Ты постоянно это повторяешь, – сказал Морган, – но ошибаешься. Лучше всего я разбираюсь в хорошем английском чаепитии.
– Ты не прав, мой милый, – покачал головой Масуд. – Я видел очень много англичан, но ты единственный, у кого столь развиты истинные чувства. Ты сам убедишься, когда мы поедем в Турцию.
Друзья планировали вдвоем отправиться в Константинополь. Идея состояла в том, чтобы посетить восточный город – что было бы репетицией перед знакомством с настоящим Востоком. Но пока Турция оставалась для Моргана недостижимой.
Они добрались до клуба. После обычной суеты с зонтиками и пальто у входа они нашли свободный уголок. Масуд заказал виски, Морган – чай. Пока официанты не появились с их заказами, друзья перебрасывались ничего не значащими фразами, как вдруг, подчинившись внезапно охватившему его чувству, Морган заявил:
– Вряд ли я напишу еще хоть один роман.
– О, нет! – воскликнул Масуд. – Ты обязательно напишешь. И не один, а много! Иначе я перестану с тобой разговаривать.
– Ты так легко говоришь об этом, потому что думаешь, что я шучу, – покачал головой Морган. – Но я действительно имею в виду то, что сказал. Ты слишком веришь в меня, а я и наполовину не являюсь тем писателем, которого ты во мне видишь.
Масуд, скользя взглядом по интерьеру клуба, поглаживал красивой рукой свои большие усы.
– Ну, перестань! – проговорил он. – Ты – единственный из здравствующих ныне писателей, кто хоть что?нибудь да значит. Ты много крупнее и значительнее, чем все остальные, вместе взятые.
Вдруг он увидел, что глаза Моргана наполнились слезами.
– О, прости, – смутившись, проговорил он. – Я не собирался шутить. Какой же я глупец!
Такой резкий переход от бурных проявлений чувства к подавленности был типичен для Масуда и, на взгляд Моргана, очень трогателен.
– Все нормально, – сказал Морган. – Я тебя обожаю.
– Но я не понимаю тебя, – проговорил Масуд. – Что случилось?
Морган и сам не знал, что случилось. Может быть, во всем виновато воспоминание о голове Иоанна Крестителя, которую внесли на окровавленном блюде? Неожиданно для самого себя он произнес:
– Ты ведь знаешь, что я люблю тебя?
– Конечно. Мы с тобой говорили об этом множество раз. И это чувство у нас взаимно.
– Я не уверен, что ты понимаешь, – продолжал Морган. Неожиданно он почувствовал, как им овладевает решимость.
– Не уверен, – повторил он.
Масуд молчал и спокойно оглядывал помещение. Клуб был набит битком. Рядом сидели люди; воздух полнился болтовней и смехом, и Моргану, чтобы быть услышанным, приходилось наклоняться вперед.
– Я люблю тебя как друга, – произнес он. – Но в моей любви к тебе есть еще кое?что. Ты для меня больше, чем друг. Я знаю, что ты хочешь мне сказать. Ты хочешь сказать, что в Индии друзья становятся друг для друга братьями и ты любишь меня как брата. Но я люблю тебя больше, чем друга, и больше, чем брата.
Глаза Масуда замерли. Взгляд был недоуменный и печальный.
– Я знаю, – сказал он и бегло тронул руку Моргана, лежащую на столе. Спустя мгновение он уже звал официанта.
Вот и все. Целый год ожидания, в течение которого напряжение росло с каждым днем, а вслед за тем – правда, выразить которую можно было всего несколькими словами. Возможно, не теми словами; может быть, эти слова не вполне передавали нужные значения. Тем не менее Морган сказал то, что хотел сказать.
Они вышли на улицу, в пронизанную ветром темноту, и, попрощавшись, разошлись в разные стороны.
Чувство, которое поначалу переживал Морган, граничило с эйфорией. Головокружительное ощущение свободы будоражило его, когда он садился в свой поезд. Оказывается, все было очень просто. И Масуд все понял – не случайно же боль на мгновение промелькнула в его глазах.
Но чувство свободы испарилось еще до того, как Морган прибыл домой. Значимость того, что он сказал, бременем легла на его плечи. Возникло ощущение, что он сделал слишком серьезный шаг, последствия которого даже не предусмотрел. А назад хода уже не было. И главное, Масуд ничего ему не ответил. Хотя он был и мягок, и вежлив с Морганом, когда они прощались, не мог ли он просто прятать под этой маской свои истинные чувства, истинную реакцию? Как постоянно напоминал ему Масуд, он индиец, а потому наделен совершенно иными, отличными от европейских, манерами и навыками поведения. Не мог ли он своими словами ужаснуть Масуда или вызвать в нем отвращение?
На следующий день Морган чуть успокоился. Он доверял тонкой душевной организации Масуда и надеялся, что все будет в порядке. Тем не менее он послал ему записку в надежде найти подтверждение своим предположениям. Ответа не последовало. Следующие несколько дней стали испытанием для его самообладания – от Масуда по?прежнему ничего не приходило. Кроме матери, у Моргана не было ни души, на кого он мог бы излить напряжение, овладевшее им, поэтому он несколько раз набрасывался на нее, а потом переживал, что был так несдержан. Горе его углубилось и стало еще сильнее после того, как принесли присланный Масудом к его дню рождения подарок. Подарок был странный – поднос с подсвечником, спичечный коробок и кусок сургуча. Кроме того, прилагалась записка, самая что ни на есть банальная. Читая и перечитывая совершенно пустые слова, Морган пришел к выводу, что подарок был отослан до того вечера в клубе, когда он так безрассудно открылся Масуду. Выглядел подарок как предвестник катастрофы.
Таким образом, приходилось привыкать к мысли, что их дружбе пришел конец. Нужно было возвращаться к прежней жизни, в которой он не знал Сайеда Росса Масуда и не говорил с ним. Сама мысль об этом была ужасна, но в ней присутствовал определенный расчет, она предоставляла возможность выбора. Был соблазн просто вычеркнуть Масуда из жизни, представить их дружбу как нечто совершенно незначительное и избавиться от нее.
Расстроенный и опечаленный подобными мыслями, которые, казалось, поднимаются из самых глубин его сердца, Морган отправился на прогулку. Он чувствовал, что должен внести порядок в свои чувства, а потому принялся размышлять по поводу того, что связывало его и Масуда с той минуты, как последний постучался в дверь его дома четыре года назад. Теперь ему представлялось, что их дружба совершенно не связана с Англией и его жизнью в этой стране. Она казалась ему не связанной даже с теми двумя людьми, что создали эту дружбу. Отвернуться от друга, забыть его образ означало поставить пятно на то, что их связывало. Любовь, которую он чувствовал в себе, при всей ее безответности, ощущалась им как некая благодать, как дар, отпущенный свыше, и он не имел права отвергать его. Даже если молчание Масуда будет вечным и им суждено расстаться, он не поддастся унынию и будет чтить этот дар.
Придя к такому решению, Морган пережил нечто вроде триумфа, который длился, пусть и время от времени прерываемый минутами сомнения, целый вечер. Поэтому несколько неуместным оказалось в этой связи письмо Масуда, который писал так, словно не вполне осознавал масштаб и последствия сделанного Морганом признания. «Ничего не нужно говорить. Все понятно». Да, именно так, но потом Масуд сразу же перешел к иным, обыденным темам, которые могли кого угодно привести в ярость своей тривиальностью. Стало яснее ясного, что для него эта тема закрыта.
* * *
С Константинополем не вышло ничего. Вместо этого спустя шесть месяцев они отправились на итальянские озера. Несколько дней они провели на швейцарской стороне границы, а потом, после того как Масуд уехал, Морган, уже в Италии, присоединился к Голди. Совсем неплохая замена – Италия была страной, где впервые зашевелилась в нем его душа. Когда десять лет назад он путешествовал по Италии с матерью, пронизанный чувственностью пейзаж с экзотическими руинами под раскаленным небом разбудил в нем личность и писателя. И вот в один из дней, когда он в одиночестве отправился на прогулку вблизи Равелло, то, что являлось ему лишь в воображении, стало явью.
Морган находился в лесу, среди перекрученных стволов, и вдруг, когда спокойный сухой день, казалось, не предвещал ничего, неожиданно задул сильный ветер. Морган остановился, глядя на полощущиеся на ветру листья, и ему привиделось, что этот ветер возвещает явление некоего старинного языческого бога, например Пана. Как только эта мысль пришла ему в голову, ветер резко усилился; ветви деревьев стали качаться под его порывами, и Морган побежал. Он был искренне напуган, но еще больше взволнован – древний мир, древние боги преследовали его, буквально наступая на пятки. Только когда он выбежал из леса и внизу показались крыши современного города, он остановился и перевел дух. То, что случилось, а точнее, не случилось, вызвало в нем и страх, и недоумение, и смех. И только потом он вдруг осознал, что в его сознании родился рассказ – цельный и законченный. Как только он добрался до своего пансионата, так сразу сел и записал его.
С тех пор Морган не раз посещал Италию. Именно там протекало действие двух его романов. Холодному упорядоченному миру Англии он предпочитал итальянское язычество. Подобные надежды он питал и в отношении этой своей поездки. Но все получилось совсем не так, как он ожидал. Между ним и Масудом восстановилась радостная близость, и выдался один особенно чудесный момент во время поездки, когда они рядом встали на колени в коридоре поезда и принялись через окно рассматривать звезды. Но явилась в их отношения и печаль – их время в Англии заканчивалось, Масуд в Лондоне готовился к экзамену на адвоката, после чего, через несколько месяцев, собирался вернуться в Индию.
В один из первых дней их поездки Масуд начал каким?то особенным тоном говорить об официантке из отеля. Не сразу, но Морган понял, что тот предлагает ему приударить за ней. Занятное предложение, если учесть все, что произошло.
– Ты помнишь, какой разговор мы вели в клубе, незадолго до Рождества? – спросил он.
Масуд слегка нахмурился и кивнул, явно смущенный.
– Я не уверен, что ты меня правильно понял, – продолжал Морган, – хотя яснее я выразиться не мог.
– Я тебя понял, – возразил Масуд.
Воцарилась тишина. Они были в Тессерете, в номере гостиницы, и из окна виднелось озеро. Морган перевел взгляд с лица друга на серую движущуюся поверхность воды.
– Позволь мне высказаться, – попросил он.
– Конечно, говори, прошу тебя! – отозвался Масуд.
– Когда я говорю, что люблю тебя, я не имею в виду что?то поверхностное или преходящее. Я говорю, что хочу прожить с тобой всю свою жизнь. Не рядом с тобой, не параллельно твоей жизни, а именно с тобой. Я имею в виду…
Морган запнулся, смысл, который он пытался передать, ускользнул от него.
– Но ты всегда со мной, Морган, – проговорил Масуд.
– Нет, я говорю не то и не так, – покачал головой Морган, жестом выражая свою беспомощность и неудовлетворенность теми словами, которые даны нам для выражения невыразимого.
– Что я хочу, так это… – храбро вновь начал он, – я имею в виду… я хочу…
То, что он желал высказать, висело между ними, так и не получив словесного выражения.
– Я тебя понимаю, – сказал Масуд немного сердитым тоном. – Но это невозможно. Пожалуйста, поверь мне – будь это возможным, я бы дал тебе это. Но я не могу.
Морган посмотрел на свои пальцы. Они выглядели так, словно не принадлежали ему – бледные, странные и нелепо сегментированные. Он представил их себе так, как видел всегда: вот они держат перо, наносят ряды слов на лист бумаги. И он понял, что его пальцы никогда не смогут коснуться тела другого человека – так, как он этого хочет.
– Понимаю, – сказал он.
Уже более мягким тоном Масуд продолжал:
– Я понял это. Понял некоторое время назад, мой милый. Сначала я испугался, но потом…
Теперь объясниться должен был он. Он пожал своими широкими плечами, коротким удрученным вздохом всколыхнул свои усы и наконец сказал:
– Морган! Ты мой лучший друг. И я не хочу, чтобы это исчезло.
– Я понимаю, – глухо отозвался Морган.
Повисло напряженное молчание, которое прервал Масуд – он потянулся, нарочито широко зевнул и сказал:
– Думаю, нам стоит пойти на прогулку, нагулять аппетит перед обедом.
Самое важное, что было между ними, так и осталось невысказанным. Оставшиеся дни совместного житья на границе с Италией они провели в спокойной дружеской атмосфере, не подверженной воздействию со стороны сильных эмоций, за исключением тех, что сопровождали соблазнение довольно уродливой официантки – Масуд не особо стремился скрыть от друга свое приключение.
* * *
Морган вернулся в Англию и впал в свое обычное болезненное состояние. Его бабка по материнской линии, Луиза, несколько месяцев назад умерла, и это событие подкосило Лили. Что до Моргана, то он любил Луизу и думал, что она хорошо прожила свой век. Ее уход из жизни погрузил его в печаль, но сама ее жизнь была во всех отношениях достойной, и он нес с собой ее последний подарок – чувство благодарности за то, что сам он живет на этом свете. Но Лили не смогла справиться с ударом. Она громко рыдала все последние часы жизни Луизы. Когда же мать отошла, словно тень смерти повисла над Лили; горе ощущалось ею почти как физическая ноша, и она, не прекращая, жаловалась.
Морган надеялся, что за время его отсутствия в течение месяца что?нибудь изменится. В самом начале года, сразу после того, как он пытался объясниться с Масудом, его собственное здоровье слегка пошатнулось. Может быть, его силы подтачивало разочарование, но так или иначе он вдруг почувствовал себя значительно старше, как будто время его жизни резко сократилось. Врачи поговаривали о туберкулезе. Его опсонический индекс был чрезвычайно низок, что говорило об ослабленной сопротивляемости к болезням, а потому его доктор настаивал на поездке в санаторий. Но в Моргане, глубоко под кожей, шла борьба, и постепенно его тело и его дух восстановились и окрепли. И он твердо намеревался не дать второму по счету разочарованию вернуть его в то болезненное состояние.
Однако теперь ему приходилось бороться не только со своей печалью, но и с печалью, которая отравляла душу его матери. Она постоянно ворчала и обвиняла его в многочисленных проступках, что выбивало у него почву из?под ног. Более того, он оказался в точке, откуда движение вперед было совершенно невозможным. Недавно Морган опубликовал сборник коротких рассказов, но даже литературная форма, в которой раньше он находил особое удовольствие, ему больше не давалась. Он подошел к этому жанру с другой стороны – украдкой, ощущая, что совершает нечто запретное, и вновь начал писать рассказы.
Рассказы были эротическими – воплощение того, что Морган раньше осмеливался только представлять себе. Писал он их не для того, чтобы выразить, но для того, чтобы возбудить себя. Хотя некоторые из рассказов ему нравились, он понимал, что в чем?то повторяется и что не способен отказаться и отвязаться от одного и того же героя – высокий, темнокожий, атлетически сложенный красавец, тот появлялся в сюжете, и все остальное было предопределено. В реальной жизни подобного человека не существовало. Хотя, может быть, наоборот, он пребывал повсюду – прекрасный и недостижимый.
Показать эти рассказы миру Морган не мог. Они хранили в себе его стыд и память о его тайном возбуждении; они несли в себе значительнейшую часть его жизни! Эти истории проникли даже в слова, которыми он пользовался, и отравили их. Он начал было очередной роман, который назвал «Арктическое лето», но сразу почувствовал, насколько пустым получается повествование, насколько тщедушной и нелепой выглядит история. Идея романа родилась в Базеле, на станции, когда он, возвращаясь из Италии, оказался на платформе в ужасной толпе английских туристов, едва не столкнувших его под поезд. Дело было в том, что об этих людях он уже писал. Нелепые английские путешественники, которые теряются, а потом вновь находят друг друга в Италии, – что еще мог он о них сказать? Морган знал их слишком хорошо, и они не стоили его внимания.
Может быть, ответ на мучающие его вопросы лежит впереди, в индийском романе, о котором он думал? Теперь Индия обретала в его сознании черты все большей определенности. Его роман «Говардс Энд» хорошо продавался, и деньги на поездку были. Он грезил почти наяву, хотя и не признался бы никому, что вот, мол, он отправится в Индию и там пропадет, исчезнет без следа. Он не умрет, нет, но просто перейдет в другую жизнь, станет другой личностью и никогда не вернется ни к себе самому, ни к Англии.
Эти грезы были тем интенсивнее, чем хуже с ним обращалась мать. Однажды вечером она так жестоко трепала ему нервы, упрекая во всевозможных грехах и проступках, что он едва не потерял над собой контроль. Матери понадобилось уйти из дома вечером, чтобы навестить приятельницу, но она громогласно заявила, что не может себе этого позволить, поскольку в доме за целый день никто не сделал ни одного полезного дела, горничная и повар ушли, а Моргану доверять нельзя – вряд ли он в ее отсутствие правильно себя накормит. И еще у нее болела спина оттого, что она, склонившись, возилась в саду. А может быть, это снова ее ревматизм?
– О, мой несчастный мальчик, – стенала она. – Почему я такая слабая? И почему я просто не могу уйти? Исполнить все свои обязанности и уйти? Только какой смысл говорить об этом? Какой вообще во всем смысл?
В конце концов она ушла. Морган остался один. Стоя в гостиной, он почти физически ощущал, как давит на него своими острыми зазубренными углами стоящая возле стен молчаливая мебель. Невыносимо было знать, что он вынужден будет делить с этой женщиной дом до конца дней – своих или ее. А ведь ей всего пятьдесят шесть! Годы и годы тусклого существования простирались перед ним, затягивая его словно вакуум. И ясно было – больше ему не выдержать и минуты.
Подойдя к камину, Морган одним отчаянным движением руки смахнул на пол все, что стояло на каминной полке. Какофония падающей бронзы и разбивающегося фарфора слилась в единый аккорд с хаосом, царящим в его душе. Все! Больше он не будет невидимкой; покончено с тайной, тщательно скрываемой жизнью. Кто бы догадывался, что под маской полного спокойствия зреют такая ярость и такой гнев? Знал ли он сам об этом? Нагнувшись, он поднял валяющийся там осколок фарфора и без колебаний полоснул им себя по горлу. Боль и струя алой крови несли и утешение, и ощущение свободы. И, бросившись к двери, он выбежал из дома в темноту и холод ночи.
Совершил ли он все это? Увы, нет. Он стоял перед каминной полкой, уставленной всевозможными безделушками, и, пока восстанавливалось дыхание, смотрел, как его красное дрожащее лицо, отражающееся в зеркале, обретает нормальный цвет. И когда мать его вернулась со своей встречи, он ждал ее у двери, внимательный и заботливый – маленький Попснэйк, готовый принять мамино пальто. Как он ненавидел себя в ту минуту!
Только чуть позже Морган осознал, что вечер, когда он так и не дал волю своему безрассудству, пришелся на годовщину смерти его отца. Может быть, это обстоятельство объясняло плохое настроение и матери, и его собственное. А может быть, это обстоятельство не объясняло ничего – его отец ушел из жизни так давно, что само его отсутствие служило формой присутствия.
* * *
Его отец вновь появился в их жизни шесть месяцев спустя, в форме еще одного резкого разговора с Лили по поводу скверного сыра. Они навещали Уэст?Хэкхёрст, дом в Эйбинджере, который старший Форстер спроектировал и построил для своей сестры. За ланчем, в саду, тетя Лаура спросила Моргана, как ему понравился сыр. Он только что отведал его – сыр был ужасен. Но он, закованный в броню вежливости и хороших манер, не смог заставить себя признаться, а потому солгал, сказав, что сыра еще не пробовал.
Лили видела, что он ел сыр. Она в упор посмотрела на Моргана, и он униженно опустил глаза.
– Ты ел этот сыр! – громогласно заявила Лили, а когда к ней повернулась Лаура, сказала: – Сыр плохой.
– О, какая жалость, – заверещала тетя. – Сейчас его уберут.
Но в конечном итоге сыр только отставили в сторону, и он оставался там до конца ланча, издавая слабый душок. Морган понимал, что Лили еще не закончила разговора о сыре, а потому, когда во время поездки домой она с иронией в тоне спросила, почему он солгал, Морган внутренне напрягся и сказал:
– Мне это казалось неважным.
– Ерунда! – произнесла она. – Ты просто струсил. Ты – как твой отец. Он всегда топал ногами не тогда, когда нужно. Как, собственно, и ты.
Она принялась копаться в своей сумке в поисках пастилок и наконец вынесла окончательное суждение об отце Моргана:
– Исключительно слабохарактерный тип.
Морган был сверх меры уязвлен этими словами Лили. Хотя она и любила мужа, но, когда упоминала его имя, что?то обязательно да подразумевалось. В целом же муж был для нее воплощением пустоты и неуместности. Главное, что отец оставил в наследство сыну, – ошибка, связанная с полученным при рождении именем. Морган должен был называться Генри Морганом Форстером, но перед обрядом крещения, когда служка осведомился у отца, каким именем они собираются наречь младенца, тот, ни минуты не задумываясь, назвал свое полное имя – Эдвард Морган Форстер. Поэтому Генри совершенно случайно стал Эдвардом, но, чтобы не путать его с отцом, все стали называть его не по первому, а по второму имени – Морган.
Лили, как отмечал Морган, никогда не говорила о своем муже с пренебрежением. Что его действительно беспокоило, так это пренебрежение, которое мать демонстрировала по отношению к нему самому. Он видел в ее глазах отвращение, вызванное самим именем Морган, и поэтому чувствовал глубокий стыд. Морган был совершенно бессмысленным, никому не нужным созданием, и жизнь его всегда будет средоточием нелепостей. Не имелось у него ни силы воли, ни мощи духа, с помощью которых он мог бы каким?нибудь образом определить и оформить свое будущее. Именно таковым Лили его видела, и это уязвляло его глубочайшим образом.
Ну что же, вскоре он покинет ее, всего через несколько месяцев; и, наверное, именно неотвратимость его поездки в Индию так омрачала ее настроение. Было решено, что Морган будет сопровождать мать и ее добрую подругу, еще по Тонбриджу, миссис Сесилию Моу, до Рима, где оставит их, к своей неизбывной печали, предоставив попечению друг друга, а сам в Неаполе сядет на корабль, который доставит его в Бомбей, откуда он двинется на север, чтобы воссоединиться с Масудом в Алигаре. Впоследствии ему предстоят и другие поездки, но пока именно встреча и воссоединение с Масудом лежали в сердце всего его путешествия.
Масуд уехал домой в начале года, и последствия его отъезда оказались совсем не такими, как ожидал Морган: ему было гораздо труднее пережить разлуку с другом, чем он предполагал, но одновременно отсутствовала и резкая жгучая тоска, которой он ждал и которой боялся. Масуд оставил позади себя пустоту, где эхом отражалось и каждое слово, и каждый жест; мрак и уныние поселились в предметах, окружающих его, и даже самые милые сердцу английские пейзажи уже не успокаивали. Почти сразу после отъезда Масуда Морган отправился в Белфаст, навестить Хома. Что он хотел там найти? Какое?то успокоение? Сочувствующие мужские объятия? Вместо этого он оказался в самом центре бдительного и сурового города, раздираемого политическими бурями. В Ольстере бушевала революционная риторика, яростные дебаты по поводу отделения от Англии, на которые бросал тень визит Первого Лорда Адмиралтейства Уинстона Черчилля, привезшего на север острова новые предложения по поводу учреждения там автономии. Незначительные поначалу разногласия готовы были перерасти в нечто более значимое: не исключалась возможность гражданской войны.
Хом привел Моргана на чай в дом верного сторонника Ольстерского Клуба реформ, который противился установлению любой из форм автономии. Этот человек, во всем прочем придерживавшийся широких либеральных взглядов, сразу же заявил Хому и Моргану:
– Белфаст готов выслушать любого человека, но только не Иуду, и не того, кто при каждом удобном случае выворачивает пальто наизнанку.
Так в Ирландии именовали ренегатов, и Морган почти автоматически бросил быстрый взгляд на свое крайне удобное и практичное двустороннее пальто – он не помнил, какой стороной его сегодня надел. И с трудом подавил ухмылку.
– Мы не собираемся действовать в соответствии с какими?то там принципами, – громко продолжал говорливый политик. – И мы не станем притворяться, что эти принципы у нас есть.
Его миниатюрная жена, которая чуть поодаль от стола занималась с ребенком, неожиданно вторглась в разговор, заявив:
– Это только показывает бесполезность любых принципов.
После чего, но уже более взволнованным и высоким голосом, она повторила эту сентенцию своему младенцу.
Все события были в высшей степени тревожными. Морган, уезжая, пообещал матери, что не станет участвовать в массовых сборищах на ближайшем стадионе, но везде, куда бы он ни направился, атмосфера была накалена и жестокие стычки могли произойти буквально из ничего. В город было введено до четырех тысяч военных дополнительно. Морган отправился к центральной гостинице, где остановился Черчилль, и ждал там вместе с толпой, сгрудившейся в фойе. Он не знал, зачем пришел сюда, тем более что особой любви к этому человеку не питал. Но момент был исторический. Он услышал рев толпы, собравшейся на улице, когда Черчилль появился у окна, а вскоре этот невысокий, но крупный человек с болезненно?бледным лицом цвета корня, сидящего глубоко под землей, появился в фойе и, проходя сквозь толпу к выходу, задел Моргана. Не уверенный, как ему ответить на это прикосновение, Морган вежливо приподнял шляпу.
Взрастающие побеги религиозного конфликта породили первые трещины на монолите империи. Морган возвращался домой с таящимся в глубине души беспокойством, ощущая под ногами глухие подземные толчки. И это ощущение тревоги, казалось, не имеющей корней, и дома не позволяла ему чувствовать себя спокойно. Желание писать в нем иссякало, а без него жизнь была совершенно пустой. Он влачил свои дни, читая газеты и переедая за столом, иногда выполняя поручения матери, а иногда катая ее на лодке по реке. Спал в кресле в саду и без всякого энтузиазма играл на фортепиано. Себе он казался человеком без хребта, неспособным определить свою сущность хотя бы для того, чтобы в ней разочароваться.
Поэтому, когда он услышал, что Голди получил свой первый грант от Альбера Кона и решил использовать его для поездки на Восток, а кроме того, еще и Боба Треви убедил к себе присоединиться, Морган наконец принял решение. В конце года он будет в их компании!
К его удивлению, Лили не пришлось долго уговаривать. Слегка подлизаться, поиграть на нежных чувствах – и она не возражает. Естественно, она уже предполагала нечто в этом роде.
– Конечно, ты должен поехать, пока не превратился в старика, – сказала она. – И я рада, что с тобой будут друзья. Ты же совсем не умеешь путешествовать. Постоянно теряешься и забываешь путеводитель Бедекера.
– Я не думаю, что постоянно буду с ними. У меня есть и индийские друзья.
– Ты имеешь в виду Масуда? – спросила она.
И, поразмышляв минуту, заявила:
– Конечно, очень хорошо, что ты встретишься с ним у него дома.
– Это почему? – не понял Морган.
Лили печально улыбнулась:
– Если он когда?нибудь вернется в Англию, все здесь будет уже не так.
Глава третья
Индия
В сравнении с более занятными вещами, которые Морган повидал во время путешествия, пещеры его разочаровали. Правда, подъезжать было интересно: сидишь на раскачивающейся спине верблюда, который по обожженной равнине несет тебя к Барабарским холмам, а из дымки на тебя надвигаются гигантские скалы. Первая из скал оказалась самой удивительной – подобной огромному каменному пальцу, указывающему на небо. Только когда подъезжаешь ближе и видишь ее сбоку, она изменяет форму: появляется вытянутый хребет, а гигантский булыжник на вершине превращается в веерообразное скопище камней поменьше.
– Это Кава Дол, – сказал, улыбаясь, Имдад Иман.
– Что это означает?
– Место, где ворона…
Он покачал рукой.
– Качается, ты хочешь сказать? Качели для вороны?
– О, да! – сказал старик. – Именно так.
Но камень, несмотря на то что его положение представлялось неустойчивым, не выглядел как качели, и кажущееся взаимопонимание говоривших оборачивалось полным непониманием. Однако, каким бы ни было значение этого слова, имя скалы осталось в сознании Моргана на уровне элементарном, вместе с образом каменной башни. «Кава Дол» – звук этого имени был и древним, и зловещим – исторгающим мрак из земных глубин.
Тем не менее конечным пунктом их поездки были вовсе не скалы. Медленно проехав мимо их основания, Морган и его спутник двинулись к дальней гряде холмов. Сложенные из таких же сферических серых камней, наваленных друг на друга в полном беспорядке, они напоминали иные, живые формы. Морган, казалось, слушал Имдада Имана, который писал стихи на урду и ценил все английское, от поло до поэзии, но мысли его блуждали далеко.
От прогулки, как говорил Масуд, он должен был бы получить немалое удовольствие. Правда, слова эти Масуд произнес без особого энтузиазма, да и самому Моргану ехать не очень хотелось. Радости этого дня призваны были утешить и развлечь Моргана, который накануне, перед тем как двинуться в дальнейшее путешествие, попрощался со своим другом. Хотя он проехал только половину своего индийского маршрута, остаток пути он вынужден будет проделать без Масуда, и это печальное обстоятельство давило ему на грудь непомерной ношей.
Когда путешественники сблизились со второй грядой холмов, внимание Моргана привлекла их серая поверхность, то там, то сям декорированная скупой растительностью, и он на время забыл свою грусть. Место было таким необычным, столь дико несообразным с погруженной в дымку равниной, что казалось насильно перенесенным из другого мира. В роще у подножия каменной гряды уже раскинулись палатки их авангарда, и вверх поднимались струи дыма. Но завтрак, на который путешественники рассчитывали, еще не подоспел, а потому им посоветовали поначалу осмотреть пещеры.
Наваб Имдад Иман был другом Масуда, и тот поручил ему исполнять все желания Моргана. Раздосадованный медлительностью повара, Имдад Иман сказал, что останется в лагере и присмотрит за приготовлением завтрака. Сопровождать же Моргана он поручил двум своим племянникам, некрасивым и нескладным юношам, которые и повели английского гостя к ближайшему холму.
Тропинка, ведшая туда, бежала меж деревьями. Почти сразу они вышли к святилищу – выбитой в скале нише, в центре которой стоял высеченный из камня идол, увитый умирающими цветами. Но если у этого святого места и имелся служка, его нигде не было видно. Тропинка начала уходить вверх. Вокруг становилось все светлее и жарче. Деревья здесь почти не росли, а пение птиц вскоре сменилось жужжанием насекомых. Путники шли молча, и единственный звук, который они издавали, был шум дыхания.
В общем, подъем оказался не таким уж и трудным. Буквально через несколько минут они вышли на каменный уступ, и племянники провели Моргана к высокой скале с двойным гранитным гребнем, делающим ее похожей на кита, поднимающегося из глубин. Треугольный вход в первую пещеру был выбит в боковом склоне скалы. Утро же склонялось к дню, и ночная свежесть давно покинула лежащие на склонах скалы тени.
Но внутри пещеры, в ее прохладном чреве, еще можно было спастись от зноя.
Пещера представляла собой зал около тридцати футов длиной с двумя куполами. Сплошь пустота – посмотреть нечего, нечем и восхититься. Но здесь же Морган сразу понял, что племянники от него чего?то хотят – они настойчиво тянули его за рукав, произнося какое?то слово. Морган, не понимая, согласно закивал головой, чтобы они замолчали. Ему стало ясно, что он обманулся в отношении этих якобы знаменитых пещер. Они вышли из первой пещеры, и молодые люди потащили Моргана по выбитым в скале ступеням к двум другим, находящимся на противоположной стороне.
Вначале они подвели его ко второму входу. Здесь вход был декорирован куполообразной аркой, с выгравированной на ней процессией слонов, а также небольшим количеством букв, вероятно, священного языка пали. Правда, в сравнении с иными статуями и храмами, которые Морган помнил, то, с чем он столкнулся в этой пещере, казалось странным образом незаконченным. Через вырезанный в скале прямоугольный проход вы проходили во внутреннее помещение со сводчатым потолком, а оттуда, через еще один короткий коридор, в следующую комнату с таким же точно потолком. Но резьба на поверхности стен и потолка была закончена лишь наполовину, что производило отталкивающее впечатление.
Морган отступил к входу в третью, центральную пещеру и попытался вспомнить, что рассказывал о всем комплексе Имдад Иман, когда они забирались на верблюдов. Что это были буддистские пещеры, чье строительство датировалось двести пятидесятым годом до нашей эры? Он точно помнил, что их приказал построить император Ашока. Но было еще кое?что, связанное с формой пещер, – то, что он позабыл. Что?то про медитацию? Он не обратил внимания, поскольку мысленно находился в другом месте, и предназначение пещер осталось загадкой, как и многое остальное в этой стране, по крайней мере для него.
Пещера оставляла самое сильное впечатление. Здесь над вами также нависали сводчатые потолки, но стены были отполированы настолько тщательно и искусно, словно обработанные какой?нибудь сверхсовременной машиной. И здесь находился коридор, ведущий в похожую на улей внутреннюю комнату конической формы, с высоким потолком.
В комнате стояла абсолютная темнота, пока один из племянников не зажег свечу. И сразу же словно второе пламя вырвалось из недр полированного гранита, высветив красно?серую фактуру камня. Стены были отполированы до состояния стекла, и их гладкая поверхность под скользящими пальцами была сколь прекрасна, столь и приятна на ощупь.
Неказистые племянники, совсем не знавшие английского, все повторяли и повторяли какое?то слово, непонятное Моргану. Но само слово, как, впрочем, и все слова, произносимые в этой пещере, отразившись как в зеркале от самих себя, начинали шелестеть и трепетать повсюду.
Наконец Морган догадался. Слово, которое твердили молодые люди, означало «эхо»! Вот почему стены пещеры были так отполированы – чтобы помочь эху зазвучать в полную силу. Комната, исполненная в форме купола, предназначалась для песнопений, а песнопения должны были многократно повторяться, отражаясь от стен в виде нечетко звучащего рокота, напоминающего шум прибоя.
Потом один из племянников произнес слово «завтрак» и погасил свечу. Экспедиция была окончена.
В молчании они спустились по холму, оставив позади себя скалы и темноту пещер. Однако пещеры оказались совсем не такими, какими их ожидал увидеть Морган. Они не были буддистскими, и язык, чьи письмена он увидел на входе в третью пещеру, не являлся языком пали, хотя был таким же древним и столь же мертвым. Пещеры использовала совершенно другая секта, люди, идущие дорогой аскетизма более явного, чем все его прочие формы. Сюда, в эти пещеры, не было доступа тем, кто исповедовал более мягкие формы верований и оставлял своих больных и стариков умирать на свежем воздухе. Во что верили древние и как они отправляли свои религиозные ритуалы – все скрылось под пылью веков. Но что?то от их присутствия все же осталось, нечто призрачное и скрытое в гладком как зеркало камне, которого касалась рука гостя, чувствительная к старинным тайнам.
Завтрак все еще не был готов. Наваб вздохнул, задумчиво дернул себя за бороду и свирепо заговорил с племянниками. Потом мягким голосом, но с сильным акцентом он сказал Моргану:
– Иди посмотреть другие пещера. После мы есть.
Другие пещеры! В тех пещерах, которые Морган успел увидеть, не было ничего достойного внимания, ничего, что могло бы взволновать и привести его в восторг. До пещер пришлось идти милю?две, но он покорно потащился за племянниками, которые, пребывая в дурном настроении, палками сбивали росшие вдоль тропы растения. Солнце нещадно палило, и температура вполне соответствовала пустоте, ощущаемой Морганом.
Новые пещеры не помогли ее заполнить. Их тоже было три штуки, вырезанных в камне, но найти их оказалось гораздо труднее, чем предыдущие. Представляя собой некие вариации на тему тех пещер, что Морган уже видел, эти имели правильной геометрии полированные стены, но ни одна не содержала внутренней темной комнаты. В последнюю из пещер приходилось карабкаться по ступеням, вырезанным в камне. Когда Морган поднялся туда, ощущая, как пот струится по лбу, а колени дрожат от слабости, вызванной в том числе и голодом, он так и не смог пробудить в себе должного воодушевления. Внутренности пещер походили друг на друга, равно как и эффекты эхо.
Когда экскурсанты вернулись в лагерь, завтрак по?прежнему не был готов. Наваб выглядел несчастным. Один из племянников сердито сказал, глядя на Моргана:
– Ты приходить.
Он имел в виду, очевидно, последнюю из пещер, которая принадлежала к первой группе и которую они по какой?то причине пропустили. С ощущением все нарастающего голода Морган вернулся туда, откуда они начали свою экскурсию.
Пещера располагалась немного в стороне, по ту сторону мрачного озерца с зеленой водой, над скоплением скользких камней. Вряд ли результат стоит затраченных усилий, подумал он, – пещера была гораздо примитивнее прочих и представляла собой обычное отверстие, выдолбленное в склоне холма. Но Морган задержался здесь, полусогнувшись под низким потолком, чтобы отдохнуть от слепящего солнца. Его взгляд вдруг привлекла оса, которая ползла по стене, таща за собой желтые задние лапки. Морган неожиданно залюбовался ею, а когда пришел в себя, обнаружил, что племянник наваба исчез, оставив его одного.
Медленно продвигаясь назад к тропинке, он вдруг захотел вернуться к центральной пещере – той, что произвела на него самое сильное впечатление. Хорошо бы остаться на несколько минут одному, спрятавшись в недрах скалы! Он вошел и, пройдя внутрь первого помещения со сводчатой крышей, обернулся и взглянул назад. По ту сторону входа оставленный им мир казался сном, который он смотрел сквозь окно. Морган углубился в пещеру и проник во второе помещение. И вдруг утонул – и в мире, и в самом себе. Он произнес свое имя, и пещера отозвалась, нескончаемое количество раз повторив его. Он назвал имя Масуда, а потом произнес «люблю»; и стены вновь откликнулись.
Первый раз за сегодняшний день он позволил себе обдумать то, что чувствовал. Последние две с половиной недели он провел с Масудом в Банкипоре, маленьком грязном городке на окраине Патны. Масуд занимался юридической практикой, и Моргану иногда казалось, что он не дает ему нормально работать. Но, вероятно, только казалось, потому что ничто в эти дни не омрачало их дружбы и не мешало приятному совместному времяпрепровождению. Тем не менее последняя неделя для него оказалась омраченной ожиданием близкого расставания, а день перед отъездом вообще стал необычайно печальным и трудным и разрешился своеобразным прощанием глубокой ночью.
Моргану нужно было уезжать рано утром, и он попросил Масуда не просыпаться. Хотя он сказал это достаточно твердым тоном, в глубине души он надеялся, что друг воспротивится его желанию, и даже хотел, чтобы Масуд настоял на своем праве проводить его в дальнейший путь. Но Масуд зевнул и согласился, сказав, что очень устал и вставать рано нет никакого смысла. Что ж, разумное решение. Поэтому, отправляясь спать, они попрощались в несколько натянутой манере, словно что?то недоговаривали, и, стыдясь самих себя, разошлись.
Но почти тотчас же, стоило лишь Моргану начать раздеваться, как острое чувство пронзило его. Он бросился в комнату Масуда и, сев на край кровати, крепко взял его за руку. Холодная тоска, охватившая все его существо, придала некоторым деталям особенную рельефность – белое антимоскитное покрывало, тени на его складках. Даже будь он в состоянии говорить, вряд ли смог бы сказать то, что хотел. Порыв чувства толкнул его к Масуду; он попытался его поцеловать, но в колеблющемся свете лампы увидел лицо друга – сперва удивленное, а затем возмущенное. Масуд поднял руку и оттолкнул Моргана, и тот почувствовал в этом движении силу, способную, казалось, сдвинуть с места и скалу. И Морган принял этот отказ, ибо ожидал его, и теперь горестно сидел, переживая все муки неразделенного чувства. Однако раздражение, которое чувствовал Масуд, длилось недолго. Он погладил плечо Моргана, похлопал его по спине, и в этом жесте сквозило и желание приободрить, и легкое пренебрежение. Оба молчали, хорошо все понимая. Масуд не чувствовал того, что чувствовал Морган, – это и служило камнем преткновения. Ну что тут скажешь?
И Морган вернулся к себе еще более одиноким, чем прежде, а то пространство, что разделяло их комнаты, превратилось в стену между двумя мирами.
В темноте своего временного жилища он вновь пережил то, что с ним только что произошло, испытав жгучий стыд. Ай?ай?ай! Это было ужасно! Ужасно – сгорать от подобного желания и быть отвергнутым столь твердо и бескомпромиссно! Ночь и бесконечная равнина простирались вокруг, и их величие заставляло Моргана чувствовать себя совсем крохотным и слабым. Он раскрылся, показав свои самые тайные мысли и желания; это было сделано слишком поспешно и необдуманно, а потому теперь приходится жалеть. Он должен вновь закрыться, уйти в непробиваемый панцирь, причем и сделать это немедленно. Еще в детстве он научился защищаться от уколов разочарования, набрасывая на себя маску весельчака.
Единственной защитой от необоримого обнаженного чувства служил рассудок.
Понимание делало печаль переносимой.
Мысли, следующие в его сознании одна за другой, казались ступенями, выводящими его из глубин горя, и каждая, веская и искренняя, вырастала из своей предшественницы как из хорошо удобренной почвы. Последовательность их была примерно такова:
Масуд любит меня больше, чем кого?либо другого, и я знал это давно. И это меня утешает. Во время моей поездки между нами произошло многое, что сделало меня счастливым. Это замечательно! Я могу обойтись и самой малостью, тем, что у меня уже есть. Лучше иметь немногое, чем стремиться к недостижимому.
В конце концов нужно было возвращаться к собственной жизни, и он пытался – выплывая и моргая полуслепыми глазами на солнечный свет, свет обычного дня, настоятельно требующий его возвращения. Это напоминало возвращение из могилы. Он поспешил вниз по склону холма быстрее, чем было необходимо, так, словно его преследовали. И вот они – палатки, тлеющий костер и монументальный слон, щиплющий жухлую траву.
Завтрак наконец подоспел: непрезентабельный жидкий омлет, тонкая пресная чапати да кружка чая. Но и этого было достаточно, чтобы восстановить дух Моргана; сидя в тени и беседуя с Имдадом Иманом, он ощущал, как нечто обещающее возвращается в простирающийся вокруг ландшафт с его белесыми тонами, низкорослым колючим кустарником и старыми зазубренными скалами. Он знал уже, что расставание с Масудом будет лишь болезненной деталью в событии более значительного масштаба, каковое уже некоторое время разворачивалось перед ним.
В течение трех последних месяцев Индия свирепо вторгалась и почти полностью изменила его жизнь, хотя и не до конца. Его путешествие началось в Алигаре. Он забрался за тридевять земель только ради одного. И хотя его путешествие только начиналось, в известном смысле оно близилось к концу, когда в два тридцать утра он стоял на железнодорожном вокзале и обнимал Масуда.
– Наконец ты здесь! – говорил ему его друг.
– Я этому даже не верю.
– Как я выгляжу? Стал старше?
Масуд несколько поправился, а его соломенные волосы местами подернулись белым, но Морган проговорил:
– Ты совсем не изменился.
– Ты тоже, – отозвался Масуд. – Все десять лет я только и думал о нашей встрече.
– Мы знакомы только шесть.
– Вот как? Ну что же, я выразился метафорически. Моя великая любовь к тебе заставляет время бежать быстрее.
Но, говоря эти слова, Масуд уже, зевая, направлялся к стоящей неподалеку от платформы легкой двуколке.
Когда Морган проснулся на следующий день, ему показалось, что сон продолжается – за окном на несколько акров простирался сад, наполненный громко поющими, яркими экзотическими птицами. Странные ящерицы пробегали по стенам, а в воздухе шелестели крыльями причудливые насекомые. Масуд уступил ему свою спальню, устроившись в расположенной рядом гостиной; Морган знал, где он находится, но не был уверен ни в чем.
По отношению к миру, оставленному Морганом дома, этот мир был перевернутым. Там все представлялось понятным и предсказуемым и неуместен был Масуд. Теперь гостем, чужаком являлся как раз он, англичанин. Эта мысль некоторое время доставляла ему удовольствие, позволив сделать сколько важных шагов в новую для него жизнь. Но, увы, этот мир пока не желал полностью раскрываться перед ним.
Когда спустя час или два Масуд проснулся и лениво прошел в свою комнату, первым делом он спросил, чем Морган желает заняться сегодня.
– Честно говоря, – ответил Морган, – главным делом для меня является навестить твою мать. Я хочу поблагодарить ее за то, что она тебя родила. А возможно, не поблагодарить, а пожурить – я еще не определился.
Он действительно давно собирался встретиться с Махмуд?Бегум и даже привез для нее из Англии маленькие подарки. Но Масуд на слова Моргана только покачал головой с самым серьезным и торжественным видом.
– Боюсь, ты не сможешь этого сделать, – сказал он. – Моя мать придерживается строгих взглядов. Чужой мужчина не имеет права видеть женщину. Пурда – ты же помнишь это слово?
– Но мы же находимся в ее доме!
– Не имеет значения!
Улыбка еще некоторое время держалась на лице Моргана – поначалу он решил, что это шутка. Но теперь он в Индии и собирается во всем поступать так, как индийцы. Подарки он передал через Масуда, и через Масуда же ему были переданы слова благодарности. И в этом доме, и в других домах присутствие женщин выдавал только легкий шелест голосов в соседних помещениях – не больше! Он такого совсем не ожидал. Но мало ли чего он ожидал, что так и не осуществилось? Когда Масуд в первый день по его прибытии повел его в Англо?Восточный колледж для магометан, Морган был слегка сбит с толку. В Англии Масуд с восторгом говорил об этом центре научной мысли, где самая передовая западная наука будет преподаваться в атмосфере ислама; подобный союз, настаивал Масуд, как раз и представлял самый современный подход в образовании.
Тем не менее, когда Морган воочию увидел колледж, он не заметил ничего современного или вдохновляющего в неряшливо разбросанных убогих красных зданиях, где не было даже телефона, а потому сообщения на дальние расстояния отправлялись только с курьером.
Были там и другие странности, о наличии которых Морган даже не догадывался. Например, хотя все студенты были магометане, носившие бороды и фески, половину преподавателей составляли иностранцы. Они напоминали моряков, выброшенных на мель, и, со своими странными привычками и невероятным для здешних мест акцентом, явно ощущали себя не в своей тарелке, хотя и пытались притворяться, что это их дом. Таких чудаков хватало, и не только среди преподавателей. Как?то Морган столкнулся с выпускником своего кембриджского колледжа, работающим директором местной школы, потом поболтал с немецким профессором восточных языков; на следующий день обедал с адвокатом по имени Хан, а затем обсуждал политику с персидским профессором, специалистом по арабскому языку.
Атмосфера в колледже была, как понял Морган, достаточно напряженной. Сохранялся значительный барьер между преподавателями?индийцами и студентами?индийцами с одной стороны и подобный же барьер между индийцами вообще и европейцами – с другой. Все группы свободно смешивались, но, когда Морган оказывался один в какой?нибудь однородной компании, разговор сразу менялся. Английские преподаватели горестно стенали, что им здесь не доверяют и живут они в постоянном страхе, что магометане в любой момент могут отказать им от места. Магометане же заламывали руки и заявляли, что Балканская война погубила ислам, и спрашивали, почему сэр Эдвард Грэй поспешил первым признать итальянское правление в Триполи.
Участвуя в таких разговорах, Морган никогда не знал, на чьей стороне его симпатии, и переживал сложный внутренний конфликт, который тянул его то в одну, то в другую сторону.
– Как тебе удается с этим справляться? – спрашивал он Масуда почти сразу по приезде.
Его друг, как он отметил, прекрасно владел искусством легко преодолевать границу между западной культурой и культурой Востока. При всей своей националистической риторике он очень свободно ощущал себя в европейской компании, хотя при желании мгновенно сбрасывал с себя маску западного интеллектуала, словно это действительно было для него лишь маской.
– Это особое искусство, – объяснял ему Масуд. – Что?то вроде камуфляжа, который надеваешь, чтобы выжить на враждебной территории.
– Что за чепуху ты городишь! – возмущался Морган. – Тысячи индийцев обходятся без этого искусства и тем не менее выживают.
– Да, однако не процветают. Они всегда обеспокоены, постоянно нервничают. Они плохо ладят с теми, у кого кожа светлее, чем у них. Разве ты не замечал? Тут нужна определенная стратегия поведения.
– Я человек, у которого кожа светлее, – сухо произнес Морган. – Но со мной ты никогда не использовал никаких стратегий.
– А ты уверен?
– Перестань шутить, Масуд!
Его друг улыбнулся – все такой же щегольски красивый, несмотря на легкую припухлость лица, вызванную усталостью. Он взял Моргана за руку, и в тот же миг связь между ними восстановилась.
– Мой дорогой друг, – сказал он, – ты должен написать обо всем этом в своей книге.
Конец ознакомительного фрагмента — скачать книгу легально
[1] Д о н – в Оксфорде и Кембридже так называют университетского преподавателя.
Библиотека электронных книг "Семь Книг" - admin@7books.ru