
Овертайм (Вячеслав Александрович Фетисов)
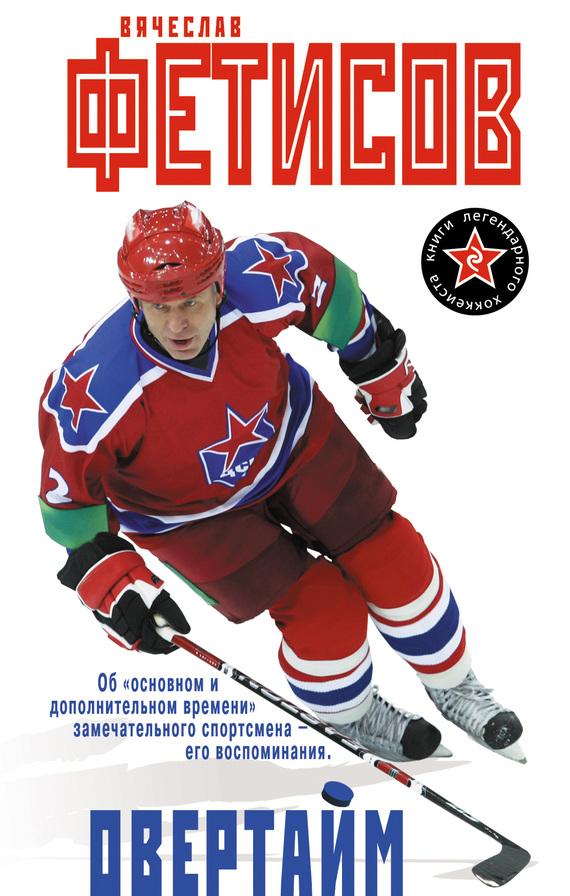
Вячеслав Александрович Фетисов
Овертайм
Предисловие к предисловию
Книга, что вы держите в руках, была написана почти двадцать лет назад. Я тогда еще был действующим игроком, который только что выиграл с командой Кубок Стэнли, получил от хозяина команды перстень – аналог медали в профессиональном спорте – и знал, что теперь у меня все главные существующие награды в хоккее.
К счастью, мы не умеем заглядывать вперед.
За эти двадцать, в один миг пролетевших, лет мне еще предстояло пережить и большие радости, и горькие потери. В общем, то, из чего складывается любая жизнь.
Впереди было еще два Кубка, признание лучшим защитником ХХ века, место в Зале хоккейной славы, пост руководителя российского спорта, создание Федеральной программы по развитию спорта, победа Сочи в Гватемале, членство в Совете Федерации от Приморского края…
Много всего было разного и не такого радужного. В том числе и предательство близких людей. А оно всегда тяжело переносится.
К моменту назначения меня руководителем Гос?комспорта (апрель 2002 года) уже почти была готова рукопись «Овертайма?2». В ней я рассказывал о завершении карьеры спортсмена, о своем теперь уже тренерском опыте. О том, как проходила Олимпиада в Солт?Лейк?Сити, где я был и генеральным менеджером, и главным тренером российской команды. Где был показан лучший результат хоккейной сборной за пять последних Олимпиад. И наконец, о том, как я получил предложение возглавить Госкомспорт.
Эту рукопись я тогда печатать не отдал. Решил, что неэтично заниматься собственным пиаром на прошлом при неизвестном будущем. Но сейчас я готовлю ее к изданию.
А на подходе уже и «Овертайм?3», где описана моя история, человека, отвечающего за отечественный спорт. По?моему, она больше похожа на детектив, где есть и отравление, и попытка подкупа, и сплетение немыслимых интриг. Но есть, конечно, и светлые страницы – это поднятие наших результатов на Олимпиадах, строительство тысяч спортивных сооружений от Камчатки до Рязани, восстановление престижа больших спортсменов.
Но есть и самое главное. За шесть лет я успел создать систему управления российского спорта, которая уже второй десяток лет успешно работает и пока еще его сохраняет.
Значительная часть «Овертайма?3» посвящена важному делу моей жизни – хоккею. Я вспоминаю и о создании КХЛ, вернувшей зрителя на трибуны, пишу и о том, что необходимо сделать для того, чтобы наш хоккей вновь стал сильнейшим в мире. Когда «Овертайм?3» выйдет, я надеюсь, вы его тоже прочтете. Хочется верить, что мой опыт будет полезен моим ровесникам и интересен молодым.
Одно я знаю точно: кому я посвящаю все эти три книги – моей жене Ладе и дочке Анастасии, которые всегда и во всем поддерживали меня. И вот уже столько лет являются для меня верой и опорой.
Накануне переиздания «Овертайма» меня попросили переписать вступление, которое было придумано еще в Детройте, в прошлом веке – в 1997 году, – и посмотреть на текст новыми глазами…
Я перечитал предисловие и книгу и решил, что ничего менять не буду, хотя мысли о некоторых моментах и представление кое?каких имен мне бы хотелось сейчас подправить. Но так я думал и действовал двадцать лет назад и ни от чего отказываться не собираюсь.
Как говорит мой отец, Александр Максимович: «Фетисовы пятками вперед не ходят».
Вячеслав Фетисов
13–17 июля 2015 года
Москва
Глава 1. Оллстарзгейм – игра всех звезд
12 декабря 1996 года у меня дома, в Детройте, раздался телефонный звонок. Поднимая трубку, я еще не знал, что ожидающее меня известие – итог восьми нелегких, но счастливых для меня лет. Итог восьми сезонов в НХЛ.
Я уже несколько дней болел (в команде был сильный грипп), на лед не выходил, но в этот день после тренировки, около четырех часов, вместе с командой я должен был улетать на игру в Даллас. Утром приехал на стадион, но тренер мне сказал: «Не переодевайся, отправляйся обратно домой и приезжай прямо к самолету». Я вернулся домой, мне становилось все хуже и хуже, прилег на пару минут и уснул. Моя жена Лада встречала нашу пятилетнюю дочь после подготовительной школы, потом они должны были ехать то ли на музыку, то ли в бассейн, в общем, дома никого не было. В начале четвертого быстро оделся и спустился вниз. Смотрю, индикатор «месседж» («вызов») горит на телефоне, а времени до самолета впритык, но нажал на кнопку автоответчика. Слышу голос генерального менеджера. Как правило, если он звонит тебе домой после обеда, значит, что?то не в порядке: или тебя меняют, или с тобой какие?то проблемы. Менеджер «Детройта» обычно не торопится говорить о главном: «Привет, Слава, как дела? Это Джимми звонит… У меня есть для тебя хорошая новость. Только что позвонил мне Гарри Бетмен (комиссионер Лиги, то есть ее руководитель), он сказал, что ты выбран в Оллстарз». Оллстарзгейм – это своеобразный НХЛовский турнир, когда встречаются сборные двух конференций – Запада и Востока. Комиссионер располагает двумя голосами, чтобы выдвинуть кандидатуры игроков для каждой конференции от себя. Обычно он называет свои кандидатуры, исходя из принципов: сколько эти люди сделали для хоккея, какой у них авторитет в Лиге, их репутация. В общем, происходит выбор заслуженного и морально безупречного ветерана, выбор, наверное, непростой, потому что в Лиге почти семьсот хоккеистов в обеих конференциях, которые играют в двадцати шести командах. Каждое названное имя должно получить от комиссионеров комментарии в газетах, и, не скрою, мне потом было приятно прочесть о моих «выдающихся заслугах в хоккее» и дальше в том же духе.
Оглушенный новостью, я выскочил из дома, еду в аэропорт, и какое?то странное состояние: с одной стороны, нужно радоваться, с другой – появилось ощущение, мешающее первым восторгам. Может, действительно в сознании это сообщение как?то перекликалось с другим «звоночком»: пора, значит, заканчивать. Не знаю, но сразу одной только радости не было. Подъехал на стоянку к нашему самолету («Детройт» летает на собственном лайнере), кто?то уже знал про мою кандидатуру на Оллстарзгейм, кто?то нет, но новость разошлась быстро, ребята поздравили меня. Прилетели мы в Даллас, пошли ужинать, я позвонил домой, но Лада с Настенькой еще не вернулись. После ужина звоню. Лада в курсе, ей уже рассказали о решении Бетмена, но виду не пода?ет: «А что ты не звонишь? Как дела, какие новости?» Я говорю, что особых новостей нет. Первой не выдержала она: «Что же ты молчишь? Да я уже давно знаю, поздравляю». Лада, по?моему, была рада больше, чем я. Столько женских эмоций в трубке! «Отмени билеты в Нью?Йорк, – я ей говорю (мы хотели во время Оллстарзбрейка, так как в Лиге наступают короткие каникулы, слетать в Нью?Йорк), – позвони завтра и отмени билеты».
Оллстарзбрейк – фантастическое событие для американского хоккея. Когда проходит это представление, то наступают пять дней перерыва в регулярном чемпионате. Обычно не занятые в Оллстарз игроки отправляются либо во Флориду загорать и купаться, либо в Колорадо кататься на лыжах. Поэтому каждый строит для себя планы: отдых у американцев – серьезное дело. В середине декабря, перед Рождеством, уже у всех разработаны подробные схемы: билеты, отели – как перед нелегким сражением. А мы с Ладой, русские люди, бесхитростно должны были прибыть в Нью?Йорк и жить в своем доме в Нью?Джерси. В один из вечеров нас пригласили на юбилей жены моего друга. Теперь все меняется: едем в Калифорнию, в Сан?Хосе, где будет проходить Оллстарзбрейк.
Вернулся я из ресторана к себе в номер, а там десятки «месседжей» на телефоне: звонили из газет, с телевидения, из спортивных изданий, хотели знать мою реакцию на избрание. До Оллстарзгейма оставался еще почти месяц, надо было играть в чемпионате, а «Детройт» в этом месяце валился. Провал возник из?за того, что половина команды болела, мне приходилось играть очень много, так что месяц пролетел как день. Анастасию мы решили с собой не брать, потому что от нас до Калифорнии пять с половиной часов полета, а ехать надо всего на три дня. Она осталась в семье наших американских друзей, Криса и Лори Брошер, а мы отправились вчетвером: прекрасные нападающие Бренден Шенехен и Стив Айзерман, Лада и я. К Стиви жена потом прилетела прямо в Сан?Хосе, она уже где?то отдыхала с подругой.
Сели в самолет, клуб купил нам билеты в первый класс, в Америке это раза в три дороже, чем просто в коммерческом. Все выглядело очень солидно. К тому же кто?то из болельщиков, работающих в авиакомпании, прислал каждому по корзине с фруктами и вином. Стюардесса, которая их передавала, сказала, что видит такое в первый раз. Она, похоже, не знала, кто мы и откуда. Если бы экипаж был детройтский, вряд ли бы ей пришлось удивляться. Потом выяснилось, что женщина, вице?президент авиакомпании, – фанатичная болельщица.
Прилетели в Сан?Франциско – это в получасе езды на машине до Сан?Хосе. Нас встретили лимузины, кто хотел – мог ехать в Сан?Хосе, кто хотел – мог остаться погулять в Сан?Франциско. Айзерман решил остаться во Фриско, сказав, что в отеле Сан?Хосе, куда всех поселят, будет настоящий «зоопарк»: тучи хоккейных болельщиков, тысячи автографов – не отдохнешь. Для Стиви это был не первый Оллстарзгейм, поэтому он мог выбирать. А мы решили поехать именно туда, чтобы почувствовать всю атмосферу этого невероятного хоккейного шоу, тем более что уже договорились с Сережей Макаровым (а он жил в Сан?Хосе) о встрече. Позвонили ему из машины, сказали, что через 40 минут будем в Сан?Хосе, а он радостно сообщил, что уже заказал ужин… в Сан?Франциско. Приехали в гостиницу и только успели бросить вещи в номер, а Серега с молодой женой, Олегом Твердовским (его выдвинули в Оллстарз от «Феникса») и его девушкой уже ждали внизу – и снова поехали в Сан?Франциско, теперь уже вшестером.
Поужинали в хорошем ресторане. Сережу я давно не видел, мы поболтали, потом пошли на нашу тусовку – в этот вечер в Сан?Франциско в ресторане «Планета Голливуд» был прием для участников Оллстарз?гейма. Уговорил Макарова, он отнекивался: «Мне неудобно». Это ему неудобно! Великому хоккеисту! Но мы наседаем: «Во?первых, друзей с собой можно брать, во?вторых, ты имеешь к этому делу прямое отношение, а там будет много общих знакомых». Наконец уговорили, и действительно не зря: все подходили к нему, расспрашивали о жизни. На приеме оказались ребята, с которыми я играл в Нью?Джерси, а главное, их жены. Тут Лада душу отвела: у кого?то дети появились, у кого?то новые дома, собаки. Часа два Лада болтала, не останавливаясь. За нее я совершенно уверен, но, думаю, и Серега тоже неплохо провел вечер. Напитки, кстати, были любые, но по углам никто не валялся.
Около часа ночи отправились обратно в Сан?Хосе, хотя вечер в «Планете Голливуд» был в полном разгаре, но у Сергея бебиситтер (нянька) с ребенком сидела, нужно было отпустить ее домой. К тому же на следующее утро, часов на девять, назначили фотографирование. В девять наша конференция – Запад – снималась, а в десять – Восток. В конце концов получалось, что в отпуске ребята делали общественную работу. С одной стороны, конечно, каждому приятно быть в числе Оллстарз, но с другой – это шоу работает на Лигу и у каждого в этом спектакле есть роль.
Оллстарзгейм – популяризация НХЛ, популяризация хоккея. Отмечу попутно, что игра, в которой я принимал участие, транслировалась на 160 стран. Это о чем?то говорит? Все герои этого представления ведут себя абсолютно раскованно и естественно. А оно собирает на своей сцене и генеральных менеджеров, и хозяев клубов, и самых великих «звезд» прошлого, не говоря уже о «звездах» современных. Посторонних там не бывает, может, поэтому царит семейная обстановка.
Я не знаю, кто финансирует это мероприятие, но почти уверен, что ответственным за его проведение становится хозяин той команды, где проводится очередной ежегодный Оллстарзгейм. Думаю так потому, что постоянно видел хозяина «Сан?Хосе Шаркс» на всех мероприятиях и везде он участвовал как организатор. Может быть, и Лига входит с какими?то процентами, но мне показалось, что хозяин команды отвечает за все. Но и, естественно, то, что он зарабатывает с этого шоу, идет ему в карман…
Макаров довез нас с Олегом до гостиницы, где мы встретили хозяина «Шаркс» («Акул») прямо у входа. Сергей подошел к нему, поздоровался (он играл у него в клубе почти три года). Спрашиваем босса: «Время – половина второго, что ты здесь делаешь?» Отвечает: «Смотрю, чтобы все было нормально». Секьюрити сумасшедшие – стоят на каждом углу. Зашли в гостиницу – огромный холл, а там кого только нет: и вице?президенты Лиги, и генеральные менеджеры, и игроки, и болельщики. Не знаю, кто же тогда остался в «Планете»?
Так закончился вечер пятницы. А утром, в субботу, был организован транспорт – все по минутам расписано: в восемь уже отходили автобусы и лимузины, кто куда садился, нас отправляли на стадион. Полагалось поставить автографы на всяких предметах, которые принесли в раздевалку: плакаты, клюшки, фотографии. Все это потом продавалось на благотворительном аукционе. Аукцион – часть шоу: люди, которые проводят аукцион, и сами привозят какие?то вещи, но главные предметы – это личные шмотки и майки звезд. После автографов нужно было надеть форму, приготовленную специально для Оллстарзгейма, и пойти на тимпикчер, то есть сфотографироваться всей командой. Бред Халл опоздал на 20 минут, так и не попал на пикчер. Оказалось, что он с Грецки, а они большие друзья, рванули в Лас?Вегас на ночь, поиграть, а самолет из Вегаса вылетел с опозданием. Грецки успел, потому что у него другая конференция и он фотографировался после нас, а Бред, хотя и участвовал в матче, на фотографию не попал.
Сфотографировались, покатались по кругу, потом снялись по клубному принципу: если два?три человека из одного клуба, то делается фотография и для болельщиков этого клуба. Потом – кто с кем хочет. Нас, бывших советских, оказалось пять человек, двое русских и Олег Твердовский. Мы говорим ему: «Ты же хохол, как ты будешь с нами фотографироваться?» Он отвечает: «Играл за сборную России, имею полное право сниматься с вами». Я, Буре и Олег снялись втроем, а потом все «советские» – вместе, с Санди Озолиньшем и Димой Христичем. Поснимались, подурачились, шайбу побросали. Фотографирование обязательно для всех. Несколько компаний, которые выпускают рекламные карточки, выстроили нас всех еще и в индивидуальную очередь. Каждый должен был сфотографироваться в форме Оллстарз своей конференции. Потом – встреча с прессой.
Наша команда первой вошла в огромный зал, журналистов просто тьма. Я думал, что ко мне вопросов будет немного, но оказалось наоборот. Больше всего внимания уделяли мне, возможно потому, что почти все ребята уже участвовали в Оллстарзгейме, а я – новичок. Огромное число вопросов: как, что, почему? Вспомнили все мои приключения с отъездом из СССР: я поразился, люди помнили, что происходило восемь лет назад. Как раз вышла и большая статья Моуры Мандт в журнале «ESPN?Sport» «Последний герой»[1]. Долго я стоял в окружении журналистов, вспоминая те уже далекие подробности страшного противостояния. Журналисты были из Европы, Японии, отовсюду, только не из России. Такое международное внимание было довольно приятно, но, может быть, именно в этот момент я подумал: пока помню, все, что было накануне отъезда в США, надо записать. Хотя, наверное, до смерти ничего уже не забуду…
Когда фотографирование и пресс?конференция закончились, мы переоделись и вернулись в гостиницу. У нас оставалось всего два или три часа, перед тем как начнется соревнование на мастерство, здесь оно называется «скилкомпетишен». Это когда игроки из каждой команды начинают индивидуально соревноваться за победу в специальном номере. Допустим, кто самый быстрый, кто самый меткий, кто лучше бьет буллиты? Каждой команде дается по три попытки, и за успех засчитывают очки. Мы выбираем тройку сами, предположим, самых быстрых. Они бегут, и тот, кто выиграл забег, приносит команде одно очко. Вдобавок тот, кто показал лучшее время, приносит еще два очка. Потом полагалось обводить стойки, потом – кто сильнее бросит, потом – кто меньшим числом шайб собьет четыре мишени в разных углах ворот. В конце – буллиты. По очереди выставляются все три вратаря, и каждая команда – восемнадцать человек – бьет буллиты. Каждый гол – это очко. Я бросал Гашеку, но не забил. В конце, когда проходило рукопожатие и я к нему подъехал, он сказал: «Я думал, ты будешь бить, как в Праге, помнишь. как ты мне забил в 84?м?» Тогда я забил гол Гашеку, выходя с правого края и показывая, что буду идти вдоль ворот, а когда он стал смещаться, я, переложив клюшку в одну руку, потихоньку загнал шайбу в ближний угол. Посмеялись. Гашек до сих пор неплохо говорит по?русски.
Народу пришло очень много, тысяч двадцать – столько, сколько вмещает полный стадион «Шаркс». Серьезности конкурса нужно было придать какой?то оттенок, чтобы люди почувствовали праздник. Поэтому комментарий на стадионе был наполнен всевозможными шутками. Комментаторы ездили на коньках, их на льду каталось трое или четверо. Они никого и ничего не пропускали.
Вечером состоялся грандиозный прием на военно?воздушной базе, неподалеку от Сан?Хосе. По специальным пропускам (на военную базу так просто не попадешь), в огромном ангаре, ремонтном или стояночном, точно я не знаю. Самолеты из ангара убрали, но один стоял в углу. Каких только аттракционов в ангаре не было, сделали даже «чертово колесо». Креветки, устрицы, лобстеры горами лежали. Музыка грохотала, викторины разыгрывались, а все оставшееся место в огромном ангаре было занято людьми. Там, конечно, собрались все: и игроки, и руководство Лиги, и руководство профсоюза игроков, и хозяева, и генеральные менеджеры, и доктора команд. Для докторов Оллстарзгейм как бы поощрение, каждая команда посылает своих медиков, чтобы они могли встретиться и пообщаться, у них там в это время свои семинары проводятся.
Присутствие членов «партии и правительства», другими словами, сенаторов, конгрессменов, по?моему, не предусматривается праздником. Может, кто?то и приехал, но политики никак не были обозначены. Зато везде стояли на постах ребята?военные в парадной форме. Ходишь по ангару – одни знакомые, устаешь общаться. Встали мы, русские, к одному столу и далеко от него не отрывались. Люди подходили к нам, многих я не видел давно. Наш стол – это Паша Буре, я, Олег Твердовский и Володя Буре – отец Паши. Когда все уже собирались переезжать в ночной бар, мы отправились в гостиницу, потому что приехала телекоманда из Москвы. Люди прибыли по?русски, без звонка, пришлось им уделять внимание, не бросать же, тем более – приехали они без аккредитации, без заявки на нее, значит, надо помогать им добывать пропуска, чтобы они могли везде пройти, а вот снимать было запрещено.
У каждой конференции есть свой тренер, он же тренер ведущей команды чемпионата. Неважно, может быть, к началу Оллстарзгейма эти команды уже не будут на первом месте, но именно к определенной дате, допустим, 20 декабря, тренеры команд, имеющих лучший результат в каждой конференции, назначаются тренерами, а менеджеры этих клубов начинают создавать команды Оллстарз. Принцип такой: тринадцать команд в каждой конференции, и обязательно должен быть представитель от каждой команды. Дальше уже добирают. Во?первых, шесть человек, которых выбрали болельщики голосованием: пятерка и вратарь. По две кандидатуры, как я уже писал, может предлагать комиссионер Лиги. Так собираются команды Оллстарз.
Наш тренер заранее объявил, что утренней раскатки перед игрой не будет, расслабленность полная. Каждый игрок имел право пригласить в этот день на матч родителей, родственников или двух друзей. За счет организаторов им предоставляются даже номера в гостинице, где для всех гостей был организован обед. Для каждой конференции в разных ресторанах тоже накрыли столы. Открыли в гостинице большой зал, куда все могли прийти. Весь день перед игрой друзья и родственники там прогуливались.
Вообще, деление на Восток и Запад довольно условное. Ведь Детройт, играющий в Западной конференции, ближе к Восточному побережью, чем к Калифорнии, которая на Западном. Но на Западе, наверное, не хватает команд, поэтому в свое время и были именно так составлены конференции, но, допустим, «Чикаго» – «Детройт» всегда будут в одной группе, потому что их встречи приводят зрителей на трибуну. Старые традиционные битвы. Как «Спартак» – «Динамо».
Наша команда «Запад» проиграла 7:11 – это все видели по телевизору. Игра получилась без обороны. Никто заранее не сговаривается, что не будет силовых приемов, что по бортам никого не будут размазывать. Это само собой разумеется. Последнее удаление на Оллстарзгейме было в 1985 году. Я, тогда игрок сборной СССР и ЦСКА, во время очередного канадского турне сборной оказался зрителем как раз на той самой игре: Пол Коффи кого?то зацепил за ногу, игрок упал. Пола удалили.
Оллстарзгейм – игра, которая проходит на чистом мастерстве, без удалений, без драк: драчунов туда не выбирают. Отчасти – холодное исполнение без души. Горячих чувств в эту игру не вкладывают. Правда, последние два года стали вводить какие?то премии для победителей, а до этого просто люди играли в хоккей в свои выходные. Но если говорить о матче, в котором я участвовал, то игра получилась достаточно зрелищной: много голов, а в третьем периоде мы сделали, кажется, 21 бросок. Гашек стоял насмерть, забить ему в этот день было невозможно, он творил чудеса. Так что зрители не были разочарованы. К тому же играли два представителя «Сан?Хосе Шаркс» – любимцы местной публики Уэн Нолан и Тони Гранато. Случай с Гранато – уникальный в хоккее. Ему сделали в прошлом году трепанацию черепа – вырезали опухоль, а в этом – парень уже играет. Когда представляли его на льду, стадион встал и все игроки ему хлопали. Как надо любить хоккей, каким надо быть не то что мужественным – отчаянным, чтобы после такой операции выйти опять на лед. Тем более что стиль игры Тони более чем активный: он не «технарь», поэтому лезет во все «горячие точки», хотя сам невысокого роста, точнее, просто маленький парень. У болельщиков появление Тони на льду всегда вызывает восторг и овации. Нолан в этой игре забил три гола, то есть сделал хет?трик. Когда стали объявлять лучшего игрока матча, весь стадион кричал: «Нолан, Нолан!» Однако приз отдали Марку Рики из «Монреаля», и стадион начал гудеть: мол, неправильно. Марк тоже забил три гола, но за команду?победительницу. Ему и вручили джип «блейзер».
Закончились эти два дня. На скилкомпетишен я в раздевалке много времени проводил с ребятами, поговорить с которыми во время сезона не удается, если не играешь в одной команде. Наконец пообщался с Крисом Челиосом, мы столько играем друг против друга и никогда – в одной команде. А нам есть что вспомнить: и Олимпийские игры в Сараево, и всевозможные суперсерии. Много было ребят, с которыми я сталкивался только на льду, только как с хоккеистами под такими?то номерами. А здесь после игры мы сидели в раздевалке, говорили обо всем на свете. Там у них в Сан?Хосе сауна, посидели и в ней с пивом, вспомнили прошлые сражения. Дружелюбная обстановка; наверное, она всегда такой получается, когда все свои собираются, все из одного бизнеса, всем все понятно, ничего объяснять не надо. Обидно, что с нами не было Игоря Ларионова, но я уверен, что он будет в составе следующего Оллстарзгейма.
Вечером мы своей русской компанией пошли на ужин, заняли большой банкетный стол. Сидели, болтали, а к нам приходили ребята из разных клубов. Московские телевизионщики брали интервью, хотя это категорически запрещено, но там в секьюрити ребята были знакомые, разрешили. Сидели до самого закрытия. Сережа Макаров был с нами. Потом пошли в гостиницу и по дороге встретили Гарри Бетмена и всех его заместителей: Стива Саломона, Брайана Бурга и председателя профсоюза игроков Боба Гуденоу. Я поблагодарил их за то, что они меня пригласили. Брайан ответил, что если бы я приехал лет на десять пораньше, то играл бы все эти десять лет. Гулянье продолжалось, но мы поднялись ко мне в номер: Паша Буре, Олег Твердовский. Мы сидели и обсуждали свои дела еще часа два. Потом Володя Буре зашел, телевизионщики забежали, рассказывали последние московские новости. Разошлись часа в три, а утром уже улетать – нам надо было успеть на очередную игру: «Детройт» на следующий день по расписанию играл с «Монреаль Канадиенс». Мы с Брейденом полетели сразу в Монреаль, а Стиви Айзерман с женой и Лада – в Детройт. Стиви уже из Детройта вместе с командой прилетел на самолете в Монреаль. И хотя мы с Брейденом прилетели быстрее, дорога все же заняла девять часов. Но не только поэтому к матчу я восстанавливался непросто. Слишком эмоциональный, хотя и хоккейный, получился перерыв. Но я думаю, что иногда такие два дня в жизни дают больше, чем месячный отдых.
Я впервые провел пару дней в высшем хоккейном обществе. Более того, я ощущал себя равным великим игрокам НХЛ – сильнейшей хоккейной лиги на сегодняшний день в мире. Я заслужил то, что дается не только долгим стажем, не только десятками наград и званий, а еще чем?то, что объяснить невозможно. Может, уважением лучших и сильнейших. Мог ли я об этом мечтать несколько лет назад!
Глава 2. «Плодить миллионеров мы не имеем права»
Первый раз я узнал, что у меня появился шанс играть в НХЛ, 23 февраля 1988 года, в самолете, когда мы летели над Атлантикой, возвращаясь из Калгари в Москву после зимней Олимпиады. Меня пригласили в первый салон к руководству Спорткомитета СССР (там олимпийские герои сидели вместе с начальством) и сообщили, что на протяжении всех Олимпийских игр с менеджером из «Нью?Джерси» постоянно велись переговоры о том, как этот клуб может меня купить. Так на высоте в десять тысяч метров мне стало известно о планах продажи меня в Лигу. Руководители пили шампанское – сборная СССР победила в командном зачете, всех ожидали ордена. Министр и его заместитель мне говорят: «Сейчас прилетишь в Москву, посоветуйся с семьей, подумай хорошенько. Мы тебя ждем с ответом через пару дней в Спорткомитете». Я отвечаю: «Что мне думать? Я согласен». – «Ты не торопись, поезжай домой, все обмозгуй хорошенько».
Через пару дней меня действительно вызвали в Спорткомитет, и я подтвердил свое согласие, сказав, что семья не против переезда в Америку. Главная проблема была – это уволиться из армии. Как и все игроки армейского клуба, я имел офицерские погоны и на льду дослужился до майора, однако по советским законам из армии увольняли только через двадцать пять лет выслуги. Но, как мне сказал министр по делам спорта Марат Грамов еще в самолете, этот вопрос он решит с министром обороны Язовым сам, так как они в очень хороших, чуть ли не приятельских отношениях. Грамов сурово и веско заметил, что я заслужил длительную командировку в Америку. Правда, перед Олимпийскими играми Вячеслав Иванович Колосков, который в те годы был начальником сразу двух крупнейших управлений в Спорткомитете – футбола и хоккея, – произнес загадочную фразу: «Мнение в руководстве такое: если выиграете Олимпийские игры, то ты первый поедешь». Куда поедешь – надо было догадываться самому. Ничего насчет переговоров НХЛ со Спорткомитетом СССР я не знал. Я даже не знал, какой командой я задрафтован, куда могу попасть. Все, что касалось НХЛ, для меня, как и для любого игрока сборной Союза, темный лес.
Калгари я расценивал для себя как мои последние Олимпийские игры и весь сезон очень серьезно к ним готовился. Впрочем, не только я, все мои партнеры по знаменитой советской «пятерке» понимали, что для нас это скорее всего последняя Олимпиада. Не знаю, что думали ребята, что они чувствовали, но у меня на весь год был более чем серьезный настрой. Я смотрел на все, что происходит, через призму Олимпийских игр. Дело даже не в том, чтобы сыграть в Калгари хорошо, – мне обязательно надо было там выиграть. Конечно, я не думал, поеду или не поеду в Америку. Как я уже сказал, мне буквально перед самым отъездом намекнул на такую возможность Колосков: то ли по секрету, то ли по дружбе. Придало ли мне это сообщение силы, чтобы лучше сыграть, или создало больше нервозности – не помню. Скорее всего, я это в голове не держал. Просто хотел закончить спортивную карьеру олимпийским чемпионом. Не помню другого такого сезона, где бы я был так сконцентрирован в течение всего чемпионата страны.
Накануне Игр приятная новость – на общем собрании олимпийской команды меня выбрали капитаном всей зимней сборной. Когда смотришь открытие Олимпийских игр, торжественную церемонию, парад, мне кажется, прежде всего запоминается спортсмен, который несет флаг своей страны. Во всех архивах, для всех спортивных историков, летописцев олимпиад имя знаменосца остается навеки. Но мне не удалось пронести советский флаг в Калгари, хотя «по должности», как капитану команды, мне полагалось это сделать.
В день открытия Игр хоккейная сборная должна была встречаться уже не помню с кем, но с одной из слабейших команд в олимпийском турнире. Из?за парада могло получиться так, что я бы опоздал на игру, и наш тренер Тихонов не разрешил мне отправиться на церемонию открытия Игр. По его мнению, игра предстояла важная, самое главное, как он говорил, – задать тон. Признаюсь, я был раздавлен. Не то чтобы во мне бушевали какие?то амбиции, просто, когда человеку вдруг дается такая возможность, причем понятно, что она может быть только раз в жизни, ты об этом невольно начинаешь думать. Если бы меня никуда не выбрали, я бы и не задумывался об этом никогда. Но случилось, я уже размечтался, а накануне вечером перед открытием мне сообщают, что я не стану знаменосцем олимпийской сборной, потому что у нас очень важная игра то ли с норвежцами, то ли с голландцами… Неприятный осадок на душе – вот первое впечатление от Калгари. Я не думаю, что, если бы даже весь вечер носил по стадиону советский флаг, мне бы это помешало сыграть хорошо. Мне кажется другое: Тихонов никого из сборной не хотел видеть хоть в чем?то впереди себя… Например, Владика Третьяка он начал «душить» сразу, как только почувствовал, что команда во многом играет благодаря авторитету Третьяка. Олимпийские игры 1980 года мы проиграли только из?за того, что после первого периода он убрал Владика из ворот. Сколько я потом ни разговаривал с американцами, которые участвовали в этой игре, все в один голос говорили: «Нам дало дополнительные силы то, что мы вышли после перерыва на лед и увидели, что в воротах нет Третьяка. Мы глазам своим не могли поверить».
В общем, не дали мне пройтись с флагом на открытии. Правда, я нес его на закрытии Игр, но это уже было не так торжественно, хотя все равно ощущение незабываемое.
Я познакомился с лучшими североамериканскими хоккеистами в 1977 году. В восемнадцать лет меня пригласили в первую сборную Советского Союза, и я играл в ее составе весной в Вене – это был мой первый чемпионат мира и первый чемпионат, в котором разрешили играть профессионалам. В общем, я не сыграл ни на одном чемпионате мира, где были бы только любители. Тогда в Вену приехали Тони и Фил Эспозито, Кешма и многие известные игроки из Лиги. Тем не менее мы их обыграли, хотя сам чемпионат мира проиграли. И все же я считаю, что в Вене был один из сильнейших составов сборной Союза за всю ее историю. Возможно, еще такой же набор выдающихся игроков и по мастерству, и по опыту был на Олимпийских играх 1980 года в Лейк?Плэсиде (и этот турнир мы тоже проиграли). По сумме всех качеств, которые могут служить характеристикой команды, эти сборные, на мой взгляд, были выдающимися.
И все равно чемпионат мира в Вене у меня самый памятный, потому что первый. В матче с финнами Борис Павлович Кулагин впервые выпустил меня – шел второй период, – и я сразу же забил гол. Саша Мальцев отдал пас под синюю линию, я бросил и забил! Все впечатления были настолько яркими (мне же тогда прямо перед чемпионатом исполнилось девятнадцать), что они навсегда остались в памяти. Горечь поражения тоже незабываемая, потому что до этого на уровне сборных я никогда не проигрывал, хотя они и были юниорские и юношеские. Такое двойственное впечатление: с одной стороны, чисто мальчишеская гордость (я в сборной!), а с другой – совершенно взрослая горечь поражения. Как же так – уступили «золото», играя с такими великими мастерами? В Вену я поехал седьмым защитником, и меня ставили все время с разными партнерами.
В том же году я участвовал в юниорском чемпионате в Канаде, где мы выиграли золотые медали, обыграв в полуфинале канадскую сборную с Грецки. Потом я постоянно играл против американцев, мы тогда регулярно встречались с командами ВХЛ – Всемирной хоккейной ассоциации, но в нее входили те же профессионалы. В декабре 1977 года сборная СССР играла против команд ВХЛ, и я присоединился к ней там же, в Канаде, сразу после юниорского чемпионата мира. Мысли оказаться в канадском или американском клубе никогда не возникало, потому что официально никто бы меня, понятно, не отпустил, а взять и убежать – это казалось невозможным. Я думаю, у меня, как и у большинства советских людей, существовал врожденный страх: трудно было себе представить, что ты делаешь карьеру на Западе, но тем самым губишь всю свою семью, всех родственников. Но я всегда знал, что могу прилично сыграть в Америке, тем более в том возрасте, когда сил – вагон, и дерзости не меньше, и присущее молодому хоккеисту, молодому человеку честолюбие – все было.
А в сильнейшем советском хоккейном клубе ЦСКА я начал играть в 1976?м, в паре с уже опытным и знаменитым Геннадием Цыганковым. В том году во время предсезонных турниров специально созданная экспериментальная сборная уехала на первый Кубок Канады. Похоже, что руководство Спорткомитета подстраховалось на случай поражения, и команду разбавили, оставив дома тройку Петрова, Цыганкова, еще кого?то. В общем, получилось так, что поехала половина состава первой сборной и половина – второй. Так как Геннадий Цыганков остался, а Александр Гусев, его партнер, уехал на Кубок Канады, то Константин Борисович Локтев поставил меня в пару к Цыганкову. А Гена и Саша были защитниками в ЦСКА у первого звена. И когда Саша вернулся с Кубка, Локтев меня оставил в первой «пятерке». Нужно ли описывать чувства семнадцатилетнего парня, оказавшегося в лучшем советском хоккейном клубе, да еще в сильнейшем его звене?! Хотя я хорошо помню, что первая «тройка» и Цыганков были иногда мной недовольны, потому что ошибки, которые обычно делает новичок, в их микрокоманде уже давно забыли. Однако Константин Борисович настоял на своем. Так что «звезды» порой ворчали, но в конце концов довольно терпеливо ко мне относились, и я им всем за это очень благодарен. Думаю, что, поставив меня к этим величайшим игрокам, Локтев во многом решил мою судьбу. Вероятно, это дало мне преимущество в год, а то и в два перед моими сверстниками. И потом, когда ты рядом с такими игроками, меняется не только отношение к тебе противников и болельщиков – меняешься и ты сам. Уверенности в себе становится намного больше, хотя от суперзвезд советского хоккея я долго слышал два окрика: «Не суетись!» и «Не спеши!»
Мальчишество я быстро из себя вытравил. Пас у ворот, который легко проходит в юниорском хоккее, во взрослом чреват большими неприятностями. Но от этого сразу не избавишься, такие ошибки есть у любого, кто начинает играть в высшей лиге. То покрикивая, то подбадривая, Гена Цыганков мне постоянно подсказывал, как лучше всего в определенный момент сыграть в защите. Надо сказать, что и Локтев в то время много со мной работал, оставлял после тренировок, проводил долгие разъяснительные беседы. Он мне дал шанс: пригласил в команду в то время, когда конкуренция в ней была огромная – в ЦСКА играли 6 защитников, да каких! – любой мог выступать за национальную сборную. Локтев – замечательный человек, у меня о нем остались только хорошие воспоминания, он был большим хоккеистом и, я думаю, большим тренером, что встречается крайне редко. Я испытал шок, когда его сняли с поста старшего тренера ЦСКА. Чисто по?мальчишески я недоумевал и все спрашивал: «Как же так? Мы же выиграли чемпионат страны, обыграли «Спартак» (сильную в те годы команду, в предыдущем сезоне мы уступили ей первенство). Как же так?» Я в это время находился в госпитале, меня определили туда в обязательном порядке – вырезать гланды. Там меня навестили ребята и сообщили эту новость. Ребята рассказали, что на банкете по случаю окончания сезона Локтев встал и произнес: «У вас будет новый тренер, но я вам обе?щаю, я цеэсковец, я здесь вырос, это мой дом, и, естественно, никогда в другой команде работать не буду. Я вернусь». После этого «тоста» Константин Борисович ушел с банкета с женой.
Действительно, Локтев остался верен ЦСКА. Насколько я знаю, у него было много предложений из разных команд, но он ни одно не принял и так и не вернулся к тренерской работе. Абсолютно уверен, что советский хоккей потерял сильного тренера. Но тогда никого это не волновало – страна большая, людей много, замену, считали, можно найти каждому. Это реалии той жизни: человека, который выиграл чемпионат страны, в момент убрали из команды. Возможно, эта история психологически сильно сказалась на дальнейшей судьбе Константина Борисовича. Поэтому я не исключаю, что с ней связан и ранний уход Локтева из жизни…
Но вернемся в 1988 год, на Олимпиаду в Калгари. Внешне она складывалась для сборной очень легко. Я уже не помню турнир со всеми подробностями, но матч с американцами у нас был непростой, очень непростой. И здорово шведы подготовились к Олимпиаде. Для нас игра с ними оказалась игрой за первое место, потому что если мы выигрывали у шведов, то за тур до окончания становились чемпионами Олимпийских игр. Естественно, встреча получилась и напряженной, и нервной, но сборная страны сыграла неплохо. А для меня турнир в Калгари был одним из самых удачных. Кстати, почти все те, кто выступал в Калгари за американскую команду, естественно, любители, сейчас играют в Национальной хоккейной лиге, причем на ведущих ролях. Тогда они были молодыми, но очень талантливыми ребятами: Брайн Литч, Крис Тэрери, вратари Рихтер и Ван Бисбрук. Но я и подумать не мог, что они – мои будущие соперники по Лиге.
Я был на трех олимпиадах, но ощущение олимпийского праздника, который всегда присущ этим соревнованиям, в Калгари чувствовалось сильнее, чем в Сараево и, уж конечно, Лейк?Плэсиде. Потом, когда я разговаривал с ребятами, которые участвовали и в последующих Олимпийских играх, все они как один говорили: Калгари – лучшие зимние Игры! Постоянное ощущение всемирного праздника. Началось «потепление» – Горбачев, перестройка. Советский Союз немного раскрылся, наступила новая эра – без угроз ядерной катастрофы. В Олимпийской деревне мы жили совсем не так, как жили восемь лет назад в Лейк?Плэсиде. От тех Олимпийских игр – ужасное впечатление. Поселили в лесу, в здании будущей тюрьмы. Собаки, колючая проволока, снег, даже вышки с автоматчиками – не Америка, а сибирский концлагерь. А в Калгари все прекрасно организовано, все дружелюбны. И впервые все вместе жили, в одной «деревне», не по корпусам: здесь «соцлагерь», здесь «каплагерь», здесь советские гуляют, а здесь американские. В Калгари я в первый раз почувствовал, что Олимпийские игры действительно мировой праздник, действительно то, о чем надо мечтать. Благодаря такой атмосфере мне легко игралось. Получилась прекрасная Олимпиада и по настроению, и по результатам.
Когда?нибудь я спрошу у Колоскова: как пришла к советскому начальству мысль отпустить игрока хоккейной сборной на Запад? Почему надо было отдавать ведущего игрока в НХЛ? С чего это вдруг? Неужели гласность и перестройка так на них повлияли? Правда, в то время наши футболисты уже года два или три играли на Западе. Но футбол не приносил таких побед и не был в СССР так политизирован, как хоккей.
Уже потом, играя в НХЛ, я узнал, что хозяин «Нью?Джерси Дэвилс» доктор Макмален в то время делал большой бизнес с Советским Союзом и мечтал заполучить кого?нибудь из известных советских хоккеистов к себе в команду. Поэтому он поставил меня и Касатонова еще в 1983?м на драфт «Нью?Джерси» и с тех пор постоянно «бомбил» и американское посольство в Москве, и советское в Вашингтоне, рассылал повсюду письма с предложениями о контракте, короче, использовал все возможности для давления на советских начальников. Я думаю, определенная заслуга в том, что в Лиге играют русские, принадлежит ему. У меня с доктором Макмаленом, когда я играл в «Нью?Джерси», сложились очень хорошие отношения, и он нередко мне рассказывал, как все происходило, как он мотался на все приемы в советское посольство, регулярно встречаясь с послом Добрыниным и напоминая, что он ждет советских хоккеистов. Может, активность мистера Макмалена и сыграла свою роль. Насколько я знаю, Луи Ламарелло, менеджер и президент клуба «Нью?Джерси Дэвилс», тоже постоянно встречался с советским спортивным руководством, вел переговоры. Во время Олимпийских игр Лу три или четыре раза прилетал в Калгари на встречи с Грамовым и Колосковым.
Когда Колосков сказал мне перед отъездом о возможной работе в НХЛ, в принципе ничего неожиданного в его словах не было. Потому что, как я уже говорил, футболисты потихоньку начали уезжать, а хоккеисты (правда, не уровня сборной, но из высшей лиги) уже достаточно давно играли в европейских хоккейных клубах. Но НХЛ – это совсем другое, это Америка, это то, что хотелось попробовать. Хотя нас и называли «любителями», мы, конечно, были профессионалами. Своеобразными, по советскому фасону, но профессионалами. Ничего другого, кроме хоккея, мы не знали, занимались им одиннадцать месяцев в году, даже больше, чем американские профессионалы. И хотя было такое ощущение, что уже близко время, когда ребят начнут отпускать в НХЛ, но я понятия не имел, что «Нью?Джерси» меня уже задрафтовал. Никакой информации из Лиги до игроков в Москве не доходило. Когда мы приезжали играть в Америку, нас от всего изолировали, никому с нами общаться не давали, английского языка мы не знали, а за беседу с эмигрантами могли не взять в следующую поездку. И конечно, в советской прессе ничего, кроме критики в адрес НХЛ, не могло появляться. Отношение к американскому хоккею, как и ко всему американскому, было у начальников крайне отрицательным. Но в том чартерном самолете, на обратном пути из Калгари в Москву, царило совсем другое настроение: мы выиграли Олимпийские игры! И это, конечно, повлияло на откровенность Грамова. Как только мне представилась возможность попробовать себя в НХЛ, вопроса для меня – смогу или не смогу – не существовало. Я считал, что мне вполне по силам играть в Америке, хотя даже записей, как у них проходит регулярный чемпионат, я никогда не видел.
То есть я совершенно не имел понятия, кто там играет и как. Наши суперсерии, эти рандеву в Канаде давали единственное представление об игре северо?американцев. Я считал, что никогда не выглядел против них плохо, а по статистике, на чемпионатах мира больше всего очков и голов я набрал именно в играх против канадцев.
Лада: Я думаю, в то время не было ни одного советского хоккеиста, который бы не хотел поехать и попробовать себя в НХЛ. Когда началась вся заваруха с отъездом Славы, мы про деньги вообще ничего не знали: какие могут быть там контракты? Какие суммы? Одни называли тысячи, другие – сотни тысяч. Некоторые говорили про миллионы. В Москве мы не представляли, что означают такие деньги. Когда Слава подписал свой первый контракт с «Нью?Джерси», он оказался в то время одним из самых высокооплачиваемых защитников в Лиге. А уже через два?три года суммы контрактов быстро взлетели. В Лигу начали входить новые команды, телевидение стало подписывать контракты с клубами. Слава богу, что сейчас молодые ребята могут зарабатывать приличные деньги, все же у хоккеистов слишком короткий отрезок времени, когда они в состоянии обеспечить будущее для себя и своей семьи. Но тогда, в конце восьмидесятых, в Москве о деньгах говорилось в последнюю очередь, речь прежде всего шла о престиже. Надо знать систему, в которой Слава вырос, надо знать судьбы спортсменов, которые в его возрасте уже были вычеркнуты из спорта, а Славе исполнилось в тот год тридцать.
Люди, которые прошли школу ЦСКА, не умеют проигрывать. Они всегда номер один, самые лучшие. А Слава даже среди них – уникальный случай. Мы с ним дома играем в нарды, и если я выигрываю, у нас нарды летят со стола во все углы. В карты если проиграл, лучше к нему не подходить. В Ялте была такая история. Мы с ребятами сели за карты. Слава, я, Мышкин и Саша Скворцов с женами. Играли вшестером в «дурака», жены против мужей. Кто продует – лезет под стол, кукарекает три раза. А какой в гостинице стол? У Скворцова жена была немелкой комплекции. У меня рост тоже хороший, и лазить туда было нелегко. А они нас буквально обдирали. Мы только успевали ползать под столом и «кукареку» кричать. Наши мужья предлагают: «Кукареку» – это уже неинтересно. Давайте, кто проиграет, будет выходить на балкон и кричать три раза: «Я дурак» или «Я дура». Начали играть, и мы выигрываем! Мало того, что игра прекратилась моментально, – кто?нибудь вышел на балкон или даже открыл окошко, чтобы покричать? Нет. Мы сидим, я говорю: «Так, ребята, в чем дело? Вы выигрывали, мы честно лазили под стол и кукарекали. А теперь вы должны выйти на балкон. Можете даже не выходить, я вам открою форточку. Даже не кричите, скажите тихим шепотом, даже не три раза, а по разочку, но пусть каждый скажет, что он дурак». Они это сделали? Нет. Они с нами разругались, хлопнули дверью и ушли из номера. Утром вышли на пляж, и никто с женами не разговаривает! Я у девчонок спрашиваю: «Ну и как?» – «Спали хорошо, – говорят, – но на разных концах кроватей». А были бы разные комнаты, спали бы в разных комнатах. Точно не скажу, но, думаю, до вечера ребята дулись. Тяжело приняли проигрыш в карты, а представьте поражение на льду?
Для Славы поехать в НХЛ – это возможность доказать себе в первую очередь, что в его силах сыграть и там на высоком уровне. Тогда же американские газеты писали: кого обыгрывают русские? Когда сборная Канады или Америки приезжает на чемпионаты мира, это дети из колледжа, то есть игроки?студенты, не профессионалы, не игроки Лиги. А вот если бы собрались все игроки Лиги, то русским нечего было бы делать. Конечно, и эти высказывания, которые до нас доходили, невероятно задевали самолюбие мужа. Ему хотелось попробовать себя в НХЛ, ему хотелось почувствовать, узнать американский хоккей. Славе, повторю, было уже тридцать, не мальчик, который едет и ничего не знает. Он прекрасно понимал, что у него осталось совсем немного активных лет на льду и пора уже было решать, что делать дальше.
Сейчас я думаю, что, когда руководство Спорткомитета почувствовало, что на нас есть большой спрос, а в связи с новой политикой рано или поздно придется хоккеистов отпускать, они решили заработать большие деньги на наших договорах. В это время уже появился «Совинтерспорт» – фирма при Спорткомитете, занимающаяся западными контрактами советских спортсменов. У спортсмена тогда никто не спрашивал, сколько ему платить. Сколько хотели, столько нам и отдавали, остальное оставляли себе. Не знаю, главная ли это была причина нашей свободы или нет, но, думаю, такой расклад имел место. «Совинтерспорт» считал хоккеистов хорошим товаром. Я не в курсе, как оно на самом деле оказалось для советских спортивных чиновников, но хоккей действительно мог стать отличным бизнесом. Но не стал по многим причинам до сих пор, и прежде всего потому, что грамотных людей не нашлось, а попытка работать по?советски результата, естественно, дать не могла.
Мое первое знакомство с «Совинтерспортом» – это отдельный рассказ. Забегу немного вперед. После чемпионата мира 1989 года меня с Игорем Ларионовым пригласили товарищ Никитин и товарищ Галаев, который в то время возглавлял, да и сейчас вроде возглавляет эту фирму. Сначала Никитин (он был, по?моему, заместителем начальника) вел с нами долгую беседу, рассказывал, сколько мы можем заработать, пересчитал нам доллары на рубли – огромные получились деньги. Мы сказали, что потрясены, но сколько это будет в реальных цифрах, сколько будет записано в контракте, который «Совинтерспорт» собирался подписать вместо нас с клубами НХЛ? Никитин замялся. «Вы же знаете, – говорит он, – что у нас спортсмены не могут получать больше, чем посол Советского Союза. (А посол получал тогда около тысячи долларов в месяц. Следовательно, все, что выше этой цифры, перечислялось в «Совинтерспорт», а оттуда уже в Спорт?комитет.) Но ввиду того, что у вас большие заслуги перед Родиной, вам разрешено получать десять процентов от контракта». Мы с Игорем посмотрели друг на друга: «Что?то мы не поняли? Что значит десять процентов?» – «Как что? Видите, у нас инструкция ЦК партии о том, что новые сейчас веяния в стране. О том, что спортсменов нужно отпускать. Но нам негласно дали указание, что плодить миллионеров мы не имеем права». Я говорю: «Ну а почему не пять, почему не пятнадцать, не двадцать процентов? Почему десять?» – «Мы считаем, что это оптимальная цифра». Мы с Игорем снова переглянулись и заявили, что не согласны. Никитин позвонил Галаеву.
Пришел Галаев, и опять началось то же самое: только теперь уже начальник стал рисовать нам светлое будущее – сколько у нас будет денег, если их перевести в рубли, сколько можно будет на них купить «Жигулей», «Волг»… Но мы все это уже слышали. Тогда я его остановил и сказал: «Я отыграл тринадцать лет за национальную сборную, отдал все силы, что у меня есть, своей стране. И думаю, что мне не стыдно за то, как я выступал. Я считаю, что тот контракт, который мне предложат в «Нью?Джерси», я в состоянии сам подписать, сам распоряжаться своими деньгами». Никитин и Галаев начали смеяться, махать руками: «Ну вы и шутники». – «Тем не менее, – говорю я, – таково мое мнение. Игорь меня поддерживает». Товарищи Никитин и Галаев поражены: «А как же государство, которое вас вырастило?» Начали пересчитывать, сколько человеко?часов было затрачено для того, чтобы нас вырастить до заслуженных мастеров спорта. У них, кстати, заранее все раскладки были, посчитали, говорят: вот посмотрите, сколько государство на вас затратило. Я в ответ: мы отработали все эти человеко?часы, а компенсация клубу за нас должна быть помимо контракта. Я в то время понятия не имел, как делается подобная бухгалтерия. Просто я логически рассуждал, что контракт игрока должен быть для игрока, а любая компенсация, то есть трансфертные деньги, – это уже контракт с клубом НХЛ. По какому?то наитию так и сказал: «Это ваши проблемы, и решайте их с руководством НХЛ». Они опять стали смеяться: «Ребята, вы с Луны свалились, откуда вы такие взялись?» В итоге они расщедрились до двадцати процентов и на прощание заметили, что если мы будем продолжать ерепениться, то вернемся опять к десяти. Вот такая она была – моя первая встреча с «Совинтерспортом». Была еще одна, но короткая, больше я с представителями этой организации в Москве не встречался.
Интересен в связи с моим приглашением еще и такой факт: по?моему, Грамов и понятия не имел, что такое «Нью?Джерси», поэтому мне в самолете он сказал: «Приезжал хозяин или – как его там? – менеджер «Нью?Джерси». Я ему пообещал, что вопрос этот решим». Я даже не спросил: почему «Нью?Джерси»? Это все для меня далеко было. Я ответил: «Хорошо, согласен». Я понимал, что команда носит имя города, хотя тоже не знал, где тот находится. Нью?Джерси должно быть городом, убеждал я себя, у нас же не было областных команд. Тем более что с «Дьяволами» ЦСКА до этого никогда не играл. Английского языка я не знал, потому что в школе, когда нам начали преподавать иностранный язык, учеников «разбили» по алфавиту на тех, кто будет учить английский, и тех, кто во второй части списка, – немецкий. Понятно, что я попал в немецкую группу. Я неплохо говорил по?немецки, по крайней мере, мне так казалось, но английский был для меня тогда – темный лес.
Но страха перед поездкой в неведомое я не испытывал. Что такое страх, я узнал, когда в погонах майора стоял перед министром обороны, а вокруг генералы, и нельзя показать, что боишься. Но зато когда вырвался из этого «адского круга», то уже понимал: страшнее не будет.
Но я опять перелистал вперед страницы своей книги. И раз уж начал про то время, закончу воспоминания о страхе. Страшно было мне в Москве, когда сидишь дома один и никто не звонит, никто не заходит, а раньше – не успел приехать, телефон уже разрывается. Я стал причиной скандала, который в Советском Союзе никогда не должен был случиться. Я осмелился заявить, что не хочу играть в команде Тихонова! Люди не понимали, что происходит, куда меня понесло? Симпатизировали, но в основном молча. Громко выступал только Гарри Каспаров, который находился в авангарде «спортивно?освободительного движения». К моей защите подключились и многие известные артисты: Кобзон, Намин, Фатюшин, Дуров… Саша Розенбаум, рискуя своими сольными концертами в зале «Россия», каждый вечер со сцены говорил слова в мою поддержку. Защищали меня в то время и в прессе, но далеко не все. Я думаю, их вера в меня и помогла пережить страх. Не страх за свою жизнь, а страх перед неизвестностью. Ужасное состояние, когда не знаешь, что с тобой будет завтра. Я это ощутил достаточно сильно, и не только я, но и семья, родители, которые меня полностью поддерживали. Но они, конечно, боялись еще больше, чем я. Они же жизнь прожили в нашей стране. Иногда мама просила: «Сынок, может, извинишься перед ними? Они тебя, наверное, простят, и все будет как прежде».
Меня многие в то время спрашивали: ты чего так уперся по поводу НХЛ? В Америку хочешь уехать? Деньги заработать? Двумя словами здесь не отделаться.
Когда Колосков мне намекнул об НХЛ перед Играми, это были просто слова, хотя, может, и приятные слуху. Ты можешь как угодно по этому поводу мечтать, но потом тебя вызывают официально министр и его заместитель, то есть Грамов и Гаврилин, и говорят, что они дали слово генеральному менеджеру американского клуба, что они сами утрясут вопрос о моем увольнении из армии с министром обороны Язовым. А через пару дней ты приходишь в Спорткомитет, и они начинают тебе рассказывать, что вопрос об увольнении из армии – невероятно трудный, потому что советский офицер не имеет права не то что работать за границей, а даже с иностранцами в одном отеле проживать. И хоккеисты не были исключением (выезд за границу считался краткосрочной командировкой, в которую мы отправлялись по всем правилам, вместе с сопровождающими из КГБ, внимательно отслеживающими наши контакты).
Сейчас это выглядит как полный бред, но еще десять лет назад, когда мы приезжали летом в отпуск в Ялту, то не имели права остановиться в хорошей гостинице, потому что там жили четыре?пять туристов с Запада. Хорошо, у нас в Ялте комендант гарнизона был приятелем, мы ходили к нему, чтобы получить специальное разрешение на проживание в гостинице «Интурист». А иностранцы в Ялте – в основном чехи, поляки, венгры, тогда друзья по Варшавскому пакту. Это было время, когда «звезды», которых любила вся страна, имели право только на стометровый отрезок пляжа, тогда как два километра были отданы иностранцам, тем же чехам… Я ничего не имею против чехов, поляков, но все это действительно раздражало: ты находился у себя дома, но все лучшее в нем – для иностранцев. И тем более обидно (обычно у нас отпуск сразу после чемпионата мира), когда ты бьешься с теми же чехами за первое место, они в тебя плюют, обзывают тебя как угодно, чаще всего «оккупантом», игры с ними всегда сопровождались стычками, а когда ты приезжаешь вроде героем домой, тебя сажают в «клетку». А рядом отдыхают они, но со всеми благами: там и кафе, и рестораны, и блины с икрой… А ты сидишь под наблюдением соответствующих органов, чтобы к иностранцам не приставал и не мешал их отдыху.
И как продолжение подобных издевательств – обещание, что ты уедешь; даешь свое согласие, а тебе говорят: нет, на этот «пляж» попасть невозможно. А у тебя слава на всю страну, ты чемпион Олимпийских игр, ты капитан команды, у тебя известность всемирная… Но звонят твоей жене «доброжелатели» из политуправления армии: «Вы представляете, вас сейчас отправят куда?нибудь на Север, где ни горячей воды нет, ни туалета в доме. Вы же привыкли к хорошим условиям. Вы такая красивая девушка, зачем вам это надо – ходить в уборную на улице? Повлияйте на мужа как?то». До этого мы с Ладой жили не расписываясь, в гражданском браке, – кстати, тоже вызов для советского общества. Но когда началось такое давление – расписались. Лада героически держалась, отвечая на все звонки одинаково: «Слава знает, что делает, и я полностью его поддерживаю». Когда друзья теряются буквально на глазах, а вся подвешенная ситуация затягивается на долгое время, все попытки вырваться из заколдованного круга бесплодны, невольно перестаешь верить в счастливый исход.
Точка отсчета моего конфликта с советской спортивной системой – июнь 1988?го. Тогда наступил перелом в наших отношениях с Виктором Васильевичем Тихоновым.
Февраль 1988 года. Через три дня после того, как я дал свое согласие в Спорткомитете Союза на отъезд в Америку, меня вызывают в политотдел ЦСКА и говорят: «Пиши заявление об увольнении из армии». Я пишу, естественно, на имя своего начальника полковника Тихонова нечто вроде: «Прошу уволить меня из Вооруженных сил в связи с предстоящим подписанием зарубежного контракта…» – мне в том же полит?отделе дали такую формулировку – рапорт для выезда за границу. Тихонов мой рапорт подписывает и говорит: «Я передам его дальше по инстанции».
В отпуск мы уезжали в начале июня. До этого дня я регулярно ходил к кадровикам, узнавал: уволили меня или нет? Мне отвечали: вопрос решается. В это время Лу Ламарелло (ему обещали, что я уже летом буду в «Нью?Джерси») постоянно связывается с «Совинтерспортом», а те ему говорят: «Вот?вот Фетисова должны уволить из армии. Будь уверен, что к началу сезона ты его получишь. Все идет как надо». И меня в ЦСКА кормят обещаниями. Только спустя пять лет, во время суда, о котором речь дальше, когда были подняты документы, я многое узнал. А тогда говорили, мол, какой Фетисов неблагодарный, Тихонов – первый, кто подписал ему рапорт об увольнении из армии, не говоря уже о том, что он его игроком сделал, а Фетисов его поносит и поносит. Ну если министр не увольняет, то при чем тут Тихонов? Почему он на него обозлился? Пускай злится на генералов. Но вот что было на самом деле.
В июле начинался предсезонный сбор. Перед ним, отпуская нас на отдых, в клубе провели собрание. Мне на нем сказали: «Езжай в отпуск, ни о чем не думай. Тебе нужно отдохнуть, сезон был тяжелый, олимпийский, ты перенес большие нагрузки». Я, как послушный спортсмен и настоящий советский гражданин, еду в отпуск с Ладой в надежде, что, когда вернусь в Москву, все мои проблемы будут решены. Тем более я знаю, что в это время идут интенсивные переговоры «Нью?Джерси» с «Совинтерспортом». Прямо с курорта нас вызывают в Москву. В середине июня, в разгар отпуска, в Ялту, в гостиницу приходит правительственная телеграмма. Мы отдыхали целой компанией: Касатонов, Макаров, еще пять или шесть олимпийцев, все с женами. Читаем текст: «Срочно прибыть в Кремль на награждение». Мы с помощью этой телеграммы берем билеты на самолет (так просто купить билеты в пик летнего сезона было невозможно, но по телеграмме, тем более по такой, нам их продали). Жены остались в Ялте, а мы полетели в столицу на один день. Прилетели, переночевали дома, наутро – в Кремль на награждение, а после обеда собирались снова в самолет и обратно в Симферополь. Настроение хорошее; орден Ленина мне вручают, все – класс, жизнь замечательная. Дома оделся в олимпийскую форму, костюм, который нам выдали перед Калгари. Получил орден, а после награждения – фуршет, все прогуливаются по кремлевскому залу, ко мне многие подходят, поздравляют. Подходит ко мне и Грамов, приведя с собой Горбачева, и говорит: «Михаил Сергеевич! Это наш известный хоккеист Фирсов». Впрочем, Грамову простительно, он и не такое говорил. Потом он еще раз подходит, на этот раз с первым замминистра обороны, который курировал спорт, тот меня поздравляет: «С орденом тебя, и еще поздравляю – твой вопрос решили. Ты едешь в НХЛ, министр обороны согласен. После награждения едем в ЦСКА, а после ЦСКА…» Я говорю: «Мне нужно в Ялту лететь». Но он не слушает: «После ЦСКА тебе дадут машину, заедешь быстро в «Совинтерспорт», тебя там ждет приятный сюрприз». Я очумел. Все свершилось вдруг в один момент! Орден, Кремль, Горбачев, решение Язова – такое только в сказке бывает.
Сажают нас по автобусам, армейцев отдельно, объявляя: «У нас в ЦСКА чествование армейских спортсменов! Замминистра и вся армейская элита хотят поприветствовать своих героев». Едем из Кремля на Ленинградский проспект, где мне собирались поставить бюст бронзовый, но не успели, хотя уже начали лепить. Бюсты ставили всем армейцам, кого наградили орденом Ленина, таких было человек тридцать, но я оказался, как позже выяснили, врагом. Об этом дальше, а пока после армейских поздравлений накрыли столы в Офицерском клубе. Там есть отдельные кабинеты для высших генералов, и меня в этот кабинетик и отвели. Сидим: я, Тихонов и замминистра обороны. Он налил по бокалу шампанского и говорит: «Ну, еще раз поздравляем, считаем, что ты должен высоко нести знамя армейского спорта…», и тому подобное.
Я до сих пор не пойму, в курсе ли был Виктор Васильевич, что дальше должно было произойти, или я присутствовал на спектакле. Замминистра протягивает мне бокал: «Ну, давай выпьем». Выпили. Наливает снова: «Ну ладно, Виктор Васильевич, парень поиграл здесь, отдал армейскому спорту достаточно. Теперь, наверное, надо его отпускать?» Виктор Васильевич Тихонов: «Я бы не торопился его отпускать, у нас молодых защитников много, пусть у Фетисова подучатся. Я думаю, он еще годик мог бы поиграть в ЦСКА, а после этого мы с удовольствием его отпустим».
Конечно, Виктор Васильевич совсем не дурак, и тут я понимаю: первый, кто не даст мне уехать, – Тихонов. Он, конечно, рапорт подписал, но со всеми уже обговорил, чтобы меня остановили. Одной фразой Виктор Васильевич перечеркнул мои надежды. Я только и смог вымолвить: «Как?» – «Ну ладно, ладно, – говорит он, – потом разберемся».
Значит, все уже решено. И эта фраза, которая все перевернула с ног на голову, не случайна. Что же творится? Он визирует вроде бы рапорт, а человеку, за которым последняя подпись, говорит, что меня не надо отпускать! Я вроде бы нужен ему для работы, я еще мало поработал на армейский клуб!
Все это потом подтвердилось, через суд я установил все даты. Ламарелло вызвали подписывать контракт именно в тот день. В «Совинтерспорте» точно не знали, когда будет награждение, поэтому Ламарелло сидел пять дней в Москве, все переговоры провел, вопрос для него был решен. Он был уверен, что с армией уже нет проблем. На суде и цифры назывались, которые были оговорены между «Нью?Джерси» и «Совинтерспортом» – больших денег лишил Виктор Васильевич Родину. Очень больших.
В тот же день я увидел и своего будущего генерального менеджера. Меня привезли из этого ресторанного кабинета прямо на Арбат, в «Совинтерспорт», я захожу к Галаеву весь в орденах, Лу не может понять, что это такое стоит перед ним, вроде как советский генерал из бондовского фильма, а мне говорят: «Вот твой менеджер из Нью?Джерси”. Кстати, когда меня повезли в «Совинтерспорт», ко мне в машину посадили человека из ЦСКА и он меня учил: «Ты скажи Ламарелло, что еще не готов». Я говорю: «Как же я не готов, когда я уже дал согласие?» – «Ну ты скажи, что дела затягиваются, что ты еще хочешь поиграть здесь, еще успеешь в «Нью?Джерси». И мне это все говорят?! Сразу после маленьких посиделок втроем!
Замечу, что, когда я вошел к Галаеву, я не мог по виду определить, кто в кабинете американец, потому что в это время совинтерспортовцы одевались будь здоров, не хуже любых миллионеров. И опять же, перед тем как меня с Лу познакомить, вижу, замешательство какое?то началось в «Совинтерспорте». Меня заводят то в один кабинет, то в другой. А Лу уже сидел в конференц?зале с переводчиками, объяснял, как он бизнес делает. Как я потом узнал, все это время его «душили», чтобы больше денег за меня подписать. Завели меня то ли к Галаеву, то ли к Никитину. Они тоже не поймут, что происходит, но команду, похоже, уже получили и начали меня просить, не желая выглядеть дураками, чтобы я сам отказался от поездки, что я, мол, не хочу сейчас играть в НХЛ. Я этого, конечно, Лу не говорил, но не знаю, что они ему переводили, потому что по?английски не понимал ни слова. Лу стал рассказывать что?то про мою будущую команду. Но для меня уже все там, на Ленинградском проспекте, оборвалось. По лицу Ламарелло я понял, что у него тоже происходящее вызывает какое?то недоумение. Он уже готов все подписать… а меня через пять минут после знакомства уводят, сажают в машину (я действительно опаздывал на самолет) и Лу объясняют: «Славе надо возвращаться к жене». На прощание, правда, мне сказали, что, когда я вернусь из отпуска, мы во всем разберемся.
Я приехал во Внуково с соответствующим настроением: орден Ленина на груди и нож в спине…
Сентябрь 1988 года. В то время сложно было что?то понять в закрутившейся интриге, потому что от человека в СССР мало что зависело. Как все было? Дали – взяли, взяли – дали. Я, когда вернулся из отпуска, заявил: «Тренироваться не буду». Меня вызывают в спорткомитет Министерства обороны. Вызывают в политуправление, таскают везде, где только можно. А для меня самое главное – уволиться. Мне обещают, что какое?то постановление правительства должно выйти буквально на днях.
Перед началом сезона ко мне подходит не сам Тихонов, а второй или третий тренер команды и говорит: «Тебе же все равно тренироваться надо. Тебе же в Америке надо будет играть». Это для меня был самый убедительный довод, и я потихоньку начал тренироваться. Но на сборы не ездил. А на занятия команды приходил, чтобы в форме быть. Потом ЦСКА собирается на матчи в ФРГ, а в это время Ламарелло мне каждый день названивал домой и через переводчика Диму Лопухина, который работал в «Нью?Джерси» (Дима родился в Америке, но родители у него русские, и по?нашему он говорил неплохо), спрашивал: как дела? когда приеду? Я обещаю: «Завтра?послезавтра собираются уволить». Для американцев абсолютно непонятная ситуация – сколько можно увольняться? Для Ламарелло вся история со мной – полная загадка, ему уже все было обещано, и не кем?нибудь – министром спорта! Какая?то там армия… При чем здесь армия? Американцам наше советское крепостное право объяснить сложно. Дима продолжал мне звонить каждый день, как на работу, с утра. Я вставал на тренировку – звонок из Нью?Джерси.
Я продолжал с командой тренироваться и наивно всем объяснял, что в Германию не поеду, меня же вот?вот должны уволить, зачем я поеду за рубеж и буду занимать чье?то место в команде? Пусть поедет молодой парень, денег заработает (там раньше давали 100 марок за две недели). Тут меня опять вызывают в армейский спорткомитет. «Езжай, – говорят, – играй за ЦСКА. Молодые – потом. Ты заслужил». Я уперся: «Нет, не поеду». Приносят паспорт: «На тебя уже виза выписана, мы не можем ее ни на кого переоформить…» В то время у нас в ЦСКА зять какого?то высокопоставленного генерала работал, не помню его фамилии, но он постоянно говорил: «Все уже в проекте». Какие?то пустые бланки мне давал: вот такой, говорит, бланк мы отправили на рассмотрение в министерство. В общем, пудрили мозги, как могли. А пока езжай в Германию. Тогда я еще не понимал, что меня старались запихнуть обратно в родной хоккей. За день до отъезда звонит Лу и говорит: «Я приеду в Германию, хочу тебя видеть». Тогда я согласился ехать. Взял хоккейную форму и отправился в Шереметьево. Приезжает в город, где мы играли, Ламарелло, какого?то эмигранта с собой привозит, который может по?русски объясняться, приезжает с ним и заместитель генерального менеджера «Нью?Джерси», который отвечает за связь с прессой. И сразу же они предлагают мне уехать из ФРГ прямо в Америку: «Вот билет, визу мы тебе оформим… Я понял, что в вашей стране ничего никогда не получится». Я просидел с ними всю ночь. «Вот тебе личный контракт. Здесь подписывай, и мы едем в Дюссельдорф или в Мюнхен. На машине в аэропорт. Вопросы твоего въезда в Штаты уже решены с Госдепартаментом». Я говорю: «Нет. Я не могу. Они от меня только этого и ждут. Я не затем столько времени честно работал, чтобы меня сейчас начали позорить. У меня в Москве семья». «Всех перевезем, – обещает он, – не волнуйся. Я тебе гарантирую. Всех. И Ладу, и родителей. Как скажешь, так и сделаем. Соглашайся, подписывай, бери билеты, и мы сейчас же уезжаем. И конец. Никаких проблем». Я отказался. Но мне Лу деньги дал, неплохие по тем временам, пять тысяч долларов на жизнь, и потом поддерживал морально и материально.
Поиграл я в Германии, приехал в Москву, опять иду к начальству. «Все бумаги, – мне отвечают, – на подписи». Я к Бобровой, жене великого Всеволода Боброва, она у нас в клубе работала. «У меня, – говорит Елена Николаевна, – знакомый служит в приемной Министерства обороны, он узнает». Узнал. Никаких моих бумаг там нет. И никогда не было. Я понял, что из меня делают дурака. Я начинаю метаться, пишу еще рапорт, ищу всяческие причины для увольнения. А в то время началось сокращение армии. Пишу: «Я такой?то, благодарен армии за все, но в связи с сокращением не хочу занимать место настоящего военного, который прослужил от рядового до майора. Не хочу занимать должность человека, который, возможно, попадет под сокращение».
Сейчас я понимаю, как это все выглядело наивно, но тогда хватался за соломинку. Прихожу к Тихонову, он опять мне все бумаги подписывает. Я сам взял свой рапорт, сам отнес в отдел спортигр, там был наш политотдел. «Хорошо, оставь, – говорят, – подпишем, отдадим начальнику, потом начальник отдаст председателю армейского спорткомитета, а он уже должен отнести твой рапорт министру». В это время меня вызывают в Главное политуправление Советской армии. Не помню сейчас фамилии того генерала, хотя надо было все записывать. «Ну и для чего, – говорит генерал, – тебе ехать в Америку? Расскажи. Вот ты майор. Посмотри – орденов сколько, у тебя квартира шикарная, однокомнатная на «Речном вокзале». На собственной машине ездишь, майор, а хочешь – подполковничью должность тебе дадим сейчас. Ну и куда ты едешь, зачем? Объясни мне». Начинаю объяснять: «Я уже достаточно отыграл дома, представилась редкая возможность поиграть теперь в Америке. Неизвестно, что будет со мной завтра, я могу получить травму и вообще никому не буду нужен. А тут такой шанс узнать их хоккей». – «Да мы их всегда обыгрывали, да зачем тебе его знать, да у нас такие игроки, ты тренером будешь, полковником, хочешь – начальником отдела спортигр мы сейчас тебя поставим. Такое будущее у тебя!» – «Понимаете, – говорю, – мне профессионально интересно, как там играют, как тренируются. Совсем ведь другая жизнь! Язык выучу, опять же на деньги, которые вы за меня получите, команде хоть форму приличную купите, а то играем не знаю в чем. Хорошо, что в ЦСКА много ребят выступают в сборной, они получают дополнительные комплекты формы, делятся с другими. А так команда будет нормально одета. Детям, может, какая?то форма в школу перепадет. Мне все равно осталось год?два играть, а тут такая возможность. Да и просто хочу съездить, думаю, что я заслужил». Час, наверное, я ему толковал. Генерал этот в Главном политуправлении спортсменов курировал, с хитрецой такой, на Владимира Ильича похож. Посмотрел на меня, прищурился: «У тебя одна задача – денег заработать и обогатиться». И как начал на меня орать: «Все, что у тебя в голове, – обогатиться, за доллары решил продаться!» Я думаю: куда я попал? – «Пойди подумай хорошо. Надеюсь, опомнишься, заберешь рапорт».
Снова начинают меня вызывать туда?сюда. Тебе, говорят, надо в чемпионате выступать, потому что ты же не можешь без игровой практики. Звонит Ламарелло, я спрашиваю: «Что делать?» Он говорит: «Играй, тебе же надо играть. Они мне опять обещали, что твой вопрос скоро решится». Я начинаю сезон, но чувствую, за мной постоянно смотрят и какие?то вещи странные происходят. Я как будто в команде и как будто нет. И даже те же ребята, мои друзья, я думаю, в то время немного мне завидовали: вроде вместе, но вроде бы уезжает. А я, как дурак, хожу по этим политотделам. С утра приезжаю на тренировку, есть полчаса – бегу в политотдел, спрашиваю, подписали мне рапорт или не подписали? Пулей лечу во Дворец – надо успеть на тренировку, чтобы не кувыркаться. (Кувыркаться заставляли тех, кто опаздывает. Прямо на льду в форме – это еще со времен Тарасова так наказывали.) Напряг – сумасшедший. Объявляю Тихонову: «На сборах жить не буду». А он вроде просит: «Нет, Слава, надо на сборах жить». Чувствуешь себя почти свободным, вроде вот?вот должен уехать. Но сажусь в машину, еду домой – за мной опять «хвост». Не знаю, действительно ли за мной следили, но мне так казалось в то время.
И вдруг объявляют: «Все, не дури, играй. Скоро отправимся на новогоднее турне в Канаду и США. Там все и решится, мы как раз играем с «Нью?Джерси». После этого матча ты остаешься там заканчивать сезон». Лу звонит: «Да, такая договоренность есть. Приезжай на Новый год, здесь будешь заканчивать сезон с нашей командой». Даже какую?то форму для ЦСКА попросил выслать из Америки за такой жест доброй воли.
Первый раз я играл в Нью?Джерси 3 января 1989 года, еще как защитник ЦСКА.
Но перед этим случилась дикая история.
Октябрь 1988 года. Накануне игры с местным «Соколом» мы с Касатоновым были в гостях у футболистов киевского «Динамо», с которыми тогда дружили. Поскольку назавтра предстоял матч, мы с Лешей рано вернулись в гостиницу. В то время в Киеве жил (сейчас он в Америке) Саша Ляпич, он позвонил мне в номер: «Наконец тебя поймал. Завтра на хоккей не могу прийти, а у меня большая просьба: я приготовил посылку для Харламовых, хотел бы, чтобы ты ее передал от меня». Ляпич дружил с Харламовым и после трагической смерти Валеры постоянно отправлял посылки его детям. Я обещал, что спущусь вниз (в то время в гостиницу после одиннадцати пройти посторонним было невозможно). Ляпич сказал, что он выезжает. Я надел тренировочный костюм, вышел на улицу. 7 октября – День советской Конституции. На улице – оживление, день выходной, народ гуляет. Я стою чуть в стороне от гостиницы «Москва», где мы жили, потому что на мне яркий костюм, а тренеры не должны меня заметить: у нас режим, после одиннадцати часов нельзя выходить из номера, команде полагалось спать. Стою – Ляпича нет. Нет его десять, пятнадцать, двадцать минут. Рядом со мной шлагбаум. Я оказался неподалеку от автостоянки, там, где будка охраны. Я решил, что, скорее всего, и телефон в будке есть. Подхожу к будке, думаю: «Позвоню, узнаю, выехал Саша или нет?» Будка высокая, как милицейский «скворечник», а в окне молоденькая девушка. Я кричу: «Нельзя ли от вас позвонить? Мне нужно узнать: человек выехал, ждать его или нет?» Она не отвечает. Я громче: «Нельзя ли позвонить от вас?» Вдруг лысоватый мужик лет под пятьдесят рядом высовывается: «Отвали отсюда». Я говорю: «Что вы грубите? Единственное, что мне нужно, – позвонить». Он опять: «Я сказал, отваливай отсюда». Я продолжаю стоять. Он сбегает по ступенькам из «скворечника» (а у него «жигуленок», оказывается, рядом с входом в будку стоял), открывает багажник и достает оттуда приличный тесак. Как потом выяснилось, лысый мужичок работал прежде в МВД, был начальником «зоны», и тесак у него, похоже, был тоже с «зоны», типичная зэковская продукция. И опять: «Я тебе сказал – отваливай». Наверное, он перед девушкой хотел покрасоваться. Я ему: «Ну что ты взбунтовался?» Он мне: «Я тебе сейчас язык отрежу». Я подхожу к шлагбауму, говорю: «Я не понял?» Похоже, что мой яркий костюм его просто заводил. 1988 год, вещей в стране мало. Подходит к нам милиционер: «В чем дело?» Я говорю: «Вот видите человека с ножом, выбежал на меня». Милиционер говорит: «С каким ножом?» Я снова: «Вы что, ослепли? Мне угрожают ножом». Милиционер: «Я ничего не вижу». Лысый мужичок распаляется: «Ты, щенок, ты у меня…»
Я растерялся, повторяю: «Вы разве не видите, что человек с ножом?» Он: «Нет никакого ножа». Я: «Так у вас здесь мафия». Тут милиционер встрепенулся: «Ах, ты такой разговорчивый…» И сразу – в свисток, тут же еще один подбегает, и буквально через минуту (праздник же, особый режим патрулирования) подъезжает «воронок». Я опомниться не успел – вылетает бригада, начинает мне крутить руки. Стало так обидно за эту дурацкую ситуацию, что, вместо того, чтобы сесть спокойно в машину поехать и разобраться в отделении, я начал кричать: за что? почему? Они мне – руки выкручивать, я сопротивляюсь, человека четыре пинками в машину меня загоняют. Я вою: «Давайте разберемся здесь, в гостинице». Они: «В милиции разберемся!» И бьют под печень все время, пинают ногами, тянут за волосы, костюм разорвали. Хохлы оказались дюжими. В отделении милиции завели в какую?то комнату и еще там меня попинали. У меня началась истерика. Разума нет, одни эмоции. Уже после того, как меня отмолотили, заходит дежурный майор. Такой в теле, лицо добродушное. Я говорю: «Вы майор, я тоже майор, за что меня били? Меня в жизни никто не пинал ногами, отец никогда не трогал». Наступил срыв, я рыдаю, не знаю, что я еще им там кричал. Меня закрыли в камере, потом приезжает начальник милиции – крутой парень. Где?то его в час ночи вызвали. «Ты нам здесь права не качай, – говорит, – я с тобой могу сделать все, что хочу». Наконец появляется Тихонов, а у меня волосы выдраны, золотую цепочку сорвали, деньги, что были в бумажнике, доллары какие?то – исчезли. Я начал требовать, чтобы мне все вернули, но Тихонов меня увел.
В Москве я прошел медицинское освидетельствование. Но дело не в этом. Я понял, что попался, – аморальная личность! По всем статьям я на крючке, и про меня можно писать теперь все, что угодно. Я пошел в передачу «Человек и закон», рассказал о случившейся истории. Сотрудники поехали в Киев, провели журналистское расследование. Передача была показана по Центральному телевидению. Насколько мне известно, никто в Киеве даже выговора не схлопотал. А я получил серьезную моральную травму, я никогда не чувствовал себя таким униженным и растоптанным. Не могу сказать, чтобы этот случай стал решающим, но моему стремлению уехать он тоже способствовал. Почти до Нового года меня только и грела надежда, что зимой ЦСКА поедет играть в Америку и, как мне обещали, я останусь в «Нью?Джерси». Сезон 1988/89 года я собирался закончить уже в новом клубе.
31 декабря 1988 года мы отыграли матч в Бостоне и отправились к «Дьяволам». Три часа ехали на автобусе и оказались в Нью?Джерси перед самым Новым годом. Нас поселили в ту же гостиницу, где жил в то время генеральный менеджер клуба. Я спускаюсь из номера вниз, чтобы поздороваться с хозяином команды, с ним Дима Лопухин приехал, а со мной представитель «Совинтерспорта» Роман Дацишин, который специально прилетел из Москвы договариваться о том, на каких условиях я остаюсь. Нас с совинтерспортовцем сопровождают Тихонов и начальник политотдела ЦСКА – он был и начальником делегации. Кстати, это был первый случай, когда начальнику делегации разрешили получить деньги, как и игроку, и неплохие для того времени – порядка 4000 долларов он «заработал». Раньше мы сами собирали деньги начальникам делегации, ходили по кругу, чтобы они получили наравне со всеми, и они в какой?то степени были зависимы от нас. Но это было неофициально, а здесь в первый раз – распишись и получи! Компьютеры и шубы он закупал вместе с нами, в общем, хорошо съездил начальник политотдела. Но дело не в этом. Володя Крутов одну игру пропустил, у него мышцы бедра так «забило», что он даже ходить не мог. Доктор приходит к нему в номер: «Тихонов сказал, чтобы ты завтра играл». Вова отвечает: «Доктор, я же не двигаюсь». – «Не знаю, он сказал, чтобы ты играл». Крутов на лед не вышел, и с него сняли деньги за пропущенный матч, хотя все прекрасно понимали: если б Крутов хотя бы на тридцать процентов мог играть, он бы играл, он боец. А начальник политотдела получил все деньги (он ничего не пропустил) и оказал полную поддержку Тихонову.
В этот новогодний вечер в очередной раз решалась моя судьба. Сидим разговариваем, Дима переводит. Он мне тихонько говорит: «Сейчас перед ужином у хозяина будет разговор с Тихоновым и с начальником вашей делегации, мы тебе позвоним в номер, присоединишься к нам в ресторане». Они ушли на переговоры, часа через два звонит мне Дмитрий: «Спускайся». Встречает меня в холле и говорит: «Они тебя здесь не оставляют. Тихонов сказал, что ты должен вернуться в Союз». С этой минуты я понял, что началась война.
Глава 3. Война за независимость
Мое желание играть в НХЛ вызвало в СССР большой скандал. Многие знакомые мне говорили: «Поспешил ты, Слава, со своими обвинениями, уехал бы чуть позже, зато без шума». Не раз я задним числом анализировал ту ситуацию и с полным убеждением могу сказать: ничего бы у меня не вышло, не смог бы я уехать так, как хотел, как было правильно – с почетом и добрыми напутствиями, если бы попытался договориться обо всем втихую.
Наглядный пример – история с Владимиром Крутовым.
Его отпустили в Канаду сразу после моего отъезда, все бумаги быстро подписали; отдали в «Калгари», даже не уволив из армии. Уже поэтому все разговоры о том, что приказ о нашем увольнении из армии чуть ли не вот?вот должен быть подписан Язовым, были просто разговорами.
Крутова продали за большие деньги, отправили за океан. Поначалу ему пришлось очень нелегко. Помимо тех же проблем, с которыми столкнулся я (о них дальше подробно расскажу), у Крутова еще и семья оставалась в Союзе, вроде бы как в заложниках. Ему сказали: ты уезжаешь, не уволившись из армии, мы не можем по закону оформить документы на семью. Володя нервничал, семья волновалась. Не сомневаюсь, что эта история наложила сильный психологически негативный отпечаток на его игру. Не надо забывать, что первые бытовые трудности (переезд в Америку – начало совсем другой жизни) Крутов переживал в одиночестве, без опоры. Целые вечера без друзей, без языка, а значит, и без телевизора немалого стоят. В конце концов в середине сезона Крутов взял за свой счет отпуск, что в НХЛ делается в самых крайних случаях, поехал увольняться, чтобы вернуться с семьей в Канаду.
Для меня уже стало очевидным, что я буду сталкиваться с постоянным враньем, поэтому я и решил: надо действовать публично, тем более такая возможность в то время появилась. Шел расцвет эры горбачевской гласности, можно было открыто, через прессу и телевидение, говорить обо всем, поэтому моя борьба развивалась на глазах у всей страны. Вырезок из газет и журналов, видеокассет с фрагментами программ я привез в Нью?Джерси гору. Война получилась открытой, но стоила мне половины жизни.
Начало моего противостояния с Системой положили долгие разговоры с чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым. Тогда и началась наша дружба, которая продолжается по сей день. Гарри сказал: «Ты тот человек, который может открыть советским спортсменам дорогу на Запад». Ведь ни законы, ни Конституция Советского Союза никому не запрещали уезжать за границу, работать и получать те деньги, которые записаны в контракте. Но помимо законов существовали десятки инструкций, пройти через которые, казалось, не хватит никакой силы духа и запасов терпения. Гарри предложил: «Давай соберем хорошую бригаду из молодых перспективных адвокатов по советскому и международному праву, для того чтобы сделать твой отъезд абсолютно законным». Первый разговор с Каспаровым состоялся у нас осенью 1988 года. Через неделю я ему позвонил: «Гарик, меня вроде бы отпускают, так что сейчас ничего предпринимать не будем. Обещают, что я поеду в Америку и там уже в НХЛ доиграю сезон». Каспаров мне пожелал удачи. Как же я был наивен! И когда я наконец понял, что никто меня никуда не собирается отпускать, я выступил в прессе. Теперь дороги назад у меня не было, и я вновь позвонил Гарику.
Так началась работа «по открыванию дверей на Запад». И это была уже борьба за права человека.
К сожалению, слишком много глупостей было сделано за время бессмысленного ожидания. К ним относятся и переговоры с американским импресарио югославского происхождения Малковичем – еще одно несчастье в моей жизни. Мой друг Лев Орлов пытался посодействовать мне с отъездом и как?то раз сказал, что есть импресарио, который долгое время работает с известными советскими музыкантами и может помочь сделать юридически правильный контракт. Я заинтересовался, мы встретились с Малковичем. Лева немного говорил по?английски, я знал двадцать слов, а Малкович что?то понимал по?русски. В общем, все выглядело так, будто он согласился мне помочь выехать в США. Контракт с ним был нужен только формальный, но в него Малкович почему?то вписал себе 25 процентов от суммы моей сделки с «Нью?Джерси». Вариант этот был нечестный, потому что столько никто из агентов не брал, но откуда я мог про это знать? Малкович еще обещал найти работу жене и заняться устройством нашей жизни в Штатах. Он очень хотел, чтобы я подписал этот контракт, но там существовал и такой пункт, что если Малкович обратится к «Совинтерспорту» или в Спорткомитет за помощью, то наш контракт автоматически расторгается и он должен будет помочь мне выехать как частному лицу. В итоге через несколько лет Малкович в Нью?Джерси судился со мной, и суд стоил мне больших нервов и денег, но я об этом не жалею. Думаю, что не много найдется русских в Америке, которые выигрывали там суды против американцев. Одно это убеждает меня, что я был абсолютно прав.
Но вернемся к началу одного из самых трудных годов в моей жизни.
Январь 1989 года. Мы прилетели после суперсерии из США в субботу. В понедельник перед тренировкой я сказал Тихонову и второму тренеру Михайлову, что играть за ЦСКА больше не буду, и написал рапорт об увольнении.
Уже третий. Меня отправили к руководству армейского клуба на разъяснительную беседу. На следующий день в «Московском комсомольце» напечатали мое интервью «Я не хочу играть в команде Тихонова». Даже для эпохи гласности это оказалось слишком круто. В стране к такой откровенности еще не привыкли. Меня вызвали в политотдел ЦСКА, потребовали, чтобы я написал в газету опровержение, где бы извинился перед Тихоновым. Я отказался, и мне приказали с завтрашнего дня в военной форме являться каждый день в отдел спортигр ЦСКА на работу. К этому отделу я был приписан, там получал зарплату. Я и появлялся там каждое утро на протяжении полугодового противостояния. А куда денешься? Я же офицер Советской армии. К Юрию Александровичу Чабарину, моему первому тренеру, приходил, катался у него с детишками. Потом вижу – начальство на него стало косо смотреть. Зачем, думаю, человеку создавать сложности? Начал кататься с любительской командой карандашной фабрики, они раз в неделю арендовали лед на «Кристалле», в Лужниках. Кстати, фабрику построил в Москве любимец всех советских руководителей от Ленина до Брежнева – Арманд Хаммер. Потом ее отняло у Хаммера родное советское государство, подарив ему за это, возможно, очередного Рембрандта из Эрмитажа, и назвало фабрику «Сакко и Ванцетти» – именами двух американских рабочих?социалистов, казненных в Штатах в начале века. Так что очень отдаленно, но это уже приближало меня к Америке.
ЛАДА: Страшным был первый день, когда вышло его интервью. Точнее, не то чтобы страшным, а каким?то необычным…
Даже когда Славы нет дома, телефон у нас звонит постоянно, без конца передают ему приветы знакомые, приятели, друзья. А когда Слава дома, телефон просто «раскаляется» от звонков. Пробиться к нам всегда была большая проблема. Самое интересное – и в этом весь Слава, – я даже не знала, что он дал такое интервью, мне он не сказал ни слова. Мы проснулись утром, впервые, наверное, не из?за телефонного звонка. Слава поехал в ЦСКА. А звонков нет – тишина! Он скоро вернулся, может, через час. Тишина. Нет звонков. Вот так мы весь день в тишине и просидели. Я несколько раз подходила к телефону, проверяла, работает ли он. Пару раз позвонили наши общие друзья – люди, которые к хоккею никакого отношения не имеют. Потом он мне все же рассказал, что вышла газета с его интервью. Наконец кто?то принес нам эту газету. Все стало понятно. Помню такое ощущение, хотя прошло уже много лет: казалось, выйдешь на улицу – на тебя все пальцем начнут показывать. Славе было очень тяжело, но я знала, что ему нельзя уходить в себя, и старалась выступать в роли затейника. Я пригласила в гости друзей, устроила ужин, пыталась вытащить его в кино. Но Слава смотрел фильм, а я прекрасно понимала, что он занят своими мыслями. Его заставили носить форму. В ней Слава был такой смешной: у него голова большая, и офицерская фуражка на ней, как беретик на затылке. Он ее и так пристраивал, и сяк. Самое забавное, у него своего обмундирования не оказалось. Он «дослужился» до майора, а последний раз ему выдали, кажется, лейтенантскую, к этому времени узенькую для него форму. Все это смотрелось на нем невероятно смешно. Однажды он сказал, что назначен дежурным по ЦСКА. Я всем знакомым дала номер телефона, звоните, если хотите услышать: «Дежурный по ЦСКА майор Фетисов слушает!» Первое время меня не трогали, но потом, когда они поняли, что Слава не изменит своего решения, начали пугать отправкой в далекий гарнизон. Слава – человек, который словам своим не изменяет, и если он принял решение, то не скачет с ветки на ветку. Какие бы я ни устраивала слезные представления, если мне что?то не нравилось или хотелось, – все бесполезно. Если мой муж принял решение, то он его принял. Его поддержали родители. Хотя мама плакала все время, но отец ему доверял, по крайней мере не посылал извиняться или валяться в ногах у руководства ЦСКА и армии. А я ему говорила: «Не волнуйся, Слава, люди же везде живут. Ничего страшного. Ну что теперь делать? Поедем, если пошлют». Конечно, давление было ужасным. Если его вызывали и ругали, то мне звонили и очень ласково со мной говорили. Такое впечатление, что у них служили офицеры – специалисты по общению с женщинами. «Вот вы поймите, – пели провокаторы из Советской армии, – вы же такая девушка интересная, привыкли к хорошим условиям жизни. А ведь Слава майор, мы отправим его на самую дальнюю точку, на самую северную, будет там командовать батальоном. Про хоккей он забудет, конечки на гвоздик повесит. А вы привыкли к ванне и душу, вы даже не представляете, как там, на дальней точке. Там ведь горячей воды нет и туалет на улице». Я как пионер: «Ничего страшного, я на Урале родилась, у меня там родственники остались, валенки пришлют, будем в них ходить». Пару раз позвонили, но, видно, поняли, что от меня ответа «нормального» не дождутся, что влиять я на Славу не собираюсь, и перестали агитировать. Могли, конечно, если бы у Славы такого имени не было, что?нибудь устроить. Вот форму на него надели. А какой он военный? Он и оружия в руках не держал никогда.
Слава переживал, что его тренироваться на лед в ЦСКА не пускали. Он сидел, стучал по креслу кулаком так, что отвалилась ручка, все не мог никак успокоиться: «Я же с восьми лет там, я в этой школе вырос». Не то что с командой, а просто покататься не пускали. Он был как персона нон грата, его вычеркнули из всех списков, кроме армейских кадровых.
До того момента, пока я не оказался вместе с Ладой в самолете, летящем через океан, честно скажу, не думал, что меня выпустят. Игорь Ларионов и Сергей Макаров где?то на полпути «спрыгнули с поезда», согласились на условия «Совинтерспорта». Мне они сказали: «Слава, борьба – это хорошо, но мы уже больше не можем». Федоров и Могильный, глядя, как меня, капитана, мурыжат, просто убежали в Америку. Трудно пережить то, что ты после всех почестей оказался изгоем. Поэтому я никого из ребят не осуждал – ни молодых, ни ветеранов. Не знаю, устоял бы до конца и я, если бы не поддержка Лады. Я приходил домой после целого дня издевательств и унижений, после ежедневных проработок армейских комиссаров. Каждый день начинался для меня с заявлений, что я сволочь, предатель, меня Родина и армия сделали человеком, воспитали, а я обидел Тихонова, команду, клуб и Родину, которые мне столько дали. А вечером я вижу человека, который меня полностью поддерживает и понимает, который со мной готов идти на все. В один из самых трудных дней я пришел домой, рассказал, что со мной делали, посмотрел Ладе в глаза и в тот же вечер сделал ей предложение. Я ее спросил: «Ты не обидишься, если мы поженимся как можно скорее?» По закону же полагалось месяц ждать, но мы нашли знакомых, они договорились в ЗАГСе.
Это было 15 марта 1989 года. К этому дню война за выезд продолжалась уже почти год.
Март 1989 года. Каждый день меня вызывали в политотдел, сажали посредине комнаты, в три угла вставали три полковника, политические начальники армейского спорта. И начинали мне долбить, что я предатель, как я посмел, и дальше как по нотам. Они вызывали меня на конфликт, ждали, что я сорвусь. Признаюсь, были минуты, когда тяжело было сдержаться. На парт?собраниях полоскали регулярно, наконец в Главпур повезли, там уже по углам сидели генералы. «Извинись перед Тихоновым, возвращайся в команду, мы все простим, забудем, дадим тебе должность полковничью». В начале марта меня вызвали в один из «больших кабинетов» Министерства обороны и тоже попросили забрать рапорт. Похоже, я стал единственной проблемой Советской армии. Я тут же написал свежий. Четвертый. Говорю: «Я хочу уйти из армии». Они отвечают: «Ты здесь у нас пропадешь, в Америку не уедешь, это мы тебе обещаем на сто процентов». Я объясняю, что уже не хочу никуда уезжать, только увольте меня из армии, тем более в ней сейчас идет сокращение, а я не хочу занимать чужое место, пускай те люди, которые отдали жизнь армии и дорожат ею, получают мою ставку. Два часа меня то пугали, то соблазняли. Тихонов сидел все это время в соседней комнате. Результата он не дождался, куда?то ушел, а со мной продолжали маяться. Три генерала (двое из них были заместителями Язова) убеждали и пугали хоккеиста!
К тому времени мне разрешили тренироваться с командой, правда, в пятом звене, с молодежью. Наверное, думали, что рано или поздно я все же сломаюсь. Но на всякий случай поставили в известность, что мне не разрешат играть, пока я не извинюсь перед Тихоновым и клубом. Неделю покатался, и меня снова отстранили от команды. Больше я с ЦСКА на лед не выходил. А в прессе царила неразбериха: одни писали, что я негодяй, другие (их было куда меньше) – что я герой. Я же за несколько месяцев постарел, наверное, лет на десять – непроходящее состояние стресса. Все люди из числа спортивных и других начальников, кого я знал, мне сочувствовали, но никто в мою проблему не вмешивался. В основном все с интересом наблюдали, чем моя война закончится…
Но вернемся в Министерство обороны. Итак, после двух часов «беседы» с генералами я не забрал рапорт и отказался виниться. Один из них вышел, потом возвращается и говорит: «Нас министр ждет. Хотя он очень занят, но эта проблема его волнует». Мы пошли: три генерала, вновь появившийся Тихонов и я. Везде охрана. На мне парадная офицерская форма с орденами. Ввели. Кабинет огромный, как футбольное поле. Министр обороны идет мне навстречу и сразу с матом: «Почему стоишь не по форме?» А я никогда «по форме» не стоял, я не знаю, как это делается, и в кабинет министра вошел как человек штатский: одна рука была в кармане да еще волосы длинные. Министр, наверное, чуть с ума не сошел.
Язов кричит, что я за доллары в Америку продался и все остальное в том же духе, про Родину, про мать… Я отвечаю, что служил верой и правдой, что долгов перед клубом у меня нет и прошу только одного – уволить меня из армии:
– И вы, товарищ министр, по закону обязаны выполнить мое желание.
– Я не то что тебя уволю, я тебя сошлю… – грозит мне министр и Маршал Советского Союза. Потом обещает полковничью должность и двухкомнатную квартиру, только бы я забрал рапорт.
Я говорю: «Нет».
Опять стал пугать.
– Зачем едешь? – кричит министр.
Отвечаю, что у нас в ЦСКА критическое положение, еду заработать деньги, чтобы помочь команде.
– Как? – удивляется министр. – Мне говорили, что это самая благополучная команда в армии, что у нее все есть, аж в избытке.
– Да, – поддержал меня Тихонов, – у нас кое?чего не хватает.
– Сколько надо?
– Двадцать тысяч долларов, – не раздумывая говорит Тихонов.
– Нет, – говорю я, – пятьдесят.
– Ну ты наглец, – делает вывод министр и звонит финансистам: – Найдите для нашей футбольной команды пятьдесят тысяч долларов.
– Товарищ министр, не футбольной, а хоккейной, – вмешиваюсь я.
– Тьфу, б…, хоккейной. – Потом спрашивает: – Батька у тебя живой? Сейчас бы мы с ним штаны с тебя сняли и жопу надрали.
– Товарищ министр, я же взрослый человек.
– А ты что, батьку не слушаешь?
В общем, Язов сказал, что через месяц, если я не приползу и не заберу свой рапорт, он меня уволит, но никакой Америки мне не видать, слово маршала. И выгнал меня из кабинета, а Тихонов с генералами остались.
По закону он имел право не давать ответа еще месяц.
В Министерстве обороны мне действительно было очень страшно. Но в кабинете Язова я решил, что, если сейчас не сломаюсь, дальше мне будет легче, а если отступлю, то меня сразу смешают с дерьмом и растопчут. И почувствовал какое?то внутреннее облегчение, на душе сразу стало легче, хотя ничего хорошего мне сказано там не было.
Заканчивался чемпионат Союза, сборная начинала подготовку к чемпионату мира, который в том году проводился в Швеции в конце апреля – начале мая. Я пришел на последнюю игру первенства страны. После нее мне надо было ехать в Останкино, друзья организовали мое выступление во «Взгляде», безумно популярной тогда телепрограмме. В этот же день игроки сборной подписали письмо, чтобы меня вернули в главную команду страны. Подписали Сергей Макаров, Игорь Ларионов, Володя Крутов, Слава Быков, Андрей Хомутов и Валера Каменский. Мой многолетний друг и напарник Касатонов не подписал.
Ребята перед игрой спрашивают меня, что я буду вечером делать. Я им: «Смотрите сегодня меня во „Взгляде“».
Не помню, Макаров или Крутов сказали, что тоже хотят поехать в Останкино. Но Тихонов от кого?то об этом узнал и сразу поменял расписание. Вместо того чтобы всем разъехаться по домам, а назавтра встретиться в Новогорске на сборах, ребятам объявили, что все отправляются ночевать в Новогорск. Народ стал возмущаться: «С какой стати? Вещей с собой нет, ничего же не собрано». «Завтра утром, – говорит Тихонов, – поедете домой, баулы соберете. А сегодня все как один – отдыхать после игры в Новогорск». Но ребята твердо решили остаться со мной. Андрея Хомутова и Валеру Каменского мы отправили в Новогорск, а лучшая в мире тройка нападения в тот вечер выступила в прямом эфире, поддерживая своего защитника. Отвечая на вопросы Влада Листьева, ребята подтвердили, что без меня в Швецию не поедут. «Взгляд» смотрела чуть ли не вся страна, и наше появление, наверное, произвело фурор. Ночью из Останкино ребята отправились в Новогорск. На следующий день Тихонов кричал на них, но дело было сделано.
Меня на сборы никто не приглашал. Ребята потому и поехали на телевидение, что до этого надеялись: Федерация включит меня, капитана советской команды, в ее состав. Но этого не произошло. В день последнего тура первенства СССР прошло заседание тренерского совета, где утверждались кандидаты в сборную на чемпионат мира 1989 года, но про меня никто не вспоминал, хотя ребята, сильнейшие игроки команды, заранее написали письмо в Федерацию, в тренерский совет, в котором заявили, что без меня на чемпионат не поедут. Члены тренерского совета решили, что им прислали ультиматум, и церемониться не стали: все поедут туда, куда им скажут. В итоге они добились того, что мы выступили во «Взгляде» и скандал стал известен всей стране.
На следующий день позвонил Вячеслав Колосков: «Приезжай в Новогорск. Будет общее собрание команды, будем решать твою судьбу». Я сказал, что приеду. С Колосковым я последний раз до этого разговаривал после интервью в «МК», когда он спросил: «Зачем ты это сделал? Тебя бы и так отпустили». Я ответил, что он не до конца в курсе ситуации и что я надеюсь на его поддержку. Но Вячеслав Иванович мне сообщил, что я уже себя «закопал» этим письмом. Мне оставалось только сказать: «Приятно слышать такое мнение от руководителя советского хоккея». Больше я с Колосковым не разговаривал. И вот звонок…
Утром в Новогорске на базе сборной устроили собрание команды. Корреспондентов наехала туча. Команда сначала собралась без меня, я сидел в холле, потом меня пригласили в зал, и началось голосование. Большинство проголосовало за мое включение в команду, но человека три?четыре были против, и Тихонов в том числе. Колосков объявил: «Команда проголосовала за то, чтобы вернуть тебя в сборную Союза. Но, как считает старший тренер, у тебя есть три недели на то, чтобы восстановить форму. Если ты не будешь готов, естественно, никуда не поедешь». Я встал: «Спасибо, ребята, за доверие. Постараюсь подготовиться».
Начались сумасшедшие три недели. Я пахал, как никогда, чтобы ребят не подвести, чтобы разговоры прекратились и чтобы самому не опозориться. Я не сомневался, что через три недели более или менее наберу форму и они возьмут меня. А вдруг я провалюсь на чемпионате мира? Какую же я тогда дам пищу для разговоров! Момент был самый ответственный, я прекрасно это понимал и вкалывал как умалишенный. Слава богу, команда сыграла неплохо, выиграла чемпионат, а меня назвали лучшим защитником первенства мира?89.
Правда, накануне открытия чемпионата произошла еще одна история. Сережа Макаров после моего отлучения был выбран капитаном ЦСКА и, естественно, сборной. Но по традиции перед началом матчей выборы капитана проходят заново. Конечно, я мог в них не участвовать, но подумал: пусть ребята решают все до конца. Я ничего против кандидатуры Сергея никогда не имел, он отличный парень. Мы с шестнадцати лет вместе, настоящие друзья, и роль его в моем возвращении в сборную – огромная. Но тут же, как только я объявил об участии в голосовании, между нами начали вбивать клин: вот, мол, ты, Сережа, сделал для него доброе дело, а он, вместо того чтобы отказаться от капитанства, устраивает цирк. Я же считал, что, если меня вдруг выберут капитаном, это будет не только почетно и приятно, но и докажет мою правоту. Но я совсем не подумал о том, что Сергея могут обидеть эти выборы. Теперь каюсь, что невольно задел его самолюбие.
Приехали в Швецию, капитан сборной еще Макаров. Перед товарищескими играми мы не стали выбирать капитана, не стали этого делать и в Москве, накануне отъезда, а решили устроить выборы сразу в Стокгольме. Начали голосовать. Обычно голосовали открыто, но на этот раз – тайно. В президиуме – Юрзинов, Тихонов и Дмитриев. Собрать записки должны были от 22 игроков и 3 тренеров. Итого двадцать пять голосов. В президиуме прочли записки, а потом «опомнились»: «Подождите, здесь наших голосов еще нет». Добрасывают еще две бумажки, по?моему, от Тихонова и Юрзинова. Результат: 12 за меня, 12 за Сергея и один воздержавшийся. Давайте, говорят, проводить второй тур. Страна тогда только дорвалась до свободных выборов, выбирали всех, включая директоров заводов, так что мы шли в ногу со временем.
В конце концов я набрал больше голосов. И накануне открытия чемпионата мне пришили на майку знаменитую букву «К». Во всем мире слово «капитан» начинается с «С», а у нас – с «К». И это среди наших соперников на первенстве мира всегда было предметом бесконечных шуток. Мне и сейчас говорят: «А что ты на Кубке мира «К» на себя не повесил?» Я отвечаю: «Времена меняются». А они: «Жаль. Так было экзотично»…
Апрель 1989 года. В Стокгольме все сложилось, казалось бы, хорошо, играла команда прекрасно, выиграла, и я, как уже говорил, был отмечен. В Швецию приезжал Лу Ламарелло и предложил мне прямо из Стокгольма улететь в США, но я стоял на своем: «Нет, я должен вернуться домой и уехать в Нью?Джерси из Москвы». Зато Могильный мучиться, как я, не стал и после прощального банкета утром исчез. Шумиха получилась большая. В Шереметьево из?за этого нас встречали самые разные люди, в том числе приехал и замминистра обороны, фамилию его уже не помню. Я подхожу к нему и говорю: «Товарищ генерал, министр через месяц должен меня уволить из армии, если я не одумаюсь. Так вот: я не одумался, встреча с Язовым была 13 марта, а сейчас уже май. Может, у вас есть какая?то информация?» Замминистра отвечает: «Мы тебя и не собираемся увольнять. Смотри?ка, опять здорово играешь, капитан сборной, чемпионат мира выиграл, лучший защитник. Нечего тебе из армии увольняться». Я: «Товарищ генерал, это плохая шутка. Министр дал слово и, как я понимаю, должен его держать». Генерал смотрит на меня так, будто глазами расстреливает. «Ну ладно, – говорит, – если ты так настаиваешь, мы тебя уволим». В это время Макаров подходит: «Вы меня тоже обещали после чемпионата мира отпустить». – «Сережа, тебя?то мы никак отпустить не можем, ты будешь у нас еще долго играть». Сережу такая новость, естественно, «окрылила». Крепостное право! Сейчас эта история даже мне, ее главному герою, кажется дикостью. Как же легко все забывается, а ведь еще и десяти лет не прошло. В какой еще стране мира офицерские погоны означали рабство?
Сразу после приезда прошло у нас в ЦСКА собрание, обсуждали поступок младшего лейтенанта Могильного. У большинства ребят бегство Саши за океан вызвало не то что поддержку, но молчаливое одобрение. Когда нас попросили дать оценку поступку Могильного, я сказал: «Он правильно сделал. Он решил больше не терпеть унижений. Даже после победы на Олимпийских играх старший тренер его по печени молотил». Тихонов тоже присутствовал на собрании. «Что ты выдумываешь!» Но этот факт действительно имел место. Мы играли в Калгари последнюю игру с финнами, до них победили шведов и досрочно, за тур, стали чемпионами Игр. И теперь если выигрываем у финнов, то шведы – вторые. Если проигрываем, то финны – вторые. Нам что так, что этак – все едино. Но провели собрание команды и постановили, что мы должны Олимпиаду закончить без поражений. Однако ребята уже расслабились. Эмоциональный фон у всех разный, и какие?то ошибки в последней игре, конечно, они допускали. Ничего необычного в этом нет. А Тихонов суетился перед нами, как умалишенный, нет чтоб сесть на трибуну, отдохнуть. Ему хотелось все игры выиграть, все до одной, чтоб не смазать, как он сказал, выступление олимпийской команды. Ну что там смазывать, когда золотые медали мы уже завоевали и об этом будут знать все. А кто помнит счет последней, ничего не решающей игры? Но мы же максималисты, мы должны все у всех выиграть. Одну шайбу по ходу матча мы проигрывали, так одну, по?моему, и проиграли. Могильный то ли ошибся, то ли не сменился вовремя. Тихонов так орал, что Саша сказал ему: «Что вы кричите, мы и так золото выиграли». «Ах ты, щенок!» – завопил Тихонов и сзади ему по печени врезал. Могильный убежал из Дворца сразу после награждения, нам уже не до веселья, мы всей командой его ищем, а он залез на самый верх дополнительных трибун, которые выкатили на улицу. Мы бегали, автобус никак уехать не мог, а парень плакал, забившись на трибуне, от обиды и беспомощности. Вот этот случай я и вспомнил.
Выступил Леша Касатонов, наш главный коммунист, сказал, что мы осуждаем поступок Могильного, он подлец и предатель. Америка – это чуждое и ненужное для нас общество. (Шел май 1989?го, а в конце того же года Касатонов сам уехал в Америку.) Собрание продолжалось, мы еще немного Могильного поосуждали, но громкого скандала не получилось. Высказывания Леши поддержки у прессы уже не вызывали. И от игроков добиться осуждения Могильного тоже не получилось. Так все и заглохло, слишком быстро менялось время. Потом уже и Могильный, а позже и Федоров объясняли свое бегство тем, что видели, как расправляются со мной. «И если такое творили с Фетисовым, то что говорить о нас», – заявляли они.
Конечно, мне понятно, что Тихонов действовал по отношению ко мне нормальными советскими методами, то есть обманом. С одной стороны, он подписывает рапорт на мое увольнение, а сам втихую перекрывает мне кислород, но внешне – отец родной, а я его любимчик, и все знают об этом. И если я начинаю выступать против него, значит, я подлец.
Начинает расшатываться прежняя система. Решением парткома стало трудно на кого?нибудь подействовать. И Виктор Васильевич прекрасно понимает, что, если он отпустит Фетисова, на советском хоккее можно поставить крест – после Фетисова уедут все, кто может. А это означает крест и на его карьере. Иногда я думаю, мог ли он просто сказать: «Слава, я тебя прошу, не уезжай, ты погубишь команду. Моя личная просьба – год продержись»? Чисто умозрительно – вопрос, конечно, интересный, особенно после того, что мне наобещали и не выполнили. Я, кстати, не забывал, что у меня может и не быть второго шанса. Вряд ли, поиграв еще годик?другой в ЦСКА, я был бы нужен в НХЛ. Вот почему, даже если представить, что Виктор Васильевич вдруг произнес бы эти слова, надо все равно рассматривать ситуацию в целом.
Когда начались награждения, а за ними речи про национальное достояние, стало ясно, что я попал в такую машину, где я всего лишь винтик. Никогда не думал, что могу превратиться в эту маленькую деталь. Великие игроки Михайлов и Петров ушли со скандалом, мне это не нравилось, но я никогда не думал, что подобное случится и со мной. Есть в нас глупая вера в то, что беда другого тебя не должна коснуться. И вдруг ты понимаешь, что тобою крутят как хотят. Я восстал сознательно и принципиально, я хотел чувствовать себя человеком.
Нет, Тихонов никогда не смог бы попросить меня остаться, пойти на доверительный разговор – это не в его характере. На наших глазах в это же время старший тренер футбольной сборной и сильнейшего клуба страны Лобановский отпускал своих ребят. Наверное, он тоже понимал: что?то не так, если лучшие игроки уезжают из страны. Но он до интриг не опускался. Не знаю, то ли под хорошее настроение мне начальники свободу пообещали, то ли хотели заработать на мне большие деньги. Кстати, «большими деньгами» тогда считался видеомагнитофон в подарок.
Июнь 1989 года. Я уже не помню, как выглядело мое увольнение из армии. Ничего торжественного, во всяком случае, не происходило. Мне сказали, что необходимо получить «бегунок», потому что уже есть приказ о моем увольнении и нужно рассчитаться с клубом. Я начал бегать в хозчасть, в «шмотчасть» – обычная родная рутина. Например, необходимо было вернуть лосевые перчатки, которые я получил еще в детской спортивной школе. Конечно, они уже лет десять как были выброшены в мусор, промышленность такую модель давно не выпускала, поэтому полагалось что?то принести взамен. В политотделе рассчитаться… На всю беготню ушла примерно неделя. Позвонил в очередной раз Ламарелло, я ему сказал, что все – уволен.
Когда в «Совинтерспорте» узнали, что в Москву приехал Ламарелло подписывать со мной личный контракт, то срочно вызвали менеджеров «Калгари» и «Ванкувера», где на драфте числились Макаров и Ларионов. За два месяца до этих событий Каспаров, Роднина, Андрей Чесноков и я собрались вместе для создания ассоциации, которая должна была отстаивать права советских спортсменов, провели пресс?конференцию и, конечно, вызвали к себе ненависть спортивного начальства. Мы держались друг за друга, регулярно встречались, а Гарик говорил, что если мы выдержим, то сделаем большое дело для ребят, откроем им дорогу к западным контрактам, свободным от «руки» государства. «Слава бился один, – говорил Гарик, – а теперь нас четверо. Нам будет легче сражаться». 22 июня (русский человек всегда помнит эту дату) я подписал контракт с клубом НХЛ «Нью?Джерси Дэвилс» в гостинице «Россия» – в окно было видно Кремль и Красную площадь.
ЛАДА: У меня никогда не было полной уверенности, что мы уедем в Америку, потому что все так долго тянулось, столько произошло всяких событий! Даже когда Слава со Стариковым подписывали контракт с «Дэвилс», я и тогда сомневалась. Помимо ребят, собрались Гарик Каспаров, его агент Эндрю Пейдж (в его «люксе» и проходила вся эта церемония), Лу Ламарелло, Ира Старикова и я с двумя нашими юристами – Гиви Мачавариани и Федором Куниным. Сначала пошел к столу Слава, потом Сережа. Они отдельно друг от друга подписывали контракты. Это конфиденциальные бумаги, и их нельзя рассматривать вместе.
Макаров и Ларионов были рядом со мной вплоть до той пресс?конференции. Они должны были выйти с нами на сцену, но накануне отказались: «Ты извини, Слава, нам предложили пятьдесят процентов от суммы контракта, и мы согласились». В «Совинтерспорте», конечно, знали, что свой контракт я подписал самостоятельно, без участия какой?либо государственной или общественной (что в СССР было то же самое) организации. Даже тогда, в 1989?м, это выглядело как невероятный вызов властям, чуть ли не диссидентством. Поэтому в «Совинтерспорте» быстро предложили ребятам (забыв про инструкции не плодить миллионеров и не подниматься выше 20 процентов) 50 процентов, чтобы и Ларионова с Макаровым не потерять. Ребята не выдержали, согласились, а ведь у них отняли по миллиону долларов! И я остался один.
После нашей пресс?конференции началось бешеное давление: никуда ты не уедешь, никто тебя из страны не выпустит. Но через Детский фонд мы получаем паспорта и едем со Стариковыми в ознакомительную поездку в Нью?Джерси. Клуб обещал помочь Детскому фонду, и они действительно многое сделали, например, взяли на себя спонсорство группы врачей, которая отправилась на две недели в Тбилиси со своим оборудованием и провела там серию сложных операций. Губернатор штата Нью?Джерси провожал врачей, а я вручил ему майку со своим номером.
На первые деньги от контракта мы со Стариковым купили два автобуса для детских домов, а как только я переехал в Нью?Джерси, то заказал детскую форму для школы ЦСКА на сто тысяч долларов. Представители Детского фонда, чтобы не случилось никаких махинаций, сами вручали форму детям. В самый трудный экономический период школа была обеспечена.
Июль 1989 года. Вместе с представителями Детского фонда мы вылетели в Нью?Йорк. Подписанные контракты лежали в наших сумках. Принимали нас роскошно, возили по штату, показывали дома: «Где ты, Слава, хочешь жить? Выбирай!» Вечерами без конца – рестораны, приемы. И посреди этого гулянья Лу Ламарелло отвел меня в сторону: «Слава, а зачем тебе ехать обратно в Москву? Контракт у тебя есть, жена рядом. Родителей надо – родителей привезем, нет проблем. Сейчас лето, начнете адаптироваться, бумажные дела сделаете, а это займет много времени, надо получить страховку, водительские права…» Раза четыре или пять он мне предлагал остаться, но я ответил: «Нет, Лу, я должен вернуться назад и уехать из СССР легально. Я вел открытую борьбу, и, если убегу в последний момент, кем я тогда буду? Осталось уже немножко, может быть, самое тяжелое «немножко», но я считаю, что должен вернуться назад». Лу меня обнял: «Может, я о чем?то не догадываюсь, но ты какой?то странный человек. Тебя же могут не выпустить?» Я говорю: «Да, есть такая возможность». Лу совершенно в шоке: «Ты понимаешь, что у тебя здесь уже все есть? – (А мне как раз был выдан подписной бонус – чек на сто тысяч долларов.) – Для чего тебе дальше драться?» Как я мог ему объяснить свою позицию, тем более что меня не только Ламарелло не понимал? «Не хочу, Лу, чтобы мой отъезд выглядел бегством. Сколько я прошел, сколько претерпел, и чтобы в последний момент обо мне начали писать, что я затеял весь шум ради того, чтобы сбежать?» И еще я не забывал о том, что своим бегством могу «перекрыть кислород» другим ребятам, которые собирались играть в НХЛ. В глубине души жила постоянная тревога, что я им могу навредить. Сейчас это кажется смешным, но тогда еще существовали в полной силе КГБ и «выездной» отдел ЦК КПСС.
Я вернулся в Москву, где до последнего момента решался вопрос, выпускать меня из страны или нет. Надо было собрать всю волю и иметь крепкие нервы, чтобы после такого приема в Америке, после того, что ты уже все там видел и знал, что тебя ждет – какая жизнь, какой дом, зал, стадион, машина, – вернуться и добиваться этого проклятого «дембеля».
И последнее. Мне трудно говорить об этом, слишком пафосно все звучит. Но – святая правда. Да, я мог бы остаться, а потом долго торговаться с властями, сохраняя на руках советский паспорт. Но своей борьбой я открывал дорогу многим людям, а для этого моя репутация должна была оставаться незапятнанной.
Глава 4. Прощай, СССР! – How do you do, America!
Честно говоря, я до последней минуты не верил, что мы улетим… Были зарезервированы и оплачены билеты, которые из Нью?Джерси отправили в Москву на всех шестерых (мы летели вместе с Сергеем Стариковым, его женой и двумя детьми). Но мы не могли получить билеты, потому что их не выдавали без виз, а визы мы не могли получить, потому что не было на руках паспортов, хотя в посольстве США в Москве нас давно уже ждали.
Мы вылетали из Шереметьева в Нью?Йорк 13 августа около часа дня, а отдел МИДа, где нам полагалось получить паспорта, открывался в половине десятого. Из МИДа надо было рвануть в посольство, потом мчаться за билетами в кассы на Октябрьской площади. При этом отстоять все очереди (а тогда в Москве без очередей ничего не обходилось), успеть в Шереметьево, пройти таможню и улететь. Никакой Голливуд подобный боевик не снимет. Сборы мы завершили накануне – сувениры, подарки, коробки. Проснулись рано, а точнее, толком и не ложились, потому что накануне устроили вечеринку для друзей в ресторане гостиницы «Советская». Что?то похожее на проводы, хотя какие проводы без виз и билетов… Но так, на всякий случай – а вдруг!
Мы разработали такой план: рано утром наши жены едут в аэропорт со всеми чемоданами и коробками и ждут нас там, а мы со Стариковым встречаемся пораньше в паспортном отделе МИДа. К открытию туда приехали и Каспаров с Родниной, чтобы нас сопровождать. Очередь на улице колоссальная, и, естественно, чиновник, который был нужен, где?то задерживался. Гарик и Ира не выдержали и, используя свою популярность, прошли без очереди и отправились сами по кабинетам начальников. Минут через двадцать вышел какой?то человек и выдал нам паспорта, будто дефицит из?под полы. Так раньше колбасу или икру завмаги для друзей выносили из гастронома. Сунул он паспорта мне в руку мастерски, никто из очереди ничего не видел.
Я помчался в посольство, а Старому велел отправляться в билетные кассы, занимать очередь и сделать что угодно, но, когда я приеду с паспортами, чтобы он уже стоял около окошечка. Хорошо, в посольстве милиционер узнал меня и сразу пропустил. Зашел я в консульский отдел, там действительно были предупреждены и меня ждали. Быстро поставили во все паспорта визы на многократный въезд в США, которые в те времена советским людям не давались, исключая, конечно, дипломатов. Оказалось, что я прошел под первым номером (так мне потом рассказывали) как советский гражданин с многократным въездом при рабочей визе. С улицы Чайковского по Садовому кольцу жму на Октябрьскую. Слава богу, что пробки тогда в Москве не были еще такими, как сейчас, но все равно уже час пик. Наконец добрался, а Старый в кассе уже со всеми договорился. Взяли билеты, снова вскочили в машину и – в Шереметьево. Там родители и друзья уже ждали, слоняясь небольшой кучкой по залу. За пару часов мы сделали то, что в те времена было сделать совсем непросто за несколько недель. Но зато родные власти держали нас за горло до последнего момента, когда нервы уже были напряжены настолько, что дальше должны взрываться. Это не была какая?то специальная операция против нас. Нет, так обычно уезжали из Союза на Запад почти все: никто не должен был быть уверен в своем благополучном отбытии в капиталистический ад. Потому и отъезд за границу выглядел как прощание с Родиной навеки. От всей этой нервотрепки объятия и поцелуи в Шереметьеве казались слишком эмоциональными. Крутов прошел с нами до самолета через таможню, через пограничный контроль без паспорта. Мы сели с ним в ресторане зоны отлета, выпили, потом я вспомнил, что он оказался в ней без единого документа (как – остается загадкой до сих пор), и говорю: «Вова, садись в самолет, полетели с нами, если ты уже прошел границу – чего мучиться?» Но Вову с той стороны границы ждала жена.
Мы летели компанией «PAN?АМ», первым классом, сумасшедший был тогда первый класс – кресла шириной в кровать.
И только когда самолет поднялся в воздух, я понял: я выиграл эту войну.
Ничего в моем сражении за свободу выбора не было скрыто от глаз общественности и от всех руководителей – партийных, комсомольских, военных. Вся борьба велась открыто, с помощью таких аргументов, противопоставить которым можно только клевету. Не скрою, я плакал, что выиграл, я плакал от радости, от гордости, что устоял, но я представить себе не мог, как тяжело мне будет в Америке. Мечты были, как у любого эмигранта, который, уезжая в Америку, искренне верит, что там деньги на деревьях растут и не надо себя ни в чем утруждать. И мы, конечно, как и все, столкнулись с огромными трудностями в быту. Но помимо них возникли серьезные проблемы и с моей работой.
Когда мы, прилетев из Москвы, разместились в нью?джерсийском «Хилтоне», до начала тренировочного лагеря, кемпа, оставалось чуть больше трех недель. Начиналась другая война, но о ней я еще не подозревал. Просто даже представить себе не мог, что я на краю пропасти.
Последние полтора года в Москве я не задумывался, в каком же состоянии я нахожусь: в физическом, моральном, эмоциональном плане. В той гонке страшно было подумать, что ждет нас впереди, но еще страшнее было оглядываться. Не сразу, но довольно быстро я стал понимать, что начало новой жизни обойдется мне недешево. А я представлял себе, что она начнется красиво и просто. На самом же деле я как спортсмен был разрушен в лучшем случае наполовину. Я, начиная с шестнадцати лет, жил в определенной системе тренировочного цикла. Одиннадцать месяцев в году – тренировки на льду, иногда двухразовые, по строго определенному расписанию. Я это вовсе не для оправдания себя рассказываю. Я жил по четкому графику: три месяца тренируешься, перерыв, подготовка к Кубку «Известий», перерыв, подготовка к чемпионату мира, большой перерыв. Так продолжалось из года в год. Одна и та же схема. Абсолютно точные внутренние часы. Я был натаскан на определенные нагрузки, как охотничья собака?чемпион – на дичь. Если б я жил поменьше в этой системе, куда проще было бы перестраиваться, что потом доказала приехавшая в НХЛ молодежь. А у меня с семнадцати лет – уезжал я в Америку в тридцать один – вся жизнь была подчинена интересам сборной.
В советском хоккее существовало суждение, что две игры подряд, за два дня – это неправильно, нет времени для тренировок, нет времени для восстановления сил. Помню, Тихонов всегда был против, когда мы играли – обычно при выездах на Урал – два матча подряд. Выравнивался класс ЦСКА и местных команд. Часто победы делились: если выигрывали игру первую, на вторую мы уже могли и не собраться. Система тренировок в родном хоккее не была нацелена на плотный календарь. Подготовка к чемпионату мира, где игры шли через день, все равно строилась как подготовка к финальной части сезона. Даже на чемпионатах все было известно по часам. И начинали мы их всегда с разгона от самой слабой команды. То есть все то, чего нет и быть не может в НХЛ. Название одно, а игра совсем другая. В «Нью?Джерси» я должен играть две игры подряд, да еще по 25–28 минут за матч. Должен играть три игры за четыре вечера, да еще с переездами. Или пятнадцать игр в месяц. И мне платят за такую игру, более того, на меня возложены какие?то надежды хозяев клуба, и я должен их оправдать, должен тренироваться и в это же время, параллельно, восстанавливаться. А я понятия не имел, как это делается на таком временном отрезке.
Но самое главное, что я был выбит уже и из прежней системы. После Олимпийских игр в Калгари я нормально не тренировался, и для того чтобы вернуться в прежнее состояние суперзащитника, по моим подсчетам, мне нужно было восстанавливаться год или два, а может, больше. Но у меня на это не было и одной недели. Никакие занятия с заводскими командами не могли помочь мне, игроку сборной, неоднократно признававшемуся лучшим защитником мирового первенства, вернуть прежнюю форму. Когда ребята накануне чемпионата мира выступили в мою защиту, у меня было всего три недели для того, чтобы форсировать подготовку, чтобы вписаться в такую команду, как сборная Советского Союза. Но тогда во мне бушевало много задора и желания доказать свою правоту. Теперь же я оказался физически в полном минусе и только удивлялся, что уставать начал так, как никогда не уставал. Когда ты выбиваешься из привычного режима, даже вес меняется. У меня килограмма четыре оказалось лишних. Все вместе плюс незнание, как выдерживать две игры подряд, как играть три матча за четыре дня, делало мою жизнь не просто тяжелой – неописуемо тяжелой. Я никогда не знал такого сумасшедшего темпа, а здесь даже мальчишки, играя за юниорские команды, имеют где?то 60 игр в сезон. Их с детства готовят к тому, чтобы они спокойно могли «переваривать» такие нагрузки. У меня, естественно, такого опыта не было…
Когда меня уволили из армии, осталось решить последний вопрос – вызвать в Москву Ламарелло для подписания контракта. И перед приездом генерального менеджера «Дэвилс» я сам для себя придумал проблему. Дело в том, что жена защитника ЦСКА и сборной Сергея Старикова выступила в газете со статьей, похожей на крик души, – как Тихонов Хомутова к умирающему отцу не отпустил, как в то время, когда у них дети болели, Сереже не разрешили их навестить, и еще куча историй, которые не лучшим образом характеризовали Виктора Васильевича. Статья Ирины Стариковой вышла через месяц после моего выступления. Но в этом случае обошлось без шума. Парню дали доиграть сезон и «закончили», так выразился мой знакомый в Федерации. Иначе говоря, Сергея потихонечку «сплавили», уволили из армии, но рекомендовали никуда за рубеж не отправлять. Было у него приглашение в Финляндию, еще куда?то звали, но разрешения на работу за рубежом от властей он получить не мог, а другой возможности прилично содержать семью, как продолжать играть, естественно, он не знал. Однажды мне звонит Ира и просит помощи: нет ни денег, ни работы. И когда в очередной раз объявился Ламарелло, я его попросил: «Было бы неплохо, если б Стариков со мной приехал, он хороший защитник, а вдвоем будет легче начинать». Лу отвечает: «Я не знаю, кто он такой». Я объясняю, что Стариков классный игрок, бери, иначе я не поеду. «Я не могу его взять, не знаю, кто он такой». Потом перезванивает: «Я скаутов спрашивал – и они не знают, кто это». Я – конкретно: «Хочу приехать со Стариковым». Лу согласился, но велел ждать драфта, который будет в двадцатых числах июня. «Мы должны его поставить на драфт, – объяснил мне Лу, – иначе мы не можем подписать контракт. Ты никому ничего не говори, все это секрет. Если ты считаешь, что он хороший игрок, мы его берем». «Нью?Джерси» взял Старикова во время драфта. Через пару дней Ламарелло приехал с двумя контрактами.
К сожалению, игра в Лиге у Сергея не пошла. Его отправили в фарм?клуб, но и там не сложилось. У Сергея и в семье были проблемы, в конце концов Стариковы вернулись в Москву, а я остался в «должниках» у «Нью?Джерси» за неудачный контракт. Сергей сыграл в «Дэвилс» всего 10, может, 15 игр, перед тем как попасть в майнер?лигу. Ира и он вместе с ней начали возмущаться, будто я посодействовал такому финалу. Еще в Москве Ира Старикова была очень дружна с женой Касатонова, и как только в Нью?Джерси приехали Касатоновы, семья Стариковых перестала нам даже звонить. Сергей играл в «Ютике», ничего о себе не сообщал, а в это время моя жена забирала его детей из школы, потому что у Ирины начались проблемы с алкоголем. Даже в тот недолгий период, когда Сергей еще играл со мной в «Нью?Джерси», если клуб отправлялся в поездку, дети Стариковых иногда жили у нас дома.
Стариков был чемпионом мира, несколько лет играл в сборной, он двукратный олимпийский чемпион. Сергей – мощный парень, а вот почему на него скауты не обратили внимания, не знаю, мне трудно судить, но думаю, из?за веса. В «Дэвилс» Сергей тянул почти на 120 килограммов, ему тяжело было много двигаться. А может быть, сыграло свою роль и то, что Ира начала попивать, не пойму, с радости или еще с чего? Мы с Сергеем через многое прошли, но, возможно, у него не было настоящей поддержки со стороны жены, семьи, а сам он не хотел или не мог себя преодолеть. Вдруг Стариковы бурно устраивают день рождения Сергея, а в Америке дни рождения массово не отмечают. Но они приглашают всю команду домой, где официанты в белых перчатках, где бьют фонтаны из крюшона на столе, бочками пиво, десятки бутылок алкоголя. В любом клубе, точно так же как в ЦСКА, всегда есть те, кто обо всем докладывает руководству. Почти сразу после дня рождения Сергея отправили в майнер?лигу. Кто знает, может, посчитали, что человек приехал в Америку отдыхать, наслаждаться жизнью, а не «пахать». Мне Ламарелло каждый раз напоминал о Старикове. Когда я подписывал новый контракт с клубом и начинал с Лу спорить из?за денег, он так от меня отбивался: «Мы заплатили миллион долларов человеку, который сыграл всего десять игр и который ничего не показал в фарм?клубе. Нам он был не нужен, а получал больше, чем вся команда в майнер?лиге, вместе взятая».
Плюс ко всему Сергей отказался заплатить небольшие деньги – о них мы договорились с самого начала – премии для тех людей, которые в Москве работали на нас. Сергей считал, что ему дали плохой контракт, он рассчитывал на лучший. Хотя получил больше, чем Макаров или Ларионов – нападающие с мировыми именами, правда, за счет того, что они половину своего контракта отдали «Совинтерспорту».
Поверить невозможно, но, приехав в Америку, он забыл обо мне через три месяца. Тихонов его «закапывал», а он, вернувшись домой, пошел работать к Виктору Васильевичу. Во время локаута в Лиге, когда легионеры приехали в Москву, у руководства армейского клуба была одна забота – чтобы мы не играли против ЦСКА. Сергей приезжал с уговорами: «не надо играть» или «если будете играть, не надо обыгрывать». Что за сумасшедший дом? Человека выгоняют из ЦСКА – он устраивается в НХЛ, выгоняют из НХЛ – снова в ЦСКА, опять выгоняют из ЦСКА – он приезжает в Нью?Джерси, это было летом 1996?го, приходит ко мне домой и говорит: «Слава, мне нужна твоя помощь, у меня нет работы. Не знаю, что делать, чем семью кормить». После всего, что случилось, вот так спокойно приходит. Я зла ни на кого не держу, потому что знаю, есть у людей слабости, а слабости надо прощать. Но наглость, я думаю, прощать уже нельзя. Наверное, первый раз в жизни я сказал: «Сергей, у меня для тебя ничего нет, я ничем не могу тебе помочь». Правда, через пару недель я попросил Сергея Немчинова устроить Старикова тренером в его детскую хоккейную школу.
Я уже рассказал о проблемах своего физического состояния. Но удар меня ожидал еще и с моральной стороны. Мы приехали летом 1989?го. Советский Союз еще существовал, казалось, на века, и мы являлись для американцев советскими людьми, коммунистами. Я это заметил не сразу, хотя по себе знал, что нас ненавидели во всем мире. «Братья» чехи и словаки терпеть нас, хоккеистов, не могли, так же как и поляки, шведы, финны. Нас боялись (мы же всех обыгрывали), но и ненавидели. Начиная с 1972 года, когда встречи клубов из СССР и североамериканских команд приобрели более или менее регулярный характер, нас уже не переваривали в Канаде и Америке, потому что мы были советскими игроками. За все годы, что мне пришлось прожить в спорте, я знал, что меня, как советского, уважают за силу. Но за силу, которая против. И когда я оказался в одной команде с американцами, не с теми, кто вел переговоры, а с игроками, первое, что почувствовал, – неприязнь. Уже потом ребята, когда я подружился с ними, рассказывали, что еще до того, как мы появились в «Нью?Джерси», они, узнав о том, что в команде будут играть советские, заранее нас, мягко говоря, невзлюбили. Заблаговременно, ни разу не увидев, не поговорив, не пожав даже руки. Пресса в Нью?Йорке, естественно, была на сто процентов антисоветская. В ней постоянно раскручивались какие?то фантастические истории о СССР, впрочем, точно так же, как в московских газетах о США. И я здесь ощутил то же давление, что выдержал в Союзе, которого, по сути дела, в свободной стране быть не должно, а оно меня прижимало ежедневно. К такому повороту я оказался не готов. Я начал чувствовать, что этот моральный прессинг сказывается на моей игре.
Команда, куда я попал, тогда в Лиге ничем не выделялась, а уровень мастерства у игроков был далек от того, к которому я привык, играя в ЦСКА и сборной. Тренерский состав в «Нью?Джерси» менялся с необыкновенной скоростью: за пять с половиной лет, что я играл в клубе, в нем поменялось пять тренеров. Каждый приходил со своим понятием игры, со своими мыслями. Но это мне было пережить куда легче, чем ситуацию, когда партнер, который должен прикрыть меня, делал вид, что прикрывает, а потом уходил в сторону – и я получал удар в спину. Выходило, что я сражался за то, чтобы быть свободным, чтобы попасть в свободную страну, а столкнувшись с таким отношением, думал: «Для чего я здесь?» Я играл в своей стране, меня в ней почитали, меня уважали во всем мире… И вдруг для того, чтобы я получил травму или чтобы плохо выглядел, меня подставляют мои же партнеры! С подобным я никогда на льду не сталкивался. Я играл в команде, где, если возникала какая?то проблема, выходящая за рамки нашего дела, мы с ребятами могли и без тренеров собраться, чтобы поставить человека на место: или ты будешь играть так, как надо, или у тебя начнутся неприятности. Но здесь обстоятельства складываются так, что я на них повлиять не могу. Ужасное чувство: ты заходишь в раздевалку, а где?нибудь в углу смеются, и ты не знаешь, над тобой смеются или нет, потому что не понимаешь, о чем разговор, так как почти не знаешь английского. Оттого постоянное напряжение, невозможно расслабиться даже на час. Одну неделю играю прилично, две недели – спад.
Хозяин и менеджер команды относились ко мне прекрасно. Дима Лопухин был с нами постоянно как связной от офиса клуба. Бытовые вопросы, записанные в контракте, решались сразу же. Но ведь для всего, начиная от поиска дома и до покупки вилок и скатертей, нужно было время. Нужно поехать, выбрать, купить, привезти. Нас с Ладой возили выбирать дом. Предлагали всевозможные: и отдельно стоящие, и большие, и поменьше, и совсем маленькие. Мы остановились на кондоминиуме – это когда дома сложены вместе в цепочку и они за забором, с охраной, с общественным центром. Лада боялась оставаться одна, а так соседи кругом, есть к кому обратиться, если что случится. Выбрали местечко Вудлендс в городе Вест?Орандже – это штат Нью?Джерси, но в получасе езды от Манхэттена, то есть на границе штатов Нью?Джерси и Нью?Йорк. Двадцать минут по хайвею, потом через Линкольн?туннель под Гудзоном – и ты в центре Нью?Йорка. Дом нам так понравился, что теперь он наш, мы его выкупили. После сезона надо иметь место, куда можно вернуться и отдохнуть.
Выбрали дом, стали смотреть мебель, покупать миллион мелочей, а на все про все у нас получилось всего три недели. А еще надо было получить «сошиал секьюрити» (карточку социального страхования, что?то вроде нашего паспорта) и водительские права, потому что «родные» права в то время в Америке не действовали, на них нельзя было получить страховку, а без страховки нельзя ездить. С одной стороны, это приятные хлопоты, с другой – занимали время, отвлекали от главного, ради чего приехал: настроиться на то, что через две недели начинается тренировочный кемп, во время которого я должен подготовиться к сезону. Кемп – это шесть?семь дней, и сразу начинаются выставочные игры. Всего неделя, что для меня совсем несерьезно, а надо уже начинать играть, тебя хотят проверить, как ты вписываешься в новую команду. Тебя рассматривают со всех сторон в этих предсезонных играх, когда нет удалений и за грубость не наказывают, не штрафуют, как в регулярном чемпионате.
Я думаю, все упиралось в одно: я приехал из совершенно другого мира, где другая культура, другие взаимоотношения. И проблема проблем, конечно, язык. Без него ты не можешь общаться с партнерами, не слышишь, что о тебе говорят, не можешь давать интервью. Без языка ты глухонемой. Кто?то улыбается, говоря с тобой, а ты думаешь: «Что?то, наверное, не так», и чувствуешь себя дурачком. Английский язык у меня к приезду в Нью?Джерси был на нулевом уровне. Пока ездил со сборной, все, что освоил, – «привет» и «как дела». Нам сразу наняли педагога, симпатичную женщину Элен, но времени у меня свободного почти не оказалось. Иногда я раз в неделю с ней занимался, реже – два. Но базу она все же дала, а в основном пришлось учить язык, как говорят, по ходу пьесы – в общении. Крис Драйпер, мой сосед по комнате в отеле и удивительно организованный человек, был первым, кто постоянно мне объяснял все, что вокруг происходит. Потом его сменил Дагги Браун, интеллигентнейший парень, в конце концов мы с ним подружились семьями. Браун закончил колледж, исторический факультет, много знал о России, о Советском Союзе. С Дагги я играл в «Нью?Джерси» почти пять лет. Когда меня поменяли в «Детройт», Дагги уже бился за эту команду. Так получается, что мы пока все время в одном клубе.
Через три года после того, как я приехал в Америку, Дагги, парень из известной богатой семьи, подошел ко мне и предложил мне стать крестным отцом его первого сына. Я испытал настоящий шок! Я спросил, как же так, вы – католики, а я – православный? Дагги отвечает: «Я ходил к своему священнику, он сказал, что в нашей религии подобное допустимо». Церемония католического крещения намного проще нашей, но такая же торжественная. Один из дедушек моего крестника, рыжего Патрика, – хозяин «Джайнтс» («Гиганты») из Нью?Йорка, популярной футбольной команды с огромными традициями. Крестины Патрика – одно из самых приятных событий в моей жизни.
Так вот, Дагги мне очень помогал, и не только в английском языке. Он вводил меня в американскую жизнь, объяснял, как себя вести, что делать в определенных ситуациях, а его жена Моурин взяла шефство над Ладой. Но все это происходило уже к концу первого года жизни в Штатах. А поначалу нервы не выдерживали и приходили минуты, когда хотелось все бросить и уехать обратно в Москву, но я говорил себе: «Нет, ты не имеешь права это делать, иначе для чего ты прошел через весь этот кошмар?»
И все же первые полгода были мучительные, и Ладе жизнь в Америке давалась не так просто. Она учила язык по телевизору, сидела одна дома, смотрела бесконечные мыльные оперы и потихоньку по ним учила разговорную речь. Лада к языку оказалась способнее меня. У нее хороший слух, а мне медведь на ухо наступил. Люди с хорошим слухом гораздо легче воспринимают чужой язык, у Лады и произношение намного лучше моего. Но и ей было непросто, пока не нашлись друзья, не появился круг общения. Так незаметно мы прижились, и как только появился язык, все стало намного проще. Я начал разговаривать с партнерами, причем не только о хоккее – на любые темы. У них, оказывается, много вопросов ко мне накопилось, и все они висели в воздухе до тех пор, пока я не заговорил. Вдруг выяснилось, что жизнь намного интереснее, и отношение ко мне в команде совершенно изменилось.
Я не ищу оправдания: почему Фетисов в НХЛ не стал таким же героем, как в советском хоккее? Этого не могло случиться по нескольким причинам, но прежде всего из?за возраста.
ЛАДА: Первые недели или месяц после приезда в Америку мы жили в гостинице. Существование как в горячке: наконец мы сюда попали, но еще до конца не понимаем, где находимся. Языка не знаем, совершенно другой мир, другая культура, другой стиль и образ жизни. Мы жили в «Хилтоне», нас специально поселили недалеко от арены. Надо отдать должное: нас очень хорошо приняли и хозяин клуба, и генеральный менеджер. Дали переводчика, тренера по общей подготовке, Диму Лопухина, он говорил по?русски ломано, но говорил. Во всяком случае, мы понимали друг друга. Дима для меня был как соломинка для утопающего, потому что Слава – с командой, а я все время одна, с собакой. Я выводила Рэди рядом с гостиницей гулять к камышам у озера, и в один прекрасный день – около Рэди пудель гуляет, черный королевский. И гуляет он с мужчиной, который мне улыбается и о чем?то начинает со мной говорить, а я: «О’кей, о’кей», а что о’кей – сама не знаю. Мужчина что?то объясняет и на свою собаку показывает. А я в сторону и на другую сторону озера. Стыдно: взрослая женщина, а не может нормально общаться с людьми. Может быть, он с улыбкой, как у них принято, делает нам замечание? Я уже знала, что здесь абсолютно все высказывается с улыбкой. А потом оказалось, что это менеджер гостиницы, он видел, что я гуляю с собакой, узнал, что мы русские, а Слава – хоккеист, который приехал играть в «Нью?Джерси», и, чтобы наша собака не чувствовала себя одинокой в чужой стране, он привез из дома свою собаку, пусть побегают рядом. Я, наверное, неделю прийти в себя не могла. Писала письма моим знакомым, звонила и рассказывала об этой истории. А меня в Москве не понимали: «Пошла ты знаешь куда? У нас детям еду купить негде, а ты со своими собаками».
Через несколько месяцев после нашего устройства в Нью?Джерси я возвращалась после матча «Дэвилс», а так как сама еще машину не водила, то Слава попросил Дерека, нашего друга?американца, чтобы он меня подбросил домой. Рэди, счастливый, что я вернулась, рванул мне навстречу по лестнице и вдруг упал и забился в судорогах. Американец тут же схватил телефон и стал вызывать «скорую помощь» для собаки. Но выяснилось, что в пяти минутах от нашего дома есть клиника для собак. Мы завернули Рэди в одеяло, повезли к врачу, а время уже шло к полуночи. Влетаем в клинику, а там приемный покой весь в кожаных диванах, на стенах красивые картинки, в углах реклама собачьей еды, одежды.
Встречают нас две милые женщины. Одна – медсестра, другая – врач, обе в белых халатах, забирают собаку. Выходит другая девушка, садится со мной, достает блокнот и начинает задавать вопросы. Я тогда по?английски не говорила, и наш приятель мне переводил. Русский у него был явно не второй язык, но более или менее мы могли общаться. А вопросы были такие: моей собаке нравится оставаться в комнате одной – или она любит, чтобы кто?то находился в помещении вместе с ней; она любит, чтобы телевизор был включен, чтобы магнитофон играл, телефон звонил, радио работало – или предпочитает тишину; что она любит кушать: печень курицы или печень индюшки, говяжье мясо или телятину, а может, какую другую собачью еду? Пока мне задавали эти вопросы, у меня начинал ком расти в горле, потом и слезы потекли градом, они спохватились, бедненькие, вызвали вторую девушку, лекарства мне принести. Они думали, что я так переживаю за собаку. Я, конечно, волновалась за Рэди, но вспомнила, как мы с моей подружкой совсем недавно сидели в московской поликлинике с грудным ребенком. Он был весь в жару, явно с высокой температурой. Мы ждали приема с ребенком, который задыхался в кашле, сорок минут. Вокруг такие же больные маленькие дети. Медсестра вышла, сунула градусник, причем после того, как я, через полчаса ожиданий, открыла дверь в кабинет и спросила: «Вы здесь работаете или отдыхаете?» Там на лестницах сестры курят, сквозняки гуляют, кафельный холодный пол. Открытые окна зимой в Москве! Но курят, надо выветрить. Грязь неописуемая и лозунги советские, что все лучшее – детям. И когда я увидела эту собачью клинику и услышала, нужно ли Рэди радио, началась истерика.
Потом, когда меня привели в чувство, повели показывать, как моя собака уже лежит под капельницами. Объяснили, что Рэди себя уже хорошо чувствует, все нормально. У собаки был эпилептический приступ. Спрашивают историю се болезни, чем болели ее мама с папой. Через пару часов мы забрали собаку, но наутро нам звонят из этой клиники и говорят, что нужно срочно привезти Рэди на повторный анализ, потому что у нее повышенный сахар в крови. Я думала, может, я ненормальная или у меня что?то случилось с головой, а скорее всего, может, у них здесь что?то не так с головами.
Славы дома нет, команда только?только отправилась в поездку на неделю. Я позвонила Дереку, который ездил со мной в клинику, он сам не мог приехать, но связался с офисом «Дэвилс» и сказал, что мне нужно срочно отвезти собаку на анализ. Клиника – в пяти минутах езды от нашего дома, а офис «Дэвилс» – в сорока. За мной приехал лимузин, который отвез меня в клинику, ждал час и потом привез обратно домой. Самое интересное, что бедный Дерек не спал всю ночь, провозился с нами до трех?четырех часов утра, а ему утром на работу в Манхэттен, мне было неловко перед ним, и когда я ему стала говорить: «Ради бога, Дерек, извини, спасибо тебе большое», он меня остановил такой фразой: «Лада, это тебе спасибо, потому что бог и ты дали мне шанс искупить какой?то мой грех». Вот тогда я поняла, что мы не только в другой, пусть очень богатой, стране. Мы в другом мире.
Я учила язык по соуп?операм – мыльным операм. Смотрела подряд четыре соуп?оперы, с десяти утра и до часу. Как раз когда Слава находился на тренировке, А если Слава уезжал, я сидела по 24 часа около телевизора на диване, смотрела один и тот же фильм раз, наверное, по двадцать, пока не начинала понимать, о чем в нем говорят. Когда столько раз видишь одно и то же, невольно начинаешь понимать диалоги, что означает это слово или эта фраза. Я стала запоминать фразы и переносить их в свою речь. Ребята из «Дэвилс» были очень удивлены, что к зиме я уже могла им что?то отвечать. А вначале я приходила во время матча в комнату жен игроков, сидела на диване, улыбалась и думала, о чем они говорят. Чтобы не мучиться, я стала приводить в эту комнату русских, чем безумно удивила других жен, потому что это не принято. Туда, где команда, где игроки, где комната жен, необходим специальный пропуск, и никому доступа нет. По?моему, Слава был единственный в команде, кто все время просил по три?четыре пропуска. На нас, конечно, странно поглядывали, но что делать.
В команде все вместе, все общаются. Когда ребята на игры уезжают, жены звонят друг другу. Сегодня идем к одной жене смотреть по телевизору, как мужья играют, завтра у другой собираемся на посиделки. Во время моей беременности мне преподнесли сюрприз – устроили вечеринку и подарки всякие делали для будущего беби. В НХЛ сложно дружить, потому что игроков часто меняют. Вот Брауны – наши самые близкие друзья в Америке, но это же чудо, что мы в Детройте снова оказались вместе. Уже в Детройте познакомились с семьей Брошер, Лори и Крисом, он финансирует строительство. Настенька подружилась в детском саду с их дочкой Алисой. Дети любили играть вместе, ходить друг к другу в гости, и мы очень быстро сошлись с родителями Алисы. Подружились в Нью?Джерси с Рутсалайненами – прекрасные ребята. Мы много времени проводили вместе, потом в одночасье Рейо поменяли. Поначалу мы часто перезванивались, но когда Рейо с семьей перебрался в Швейцарию, звонки стали реже, раз или два в месяц. Правда, летом мы встретились. Они отправились отдыхать во Флориду, перед этим несколько дней пожили у нас в Нью?Джерси. Дружили мы и с семьей Питера Счастны, но и его поменяли, теперь общаемся по телефону: они в Сент?Луисе, мы – в Детройте. Приезжаешь, знакомишься с ребятами, а на следующий год половина команды – другая. Когда, например, Бобби Холика взяли в «Нью?Джерси», он подходит к Славе: «Мне папа говорил, что ты против него играл?» Слава отвечает: да, играл, только не надо так громко об этом. Когда приехал отец Холика, они обнимаются со Славой, а мы смеемся: «Слава, ты скоро с внуками будешь играть».
Когда мы въехали в свой дом, Дима меня отвез покупки сделать: тряпочки, полотенчики. Мы же с собой ничего из Москвы не привезли. Приехали в дом абсолютно пустой, даже спать не на чем. Нам показали, где напрокат берется мебель. Ночь провели в гостинице, на следующий день Слава поехал на тренировку, а меня привезли в дом, чтобы я показала, куда что поставить.
Когда уже осели, возникли некоторые сложности. Слава большую часть времени проводил в команде, а я оставалась хозяйкой в этом огромном доме. Пешком никто в магазин не ходит, а прав на вождение у меня нет, не было их и в России, значит, надо сдавать экзамены. Села я за руль только в ноябре, а до ноября – как под домашним арестом, пока за мной кто?нибудь не заедет, не заберет с собой. Первое время от «Дэвилс» присылали лимузин, чтобы отвезти меня на стадион, когда играл Слава. Но потом, когда мы подружились с семьей Браунов, Марина – жена Дагги – стала меня забирать с собой на стадион. Смешно, как мы общались. Первая фраза, которую я выучила, это: «Ай пик ю ап… эт сикс». Марина звонит: «Ай пик ю ап?», а я повторяю. Она: «Но, но, но. Ай пик ю ап». То есть она мне звонит по телефону предупредить, чтобы я была готова. Потом ей надоедало, что она мне объяснить по телефону ничего не может, вешала трубку, приезжала ко мне: «Я тебя с собой возьму. Хоккей». Показывала на часы. Я отвечала: о’кей. Я говорю – Марина, на самом деле – Моурин. Это Настенька так ее зовет – Марина. Моурин, молодец, помогала во всем, не жалея времени. Потом Элен Мандел, учительница английского, взялась за нас. Элен нанял клуб «Дэвилс». Она приходила раз в неделю давать уроки, при этом по?русски ни слова не знала, приносила с собой картинки, вырезая их из журналов. По ним Элен нам объясняла американскую жизнь. Первое, что мы выучили, – как в ресторане заказать ужин, как заправлять машину, как отвечать по телефону, как спросить то, что тебе нужно. Мы со Славой полтора?два часа конспектировали эти уроки. Она нам помогала весь первый год. В конце концов мы стали большими друзьями и до сих пор общаемся. Элен говорит, что тоже нам благодарна, что никогда не забудет, как она была со мной в тот момент, когда я рожала. Обычно при родах разрешено присутствие только одного человека из семьи: мамы или мужа, а для нее сделали исключение. Видеть, как рождается ребенок, по мнению Элен, – это такое счастье.
И конечно, Дима Лопухин со своей женой Терезой – наши первые помощники. Очень был смешной наш со Славой первый поход по магазинам. Мы въехали не только в пустой дом, но и холодильник в нем тоже был пустой. Вот мы впервые и отправились за едой. Магазин в пяти минутах от нашего дома. Заплатили 500 долларов, но в коляски напихали все: что поесть, чем помыть, чем постирать. Провели в магазине, наверное, часа три. И большая часть этого набора на следующий день переехала на помойку, включая все продукты в баночках. Да, еще мы увидели замороженные хвосты лобстеров! Давай купим? Давай. А как их готовить? Решили разморозить, положили в духовку, смотрю – на коробке 375 F написано, поставили 375 градусов по Фаренгейту. Сколько минут готовить – непонятно. Вытащили – резина резиной, откусить невозможно. Мы изучали гастрономию методом тыка. Зато потом, когда через год приехали Валера Зелепукин со Стеллой, Юля и Саша Симаки, я уже все знала. Подсказывала – это масло не покупай, если надо сгущенку, бери в этом магазине. У меня был самый жуткий счет за телефон. Шутили в команде на эту тему много, потому что, когда к нам пришли первый раз брать интервью, я сказала, что получила счет на 1200 долларов. Немая сцена, журналисты открыли рты. А потом прошло во всех местных газетах, что на столе у меня письма на Родину в слезах, а также телефонные счета на 1200 долларов. После таких публикаций начались звонки от болельщиков: чем они могут нам помочь? Люди приходили на хоккей и приносили нам пироги, искренне считая их русскими, потому что дедушки, бабушки у них родились на Украине. Кто?то подарил даже игрушку для собаки. Они хотели нас поддержать, за что мы им очень благодарны.
Первое время мы никуда не ходили – ни у меня, ни у Славы не было знакомых среди эмигрантов. Моя московская подруга случайно узнала наш телефон и позвонила. Это была Марина Трошина, актриса Ленкома, которая в том же году оказалась в Нью?Йорке, встретилась с молодым человеком, вышла за него замуж и осталась в Америке. Новые приятели появились в Америке благодаря Саше Розенбауму. Он приехал на гастроли с женой Леной, и они познакомили нас со своими друзьями еще по Ленинграду. Позже мы подружились с совладельцем русского ресторана «Самовар» Романом Капланом, с переводчицей Региной Казаковой, так постепенно начали обрастать своим кругом.
Трудно находить новых друзей, особенно когда тебе за тридцать, да еще в новой, незнакомой стране. Но мы удачливы, у нас здесь есть настоящие друзья.
Многие в России помнят фильм «Рожденная свободной», западное кино о львах. Так вот, надо быть рожденным свободным, чтобы чувствовать себя в Америке как рыба в воде. Мы же были рождены несвободными, поэтому мне с таким трудом приходилось привыкать ко всему. Я оказался в совсем иной общественной системе. И даже в хоккее мне следовало перестраиваться. Сначала я старался внедрить игру, которую знал досконально, – игру с «пятерками». Но я быстро понял, что ни исполнителей, ни понимания такого стиля в «Нью?Джерси» нет. Я вскоре пришел к мысли, что являться в чужой дом со своими правилами тоже, наверное, не стоит, и тогда стал упрощать свою игру. Я честно выполнял свои профессиональные обязанности и при этом старался отдавать все силы в каждом матче. Но творческого удовлетворения, как раньше, от такого хоккея я не испытывал, зато чисто профессиональные навыки легионера со временем появились. К тому же и команда начала играть намного увереннее. За пять с половиной лет, что я играл в «Нью?Джерси Дэвилс», клуб ни разу не оставался за бортом розыгрыша Кубка Стэнли. А в нашей подгруппе были такие команды, как «Нью?Йорк Рейнджерс», «Питсбург», «Филадельфия». До моего прихода «Дэвилс» за десять лет всего лишь раз попали в розыгрыш Кубка Стэнли. Но теперь команда была боеспособной, она могла играть с любым противником. И так просто мы уже никому не уступали. Правда, в плей?оффе первый раунд поначалу нам не удавался, но все игры серии проходили в настоящей борьбе. Нехватка опыта не позволяла «Нью?Джерси» переигрывать противника. Со временем пришел и опыт: команда получила хороший кубковый статус, с ней стали считаться. В конце концов «Дэвилс» выиграли в 1995?м Кубок. К сожалению, без меня: в середине сезона состоялся мой переход в «Детройт». На следующий год, когда меня не было в составе «Дэвилс» уже весь сезон, клуб не попал в плей?офф. Интересные зигзаги порой выписывает судьба.
Единственное, что было упущено, – это момент, когда я мог стать лидером обороны в команде. Через год после моего приезда в команде появился Скотт Стивенс, он и получил эту роль. Хотя я не считаю, что первый сезон в НХЛ вышел у меня неудачным, скорее всего все получилось нормально – без взлетов и падений.
Проблемы начались во втором сезоне. Через месяц после начала чемпионата я заболел воспалением легких и продолжал с ним играть. Так до конца сезона я из болезней и не выкарабкался. Второй год в Лиге отбил у меня мечту стать в НХЛ тем, кем я был в советском хоккее. Я играл только так, как требовалось команде. Я старался о лишнем не думать, выходил на лед и действовал точно по заданию. Потом мне сказали, что первого тренера убрали из «Дэвилс» из?за меня, потому что он не понимал, что происходит на площадке, когда я играю. На самом же деле я считаю, ничего у меня из того, что я хотел сделать в «Дэвилс», не получилось. В команде в то время не было классных исполнителей, которые могли бы поддержать мои идеи. Те же, с кем я играл, мне не верили. Для американца получить шайбу в центре – фантастическое событие, такому их никогда не учили. Здесь должны видеть шайбу, вброшенную защитником в зону противника – в угол или за ворота. Это делается для того, чтобы нападающего никто не мог в этот момент ударить. Поэтому понимать иную ситуацию мои партнеры были не способны не из?за тугодумия, а просто оттого, что они никогда не играли в такой хоккей. Впрочем, чтобы играть по этой системе, необходимо взаимопонимание всех пятерых игроков. Именно так получалась знаменитая «детройтская карусель», когда мы, пятеро русских, выходили вместе. И хотя Слава Козлов и Сергей Федоров моложе Ларионова, Константинова, меня, но выросли они в русском хоккее, он у них в крови.
Еще в «Нью?Джерси», года за три до «Детройта», я как?то разговаривал со шведом Патриком Сандстремом, стараясь привлечь его на свою сторону. «Это не будет работать, – говорил он, – потому что остальные не будут тебя понимать. Я здесь уже давно, так что мой тебе совет: упрощай игру, вбрасывай, выбрасывай, вбрасывай». Конечно, это смешно – люди всю жизнь только и делали, что вбрасывали шайбу, как вдруг им на голову сваливается русский и начинает перестраивать их, пытаясь заставить играть по?другому. При этом лучше, чем они, он вбрасывать в зону и выбрасывать шайбу все равно никогда не будет.
Мой внутренний конфликт в понимании хоккея накладывался в «Нью?Джерси» на тренерскую чехарду – все это не шло на пользу моей игре. Потому что каждый новый тренер приходил со своими идеями. Был один, прямолинейный, он говорил так: «Про хоккей я знаю следующее: если мы их перебили, значит, мы выиграли, если не перебили, значит – они». Он считал, кто сколько раз врезался и в кого. Но даже этот, на мой взгляд, отрицательный опыт руководства командой может помочь мне в дальнейшем, если я займусь тренерской работой.
Никакого сплава европейского и канадского хоккея в НХЛ не произошло. То, во что там играют, – это нормальный североамериканский хоккей. А в «Нью?Джерси» даже мысли о робком влиянии европейцев быть не могло. Правда, одно время, когда в команде еще играл Питер Счастны и как раз Валерий Зелепукин приехал, пара канадцев под нашим влиянием заиграла с нами в нечто похожее на этот сплав, но две?три игры сыграем хорошо, а потом нас опять разбивают. Не знаю почему. По?моему, тренеры считали, что у нас получается слишком вычурный хоккей, а игра, по их понятию, должна быть проще. Они объясняли, что так она и привычнее и понятнее зрителю, поскольку он в итоге все определяет, не будет ходить на матчи – клуб разорится. Ссылка на зрителя здесь так же свята, как у нас раньше на цитату Ленина, которую никто не знал.
Я имею право так говорить потому, что мы в «Детройте» выходили на лед «пятеркой». И выясняется, что зрителю приятно смотреть, как мы играем. Они действительно не все понимают, иногда у меня после матча спрашивают: а как так получилось, что у вас правый защитник Константинов выбежал один на один и забил гол? И мне сложно объяснить, что это идет от взаимопонимания, взаимостраховки, чему вроде конкретно не учат, а получается само собой.
В Америке тренер никогда не скажет защитнику, чтобы он постарался открыться у дальней линии, получить там пас и убежать один на один с вратарем. Я не знаю в США и Канаде ни одного тренера, который мог бы такую систему предложить на занятиях, даже в шутку. А у нас это получается, Вова в сезоне 1996/97 года убегал, наверное, раз десять один на один и стабильно забивал. Даже тренер к нам подходил: «Я все вижу, но все равно не могу понять, как вы играете?» Тренер нашей команды! А мне в этой системе намного проще находиться, я «читаю» партнера, я всегда знаю, что мне делать, партнер «читает» меня. Как ни странно, мне легче в запутанных комбинациях русского звена, чем взять шайбу и, видя, что нападающий бежит, просто выбросить ее, используя борт, чтоб он бежал дальше, соревнуясь с защитником соперников, кто быстрее дотянется до шайбы. Если я начну играть с американцами, как я играю с Ларионовым, Федоровым или Козловым, то у нас будет полное непонимание. Начнутся такие ошибки, которые в лучшем случае меня высветят как «белую ворону». Партнер вроде все делает правильно, а я не подыграл ему. Поэтому, выходя с другим звеном, постоянно надо помнить: «Куда? Зачем? Почему?» А играя со своими, казалось бы, в более сложный хоккей, чувствуешь себя намного свободнее. Острые игровые моменты проходят совершенно интуитивно.
Однако вернемся в Нью?Джерси. Мои первые ощущения от раздевалки, от своего места в ней, от новой формы – все было необычно. Все совершенно иное. Конечно, организация хоккейного бизнеса в Америке настолько была выше, чем в СССР, что нечего и сравнивать, терять время. Приходишь в раздевалку перед тренировкой – форма постирана, развешана, клюшек неограниченное количество, коньки – две пары всегда готовы. В раздевалке – баня, сауна, массажист, полностью оборудованный медицинский кабинет. Все, что нужно для дела. Шнурки тебе надо – сто пар шнурков лежит, носки – лежат кучами. И вначале это не то что шокировало, а озадачивало: почему у нас на все дефицит? Комплект тренировочный – на тренировочном катке, а в раздевалке на стадионе у нас другая форма, игровая, только коньки привозили и увозили. Идеальная работа, которую выполняли всего три человека. Формы игрок касался, только когда ее надевал и снимал. Он ее не собирал, не разбирал, не стирал. После Москвы это казалось чудом.
Конец ознакомительного фрагмента — скачать книгу легально
[1] «Известия» потом ее перепечатали, изменив почему?то название на «Я люблю Вас, Слава Фетисов». Моура долго потом кипятилась, хотела подавать на русскую газету в суд, но я ее отговорил. «Как они не понимают, – удивлялась Моура, – я тебя уважаю, очень уважаю, но я люблю своего бойфренда».
Библиотека электронных книг "Семь Книг" - admin@7books.ru