
Арена (Никки Каллен)
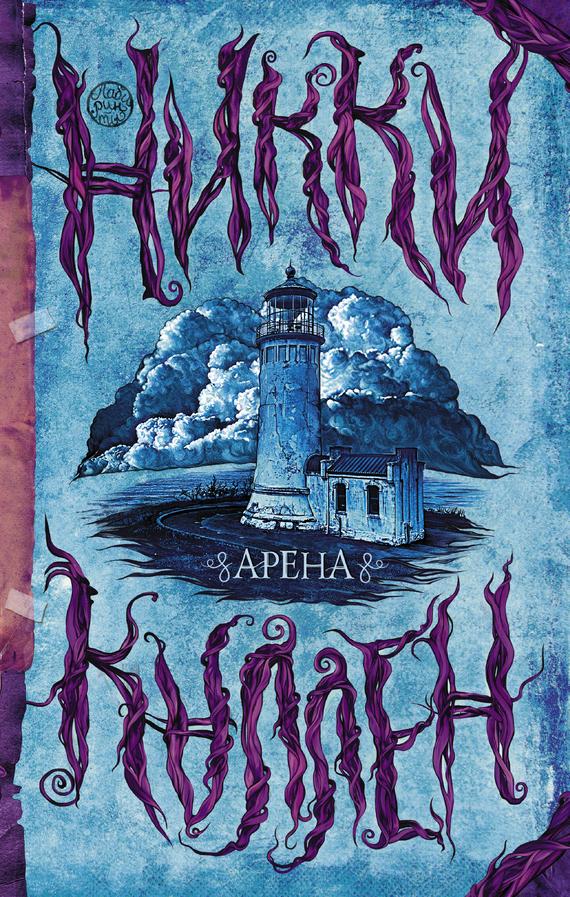
Никки Каллен
Арена
Лабиринты Макса Фрая
* * *
В 1984 году у группы Duran Duran вышел концертник под названием «Arena». На том диске, который есть у меня, десять песен. Мне всегда хотелось сказать Duran Duran, как они прекрасны. И я решила написать свою «Арену»; названия рассказов – это названия песен из альбома. Просто и концептуально, как тыквенные семечки.
Duran Duran, вы прекрасны!
Все прочие упомянутые?использованные имена, цельные или разбросанные, типа Даниэле Рустиони, Кайла Маклахлана, Венсана Касселя, Сина – это не совпадения – это все те же – тоже признания в любви.
Никки Каллен
Is there something i should know?
Мой отец был военным; окончил Суворовскую академию, «сурововскую» – как он называл ее в разговорах только для нас, «мальчиков», братьев, его двух сыновей; иногда младший брат просил его рассказать – о мечте, о решении; он зачитывался по ночам наполеоновским «Египетским походом», воспоминаниями маршала Жукова; мама вздыхала, будто роняла тяжелое, уходила на кухню, где всегда на холодильнике лежала книга Хмелевской, и курила – длинные белые сигареты, похожие на восковые свечки в православных церквях; она очень быстро устала быть женой военного; каждый переезд для нее становился не обретением, а потерей. А мы втроем оставались разговаривать; это мы умели: строить планы, прожекты по старому стилю; сидеть в креслах – их под нас тоже было три, голубых, плюшевых, с огромными, как лапы, подлокотниками, словно из мультиков медведи; «истинная сущность ваших душ», – приговаривала мама, когда в очередной раз, переезжая, приходилось тащить их на этажи. Жизнь родителей тогда казалась предметом с распродажи – ненужным, но красивым, то, что вспоминаешь, уехав надолго. А своя – белым пляжем в пасмурный день: только проснулся, отпуск, раннее утро, серая пена, выброшенные на берег ночным штормом морская капуста и отполированное стекло. Я всегда собираю такое стекло на море – гладкое, непрозрачное, – как жаль, что не это – деньги… Брат тоже мечтал стать военным; и стал; сейчас он где?то в раскаленной стране, пишет мне иногда письма, словно и не уезжал никуда – словно мы никогда не росли, не взрослели, не расставались; словно он пишет их сам себе; через времена; своему придуманному брату; как я отвечаю ему – не зная, какого цвета сейчас у него глаза. Прошла тысяча лет – двадцать восемь тысяч лет, фантастическое число, фильм «Солярис», замкнутое пространство, придуманное и повторяемое; я разошелся с женой и живу на белом пляже, сочиняю воспоминания, гуляю с собакой, боюсь ее потерять, замерзнуть сердцем. Еще здесь наступает осень, и море выбрасывает по утрам на бледный, как усталые лица, берег морскую капусту и отполированное стекло…
В год, когда брат поступил в академию – мама выкурила на кухне три пачки, я выносил мусор и сохранил одну, – мы опять переехали. Таскать кресла отец нанял грузчиков. Город был небольшой, очень старый; около тысячи лет; из такси он показался мне иллюстрацией к сказкам братьев Гримм. В несколько подъездов дом – из красного кирпича, высокие, узкие, словно стрелы, окна, словно не дом, а храм, – и всюду плющ; сердцевина лета, сирень, жасмин, отравленные короли. Я отнес документы в школу через два квартала – таких же зеленых и готических; а на обратном пути влюбился в девушку: она шла, легкая, как туман, в белом платье – абсолютно белом, хотя был конец рабочего дня, – восхищаюсь людьми, умеющими носить белый цвет, не собирая на подол и локти всю мировую пыль. Волосы у нее были темные, как и глаза – карие; лицо благородное, словно серебро, – я поймал отражение в витрине. Она заметила, что я иду за ней, улыбнулась. В руках она несла толстые, как плюшевые игрушки, пакеты из супермаркета. Я смутился и отстал; зашел в чужой двор – смотреть на красный кирпич стен столетней давности. Старушка, сторожившая на лавочке белье, рассказала, что весь этот квартал застраивался для купцов первой гильдии, – почти все они были связаны родственными отношениями, потому?то все дома одинаковые. «И кто здесь теперь только не живет, от привидений до странников»; и я ушел, рассказав в натуральный обмен основное о своей семье. Мир наполнился сказкой. Никогда он не был для меня отчаянием или страхом; не потому что я счастлив или глуп, надеюсь, – просто мне всегда хотелось говорить – рассказывать – слушать – сейчас писать – как слабость; другие любят сладкое. Когда облекаешь действительность в слова, она теряет общечеловеческий смысл – и становится твоей собственностью, как чувства, успевшие спрятаться в дневник; можно превратить во что хочешь. Вы когда?нибудь играли в «секретики»: когда роешь в земле ямку, кладешь обыкновенный фантик и сверху стекло, и закапываешь, несколько дней молчишь, а потом берешь друга и начинаешь искать, повествуя о невиданной красе? Вот что был для меня мир и что есть теперь – мое воспоминание о той осени в противовес этой – первой старой…
Я искал секрет. Разгадку и при этом – загадку. Все зашифровывал и терял ключ, потом с наслаждением, присущим глотку воды, вспоминал место и звук. Истории, реальность для которых – повод уйти в придумывание историй. Иногда мне казалось, когда я сидел в комнате, полной людей, что зашелестят крылья – огромные, как мосты, – разворачиваясь, будто веер, у меня за спиной…
У нашего подъезда тоже сидели на лавочке старушки. Их кожа напоминала мне газетную бумагу. Они проводили меня взглядами, похожими на снежки за шиворот; дома мама готовила обед.
– Люк, – меня назвали, кстати, в честь Скайуокера, – пока ты не успел скинуть кроссовки, сходи в магазин за солью, а то будете как в «Короле Лире» – страдать без любви…
Я спустился на один пролет – третий этаж – и, передумав идти в магазин, позвонил в первую дверь. Двери, кстати, тоже были одинаковыми, как белые рубашки, – сплошь подделка под черное дерево. Звонок отозвался в глубине квартиры эхом – словно там не было никакой мебели, а лишь полный зеркал танцевальный зал. Потом залаяла собака – тоже издалека; словно в квартире таились целые вересковые пустоши и кто?то охотился; а потом шаги – и дверь открылась, стремительно, как ветер в лицо, – я чуть не упал.
– Да?
Он был моих лет, ну, может, чуть старше – оттого, что глаза темнее и синева на щеках. Бледный, как вещи в сумерках; темные волосы в очень красивом проборе и с челкой, как с фотографий начала века; эдакий Феликс Юсупов. Нос и губы – как нарисованные карандашом средней твердости. Белая рубашка и черные узкие бархатные брюки; босиком. До этого я никогда не видел столь красивых людей – только та девушка в витрине – она напоминала его отражение. Собака, стройная, как туфли на шпильке, колли, запуталась в его ногах.
– Да? – повторил он. – Ты что, оглох? – будто мы прожили вместе не одну жизнь и здорово надоели друг другу – мушкетеры сто сорок лет спустя.
– У вас не будет соли?
– Соли? Которую в еду кладут?
– А есть еще какая?
– Для ванн, у меня сестра любит…
– Давайте, если не жалко.
Он смотрел на меня минуту – с тех пор мне нравятся кинофильмы, использующие молчание, как диалог; потом засмеялся:
– Ты кто? – вот так и выбираешь свою судьбу; но я не успел ответить: сзади меня раздался женский голос:
– Кароль, здравствуй, а кто этот мальчик?
Колли прыгнула сквозь меня в ее объятия – я обернулся, и это была девушка из витрины: вблизи она оказалась настоящей красавицей, словно кольцо из стекла или словарь с застежками, в перламутровом переплете.
– Не знаю; позвонил, попросил соли, не представился.
– Да, не по?английски как?то, – и я представился: – Люк, ваш новый сосед с четвертого.
– А, вы та семья военного, – сказала девушка и заволокла колли в прихожую, сняла ошейник и поводок с вешалки, полной шляп – соломенных, фетровых, с цветами, ягодками, шарфами – словно театральная гримерка. – Кароль, помоги, – парень придержал морду собаки. – А мы брат и сестра, Кароль и Каролина…
– Карамболина, Карамболетта, – спел Кароль фантастически серебристым голосом и подмигнул; пол под моими ногами превратился в стеклянный, и заплавали золотые, пурпуровые рыбы – настолько фантастическими, невероятными были эти брат и сестра, сказочными, как музыка Dead Can Dance, прикосновение к другим мирам. Потом Каролина вышла с собакой, оставив пакеты в прихожей; Кароль сел на черный, без пылинок, песчинок, словно черная дыра, ковер и стал в них шариться по?детски – в поисках интересного.
– Ничего интересного, – констатировал; я же все это время стоял у приоткрытой двери и наслаждался, словно видом из окна: сосны, водопад, Твин Пикс на краю земли. – Можешь сам посмотреть. Ни шоколада «далматинец», ни орехового масла, ни клубничного или персикового венгерского компота…
– Любишь сладкое?
– Люблю.
– Не по?мужски.
– Я не настаиваю на своей мужской природе, как перец на водке, – и засмеялся, будто кто?то поскользнулся на банановой кожуре, – а, ты же любишь соль… Селедку, наверное, винегрет, бульоны всякие… Огурцы. Все, что полезно. Морковку с чесноком…
– Слушай, ты дашь мне соль? А то мы с папой останемся без обеда.
Он неохотно встал, отряхнулся, как от воды, и ушел на кухню, стукнул шкафом, как кулаком; я не удержался, заглянул в пакеты: два палмоливовских геля для душа, бледно?желтые, как луна на исходе, банановые яблоки, черный хлеб, булочки с корицей, всякие крупы, пакеты молока, йогурты… Он кашлянул у меня над ухом – я покраснел, взял соль на белом стеклянном блюдечке и ушел; дверь за мной тяжело захлопнулась, как ворота замка за неугодным вассалом…
Потом мы ели солянку, хлеб с отрубями, кофе из жестянки; куча вещей под ногами – как камни; мама вытащила только тарелки, вилки, кружки, чайник и казанок и подключила холодильник; «мам, – сказал я, – у нас потрясные соседи снизу»; она мыла посуду; тяжелая светлая коса вокруг головы – словно старорусская дворянка; потом вытерла руки пушистым полотенцем, взяла сигарету, тонкую, как соломинка, и только тогда переспросила наконец: «что?»
– У нас очень странные соседи снизу – парень и девушка… очень красивые, с собакой?колли…
– Гражданский брак?
– Нет, брат и сестра; а что, это важно? – удивился я; ну что за уроды эти взрослые: говоришь им о цвете глаз твоего нового друга – странном, как отблеск заката на стекле, – вдруг он вампир? а они тебе: кто его родители, как он учится, куда думает поступать; а потом сам становишься таким – определенным, определяющим, как геометрия…
– Одни, без родителей?
– Да вроде, – в одном городе у меня были знакомые без родителей – два брата, Марк Аврелий и Юэн; их мама умерла от рака, отец не выдержал без нее – застрелился, но они никогда не говорили об этом; я учился с Марком Аврелием в одном классе, он был старше брата на шесть лет – учил его пить, курить, читать древних философов; в их квартире тусовался весь город. – Но они не маленькие…
Тут раздался звонок, как по сценарию, и пришла соседка – тоже знакомиться; с тортом собственного приготовления; «ваш сын?» «да, старший, Люк, второй, Ган, уехал учиться в суворовское» «боже, что вы говорите, это так необычно, а у меня две дочери?близняшки»; поставили чайник, уселись у окна, как куры на насест; «над вами живут Албарны, очень хорошая семья; он, правда, выпивает частенько, но работа такая – своя автомастерская; руки золотые, всю мебель в доме сам сделал, мать – библиотекарь в тюрьме, представляете; очень красивая женщина; у них тоже двое сыновей… А под вами…»
– Люк сказал, какие?то брат и сестра без родителей, – они обе вдруг глянули на меня; я ел торт и тупо покраснел, словно своровал мелочь. – Он попросил у них соли к обеду, я еще не все тюки распаковала…
– Каролина так рано была дома? – удивилась соседка, а я почувствовал запах: любопытства, пыли, лимона…
– Мне открыл парень, – ответил еле слышно, наблюдая, как данное мне откровение от Бога на моих глазах превращается в сплетню?макраме.
– Как странно; кажется, вы первый человек, кто увидел его впервые за пять лет. Калиновские живут здесь уже лет пять, эмигранты из Польши, и все эти пять лет он не выходит из дома… – мама резко повернулась, пепел с сигареты просыпался ей на фартук; и я понял, что ей неинтересно.
– Просто роман какой?то.
– Не роман, а паразит, – резко ответствовала соседка, словно речь шла о позиции нашей страны в новой войне. – Его сестра – гений, молодой ученый, физик?ядерщик; ее пригласили сразу после защиты диссертации в наш космический городок – наш отец сегодня в пять утра уехал туда на служебной машине, работать; чудесная девушка: всегда место в автобусе пенсионерам уступает, поговорит при встрече; а брат живет за ее счет который год, даже в магазин не сходит. Школу давно окончил и болтается без дела…
– Откуда вы знаете, может, он писатель – давно под псевдонимом Нобелевскую премию получил, – сказал я; соседка засмеялась; кажется, она не верила в то, что люди по соседству могут получать премии и вообще – быть не из крови и плоти и желаний; нормальная философия: прекрасные истории случаются с кем?нибудь другим. «Приходите ко мне в гости, за солью, чем угодно, очень буду рада», – мама вышла проводить ее в прихожую, тоже заваленную коробками, тюками, как ворота осадного города; а внутри меня поднялся настоящий белый шторм. Наверное, это было все то же пошлое, бледное, как в холод, любопытство, но мне оно казалось благородным, ведь я в своем мире был положительный герой; мушкетер, рыцарь Розы; два дня мы с отцом распаковывали вещи, кресла, ставили их у окна, не нравилось; двигали к двери, рядом ставили стеллажи, на них – штуки из IKEA и книги – полную «Библиотеку приключений». На утро третьего дня я помыл блюдечко, спустился этажом ниже и позвонил в их дверь. Долго никто не открывал, даже лая не было слышно; «Каролина взяла собаку, Кароль спит», – подумал я; стеклянный домик воображения; еще раз позвонил; звонок у них был обычный – резкое сопрано; приложил ухо к замку, как ковбои к земле; потом поставил блюдечко под дверь, написал на листочке из блокнота с дневником моего сердца «спасибо» и шагнул по лестнице вниз, к улице; нужно еще забежать в школу – посмотреть расписание. Дверь позади меня открылась.
– Ну, чего тебе? – голос его прозвучал сердито, будто его оторвали от классного детектива.
– Блюдечко принес, вернуть, – он сшиб его дверью, оно покатилось, как яйцо, вместе с запиской к ступенькам, но я поймал.
– О господи, – сказал он, взъерошил волосы; в белой приталенной рубашке, с рукавами, закатанными под тонкие, как ветки, локти, и в этих бархатных штанах он казался богом, человеком с постера; совершенный и изящный, как восемнадцатый век. – Слушай, ты не мог бы выгулять Миледи Винтер? Я обычно ее так отпускаю, с ошейником, и она всегда возвращалась, но я все жду, что не вернется…
Я поднялся. Он впустил меня в прихожую, свистнул собаку, начал бороться с ошейником, поводком и рыжими лапами.
– Шарлотта Бейль, Миледи Винтер, леди Кларик – как в кондитерской, я бы не выбрал…
– Каролина назвала, – он увернулся от языка, – ее любимая книжка. Она же там в основном под этим именем… А ты, часом, не Скайуокер?
– Да, а мой брат – Ган. Папа обожает «Звездные войны».
– А ты?
– Да, ничего не имею против в выходные с тазиком оливье.
– А меня назвали в честь Папы Римского: я родился в день, когда в него стреляли; мои родители католики, для них это было важно… Главное – это найти то самое имя; гласные?согласные, цвет?звук?вкус; национальная принадлежность не имеет значения. Правда? Ненавижу сугубо национальные литературы, хлорированную воду и сплетников…
Я ушел гулять с Миледи Винтер; она была сильная, как ветер; весь квартал красных домов?близнецов тихо полоскался за ней в невесомости, пока она гоняла голубей; последними мышечными усилиями я повернул, как старинный резной штурвал, домой; Кароль уже ждал на пороге; «в окно посмотрел», – объяснил, и я представил, как отгибается украдкой край малиновой занавески: не дай бог внешний мир заметит, что им кто?то интересуется… Из квартиры тянуло кофе с корицей.
– Спасибо.
– Не за что. Хотя – есть за что; угостишь кофе?
– Гм… – он наклонился к собаке, и я стал местом, освещенным луной. Решил отомстить.
– Ты не любишь сплетников, потому что о тебе сплетничают. Погоди, как там: не работает, сидит на шее у сестры, такой хорошенькой и хорошей девушки, и – самое скандальное и нетерпимое – никогда не выходит из дома. Подвергнуть его аутодафе!
Он медленно распрямился, сжал перламутровые кулаки, и я подумал: «о нет, кажется, не отомстил, а обидел; сейчас ударит»; хотя честных людей трудно обидеть, они в основном экзистенциалисты, привыкли отвечать за свое существование.
– Ведут с Каролиной нравоучительные душевные беседы на лестнице, когда она с работы приходит с тяжелыми пакетами… – прошипел он, словно лопнул воздушный синий шар. – Старые, жирные, пыльные бляди. Слава богу, моя сестра слишком хорошо воспитана в отличие от них; молча выслушивает и спрашивает еще: «а как ваше здоровье?» Если я не выхожу из дома, так это чтобы с людьми не встречаться, с подобными им; которым есть дело до всего, потому что у них нет своих дел. Что же до работы – я в месяц зарабатываю больше, чем весь этот дом за год.
– Взламываешь коды центральных банков? – я захотел написать сценарий приключенческого фильма с кареглазым хрупким героем без героини. – А я тебе расскажу, о чем мой будущий роман.
– Думаешь, твой секрет стоит моего?
– Думаю, да; я же будущий нобелевский лауреат по литературе, – он засмеялся и открыл дверь; я вошел, а он побежал на кухню спасать кофе – вернулся с розовым пушистым полотенцем через плечо: – Тебе что, особое приглашение нужно?» Миледи Винтер скакала вокруг меня, записав, похоже, во что?то симпатичное, мелкое, вроде голубя; я снял кроссовки и прошел в его комнату – комнату Кароля Калиновского, самой загадочной жизни после моей: малиновые, плотно задернутые занавески, малиновый тюль под ними, вместо обоев – роспись, огромный сад, полный птиц, золотых и розовых плодов; сад рисовала Каролина, узнаю я потом; еще она вышивала копии знаменитых картин – Брейгеля, Босха, Вермеера; плазменный монитор, куча дисков и журналов на толстом темно?красном паласе; плетеная темная мебель, столик из стекла и горы подушек всех цветов темно?красного: малинового, бордо, винограда, клубничного со сливками, ярко?вишневого, свернувшейся крови, багрянца, брусники, красного дерева, махровой розы, переспелых яблок, рубина, граната; на них Кароль сидел и спал, укрываясь клетчатым мохеровым шотландским пледом. Я будто попал внутрь коробочки для обручального кольца; свет здесь шел от монитора и от красной лампы в форме губ Мэй Уэст; поднял один из журналов, каталог элитной женской обуви: каблуки красные, из времен Людовика?Солнце, пряжки с бриллиантами и рубинами; как в этом можно ходить – невообразимо. Кароль принес кофе, пах он жареным; крошечные серебряные чашки; сахар кубиками, брать щипцами; я нащупал подушку, не промахнулся: «ну?»
– Я дизайнер, – сказал он, – придумываю раз в год для одного знаменитого дома мод пару женских туфель, тем и живу, – а потом открыл шкаф?купе: полки от пола до потолка, вместо классических книг – золотые обрезы, Вавилон и Средние века – женские туфли.
– Это все твои? – смог только спросить я, шокированный, как порнографией; он опять засмеялся: «нет, я же сказал: пару в год; этого достаточно, чтобы забыть о деньгах на весь следующий год; это очень известный дом и очень большие деньги»; «но тогда ты знаменитость» «да ну, чушь; мое имя даже не упоминается» «э?э, несправедливость» «ты что, тщеславен?» «конечно, я же писатель; авторские права и прочая» «понятно»; сел на подушку рядом, скрестил ноги и стал смотреть на свое сокровище: они стояли, неповторяемые пары, будто затаившись, будто скоро?скоро зазвенят колокольчики – и они пустятся в пляс: красные, золотые, синие, с камнями и в сеточку, на каблуках из стекла и металла, замшевые, осенние, кожаные, пахнущие зверями и пудрой, вышитые по бокам бисером и разноцветными нитями – узоры всех культур: кельтов, римлян, греков, славян, эвенков, якутов, монголов; египетские сандалии – словно из дерева вырезанные, сплетенные из серебряных нитей, алая подошва; «какие нравятся тебе больше всего?» – спросил он через час; только через час мы очнулись, словно попали на спектакль, – честное слово, я слышал голоса; голова кружилась, как после крепких сигарет и долгих рассказов; и я указал на эти – Кароль встал, снял их с места. Весили они граммов двадцать всего лишь – еле?еле уловимые, точно в паутину попал рассвет; «изо всех сил ты жаждешь легкости – такой, рекламной: бег по пляжу, утро; на самом деле жизнь у тебя тяжелая – это?то и гнетет»; «это что, тест?» – спросил я; Кароль улыбнулся и поставил туфли на место. И я понял, что никакой он не извращенец, – просто поймал красоту.
– Еще кофе?
Потом я поднялся к себе, принес ему свои рассказы – вернее, наброски к роману; мне хотелось создать что?то вроде фильма «Твин Пикс» – я его обожал; маленький городок, вокруг леса; и вот среди всего этого начинает происходить – не зло; а все сразу. В самом начале есть девушка?психолог, она ясновидящая – иногда, когда не спится; выходит на кухню пить кофе, который в моем романе станет таким, каким меня угощал Кароль, – в серебряных крошечных, как камешки с пляжа, чашечках, абсолютно восточный, настоящий, древний, как инстинкт выживания; и вот ей приходит вызов – интересный случай по теме ее работы: девочка из неблагополучной семьи, причем даже не католиков, видит Деву Марию и святых. Девушка?психолог едет; а с другого конца света приезжает в этот город за этой же поэмой еще один главный персонаж – молодой и красивый, как вещи, священник. Они встречаются, девушка?психолог в него влюбляется; и растут две совершенно бессвязные друг с другом истории – о девочке, видящей святых, и о парне из этого же городка; у его родителей лесопилка; он как раз из семьи католической; простой рабочий, у них так принято – знать все азы мастерства; он видел в лесу человека, закапывающего труп; раскопал, увидел девушку в полиэтилене, обалденной красоты; влюбился и закопал обратно; никому не сказал, кроме священника. Кароль читал, комментировал весьма здраво; я узнал, что его любимый писатель – Марсель Пруст; «нам обоим делать нечего, вот мы и знаем все о мелочах», – сказал он; поправил кое?что о католиках. «У нас бесконечное чувство вины, понимаешь, тяжелая такая вера»; объяснил, что есть Розарий, показал часослов; «твой священник обязательно должен обращать внимание на часы». Потом мы пошли готовить ужин – я и не заметил, сколько прошло лет; «двадцать восемь тысяч»; макароны с толстыми сосисками; кетчуп с яблоками и укропом; «домашний, – сказал Кароль, – правда?правда, я сам его делаю; я все делаю по дому, только мусор не выношу и собаку не выгуливаю: это связано с моим чувством… как бы это сказать…» «брезгливости перед миром?» «в общем, верно; эдакий вечный острый приступ агорафобии…»
Я вышел от него совершенно разбитый и влюбленный.
– Эй, Люк, – окликнул он меня, когда я был на третьей ступеньке к себе; в подъезде между пролетами уже включились бледно?желтые, будто кислые, лампочки, – ты свои рукописи забыл, – помахал папкой?файлом с моим романом.
– А, оставь себе, у меня есть оригинал, – я засмеялся, счел за хорошую шутку.
– Очень лестно, но мне не нужно, – он не засмеялся: он охранял свой мир, – я коллекционирую только туфли.
– А я могу ведь и обидеться, – но уже спускался, боясь обидеть его.
– Мне все равно, знаешь, – я забрал роман, а потом спросил, можно ли зайти еще. – Не знаю, причины нет, – и закрыл дверь, тихо?тихо, не хлопнув перед носом, как тогда; а словно занавес. «Жди продолжения», наверное, – и я поднялся домой, получил нагоняй: где, зачем, завтра рано вставать – понедельник, новая школа; белый воротник, рюкзак…
Я не понял тогда, что Кароль принадлежит только себе и больше никому; что его мир намного больше моего и даже больше реального, для меня, пустого, он стал очередным уловом в море чудаков, блестящей форелью, которой можно похвастаться в кабачке; безусловным, как рефлекс, другом, собственностью, фантиком под стеклом – будто я не нашел его, а создал…
А школа оказалась хорошая – гимназия с гуманитарным уклоном; стрельчатые окна, заросшие плющом. Садись и пиши – исторические детективы с красивым героем, как Акунин. Предметы можно было выбрать самому, от чего я пришел в восторг, не совсем здоровый, правда; теория о взаимосвязи всего и вся в мире меня смущала; но все равно в моем дневнике в итоге оказались подряд истории Древнего мира, Отечества и мировой культуры; два языка современных, английский и французский, плюс мертвый – латынь; еще риторика, психология и литература с двумя семинарами в неделю. «С ума сойти, а где же физика, астрономия, биология, ОБЖ? – воскликнула мама. – Реальная жизнь тебя не интересует?» Папа давно знал, что я собираюсь стать писателем, из кресельных разговоров; поэтому не удивился, что я выбрал настолько гуманитарный класс; «смотри, не деградируй, – сказал только, – повторяй таблицу умножения на ночь, как в советские времена вместо Отче наш, а то будут в магазине обсчитывать». Класс оказался тесной компанией: все учились вместе с первого и росли в этих купеческих красных домах в плюще; ажурные решетки; писали стихи, читали их с выражением; у кого?то уже имелись публикации в столичных литературных журналах. Внутри компании тоже существовали компании; мне казалось порой на семинаре по обсуждению Толстого, что я в каком?нибудь французском литературном кафе; у окна столик экзистенциалистов, у двери – семиотиков. Я попал в одну из них – литературную группу «Овидий»; черт знает, почему они себя так называли; «занимайся миром, а не войной»; Оскар Уайльд, Джек Керуак, Кастанеда, Паскаль – все в них смешалось, как в шейкере. Итак, я. Люк. Франция и Америка. Круассаны с кетчупом. Невысокий и худой. Цвет глаз зависит от света: утром голубые, днем зеленые, в пасмурный день серые, вечером почти синие. Литература, как живая и незнакомая девушка этажом ниже, «Зуд седьмого года», сводила меня с ума. Александр: узкие джинсы, бледное вытянутое лицо, очки как у Леннона, клетчатая рубашка, галстук?веревочка; казалось, он выпал с балкона, на который выскочил, когда пришел муж, – провисел над улицей всю ночь, промерз, забыл, кого любит; обожал политику и группу U2. Димитр – его двоюродный брат, но другого племени, языка, времени – как Греция и Рим; высокий, стройный, длинноногий, элегантный, словно все дни только и делал, что подбирал галстуки, учился их завязывать, писал об этом статьи в мужские журналы девятнадцатого века витиеватым, как французские кулинарные рецепты, слогом; огненно?рыжий, глаза желтые, а брови и ресницы – абсолютно черные. Ярек, музыкант и рок?поэт, играл в одной группе в городе на флейте; в каком?то арт?кафе по ночам; оттого часто спал на уроках в локтях; его окликали, он зевал под хохот всего класса; но если вопрос повторяли – отвечал безупречно; когда все успевал – мрак; толстый, мягкий, словно щенок, даже в солнце – в черных, с узором поперек груди свитерах; и его девушка – вернее, я так и не понял, девушка или просто у них была своя, особая, странная, как зарницы, радуга, мокрый снег, дружба, – о такой мечтаешь – носить ей портфель, провожать; держаться на переменах за руки, всегда и везде ходить вместе – в школьную столовую, на праздники, в магазины, к друзьям; кидать через головы неподозревающих записочки из розовой разлинованной бумаги… Ее звали Мария – девушка, в которой нет ничего особенного; но когда я спросил ее, обернувшись, шепотом, сколько еще времени осталось до конца урока, – она что?то читала, подняла на меня глаза, из окна падал прямо ей на щеку свет, – мне показалось, что она сейчас медленно взлетит, как Ремедиос из «Ста лет одиночества». Я испугался и схватил ее за руку; не мог отвести от нее глаз; мир замер и сжался, словно в ожидании дождя; а потом прозвенел звонок, и я со стыда быстро все побросал в рюкзак и убежал домой со страшно бьющимся сердцем; «влюбился, влюбился», – повторял мой пульс; и она приснилась мне ночью – летящая над землей в белых простынях… Она первая подошла ко мне через два дня: «прости, я тебя напугала; напомнила что?то страшное из прошлого?»; я засмеялся такой мелодраматичной трактовке и объяснил про Ремедиос – трусливым я не был. Она обдумала и тоже засмеялась: «я не читала, но звучит лестно – вознестись и сниться по ночам»; «стихов я не пишу» «а что пишешь?» «роман». Она позвала Ярека, собственно, так я с ними и познакомился… Они приняли меня легко, без прозвищ, без насмешек, без снисходительности, без этого «ах, новенький»; а я слушал их вовсю: это было мое правило – собирать людей, как камешки или бабочек, – все равно отношений теснее, чем с камнями и бабочками, у меня не получалось из?за постоянных разъездов; я смирился, любил людей такими, какими они хотели мне казаться.
Мы собирались на переменах в одном месте в гимназии – у эркера, там стояли кресла и большой цветок; здесь можно было говорить о чем угодно: о снах и ассоциациях, последних прочитанных книгах и прослушанных дисках, Сатурне, деревьях, антиквариате; мы и говорили обо всем; словно собирались писать энциклопедию. Они были не снобами, а самыми что ни на есть обычными; книги и музыка не становились для них выходом в свет, маркой одежды. Например, Мария постоянно перечитывала одно и то же – Перес?Реверте и Крапивина. Про то и говорили. Димитр любил готовить. Приглашал на ужины; мы приходили. Я потом рассказывал рецепты маме; она не верила, что мальчишка умеет так готовить; «зачем ему?» «нравится». Она качала головой и закуривала новую сигарету… Александр мечтал вступить в ИРА – повоевать, в общем; когда я сказал, что у меня отец военный и брат в академии, он взвыл от зависти: «я бы на твоем месте…»; «ты не на его месте; ты вообще не представляешь реальности», – резко ответствовал Димитр; у Александра зрение было минус восемь – с таким никуда не возьмут; но он бредил – ракетными войсками, спецназом, прочим бредом; сочинял книги про наемников. На одной из перемен я прочитал им свой роман, который так не оценил Кароль, – им он показался гениальным. Кстати, про Кароля я тоже однажды рассказал; с того вечера я звонил несколько раз: с книгой Перес?Реверте «Фламандская доска», которую прочитал за ночь, и мне показалась она нестерпимо похожей на Кароля; и с апельсинами и булочками приготовления Димитра. Миледи Винтер лаяла сквозь дверь, но он мне не открыл… Они отреагировали, как в фильме: кто есть кто. Димитр захотел с ним познакомиться, поговорить об обуви, моде, вообще о красоте; Александр начал рассуждать о польском Сопротивлении, а Ярек даже не поверил, что такой парень существует: «ты ведь его придумал, Люк, но это круто, да, парень, который собирает женские туфли и никуда не выходит… если не будешь про это писать, подари». Мария посмотрела на меня так, словно я сказал ей, где лежит вещь, которую она ищет уже несколько лет. Вечером, возвращаясь со школы – две контрольные по историям, – опять позвонил; стояла тишина; наверное, Миледи Винтер взяла Каролина. Я вырвал из блокнота лист, написал, как мои дела, о ребятах, о погоде – был самый разгар золота и синевы; целое письмо; а через несколько дней после разговора о Кароле в гимназии должен был состояться Осенний бал. Каждому на парту лег пригласительный из желтой фольги; «две персоны, вы и ваш спутник»; я обернулся к Марии, спросить: ей идти обязательно с Яреком или она может пойти для разнообразия со мной; Мария объяснила мне, что в этом прикол: каждый гимназист должен привести не?гимназиста; «Ярек в прошлом году приводил свою бабушку, а Димитр – свою: они выдали такой фокстрот – просто супер», – и засмеялась. Я подумал, не пригласить ли маму; мама отказалась; села на подоконник, закрылась Хмелевской, закурила; папа позвонил, сказал, что вернется после полуночи; она сразу ощутила себя брошенной; тогда я спустился этажом ниже. Позвонил. Открыла Каролина.
– Каролина, ты, а… здравствуй… а Кароль дома?
– Да, – она улыбнулась, будто зажгла свечу, и отодвинулась, впуская меня. Из комнаты вылетела Миледи Винтер; выглянул Кароль.
– Здорово, – и спрятался.
– Хочешь чаю, ужинать? – Каролина поймала Миледи в полете; «сильная женщина», – подумал я, отказался и позвал Кароля.
– Кароль, спаси мою шкурку…
Кароль выглянул опять. Он был взъерошенный, словно только проснулся или смотрел неподвижно длинный, вроде «Титаника», фильм. Я показал ему билет, как пропуск в рай.
– Приглашаю.
– Куда?
– Осенний бал в моей гимназии. Если я не приведу гостя – исключат.
– Да ну, – сказал Кароль, одна голова из двери, а я по нему соскучился, как по книге; уехал, подумал, что она слишком толстая, и мучаешься теперь от желания, невозможности – прямо тоска: все не то и все не так. – Осенний бал? Звучит помпезно. Надо наряжаться?
– Так ты идешь?! – завопил я и запрыгал бешено по прихожей. Каролина засмеялась, хотя ничего не могла понять. Мы с Каролем разговаривали на инопланетном языке.
– Чего? Не, никуда не пойду, я для Каролины спрашиваю; Каролина пойдет, правда? Она давно нигде не гуляла. Я простыл – она сидит со мной уже неделю, как привязанная; как раз отвлечется…
– Ты уже неделю как выздоровел, – возмутилась Каролина. – И Люк приглашает тебя, а не меня, значит, так надо.
– Фаталист, – и Кароль исчез в комнате, как в шляпе фокусника. Каролина посмотрела на меня, я на нее; мы оба направились в комнату. Кароль лежал на подушках, по его лицу бликовал «Титаник», уходивший в последний закат.
– Соглашайся, – сказала Каролина, – а то не получишь сладкого.
– У меня зуб болит, – перевернулся на живот, закрылся от нас подушкой цвета малины. Каролина начала его щекотать, потом душить подушкой, Кароль отбился, вылез, спросил сердито: – Ну чего ты ко мне прицепился? Зачем я тебе нужен? Коллекционируешь странников? Я не выхожу из дома даже ради Миледи – почему должен ради тебя и твоего дурацкого бала?
– Я не знаю, просто мне некого пригласить больше, – и сел рядом с ним, смотрел «Титаник»; Каролина ушла, потом совсем в ночь принесла нам кофе с корицей и сливками; я пожелал спокойной ночи и собрался уходить. «Завтра в семь»; он не ответил, закрыл за мной дверь тихо, как занавеску…
Полседьмого я позвонил, открыла опять Каролина; она собиралась идти гулять с Миледи Винтер; выглядела потрясающе, как с журнала мод: коричневый пиджак, золотой галун по рукаву, белая блузка с высоким воротником, коричневая шляпка с желтой розой и высокие сапоги. «Вау», – выдал я непроизвольно, как вздох или воспоминание; она улыбнулась: «свидание»; «а Кароль? готов?»; она махнула перчаткой; я заглянул в комнату: он лежал, обняв подушку, в клетчатой пижаме и опять смотрел кино; теперь «Мулен Руж» База Лурмана; глаза его были золотыми и красными, как карнавал. «Я его уговариваю весь день, он молчит». Мы, стоя над ним, как гвардия, смотрели, как умирает Сатин, потом Кароль завыл и сказал резко: «ну выйдите хотя бы»; через десять минут появился в прихожей – стройный, тонкий, как трость, в черном фраке и белой бабочке, с зализанными волосами, похожий на все эти фильмы, всю эту красоту искусственную, которую любил; надел совершенно удивительные ботинки: черные, мягкие, темно?мерцающие – не лакированные, не замшевые, не кожаные, а из чего?то секретного, как оружие; и мы втроем вышли. Было уже темно, как под одеялом; ветер шелестел тревожно, словно знамение; Кароль поцеловал сестру; и мы пошли вдвоем в сторону школы. «По дворам?» – спросил я; так было короче, а из?за «Мулен Руж» мы здорово опоздали; но он сказал: «нет, прямо»; я закурил, он тоже вытащил сигарету; я даже не знал, что он курит – тонкие, белые, как спагетти; по запаху я узнал мамины; «Каролинины», – объяснил он; «а Каролина, часом, еще Хмелевскую не читает?» «читает; в ванной целая полка стоит» «все женщины одинаковые» «да уж, ново, как мир»; и мы пришли. Кароль произвел сенсацию. Он был самым красивым парнем. Я подвел его к «Овидию»: Александр был в чем?то неуклюжем – в джинсах и пиджаке с локтями, Димитр выглядел как Руперт Эверетт из «Идеального мужа»: светло?бежевый фрак, жилет, цепочка, живая хризантема в петлице – здорово, короче, но он создал себя, а Кароль был как звезды – настоящее; если они зажигаются, значит это кому?нибудь нужно. Ярек играл в оркестре на сцене, я показал на него пальцем; Кароль увидел, послушал, сказал тоже: «здорово»; на него все оглядывались, а потом подошла Мария…
Здесь я сделаю отступление. В моей жизни было не так много женщин, как в книгах; я так и не полюбил; полюбить я называю счастье из сказок – суметь найти в себе силы и чудо дожить до конца своих дней, продолжая видеть хорошее. Было несколько женщин, о которых я думал: с этой не составит труда быть счастливым, потому что она такая… такая… не стерва, в общем, не жадная, не капризная, аккуратная, нежная и смешливая, любит читать, собак и готовить, Моне и тебя… не меня, к сожалению; такие девушки всегда любят твоего лучшего друга или брата, или какого?то левого парня, в котором нет ничего особенного. Мария и Каролина; и еще жена моего брата…
К нам подошла Мария: она была в легком платье из чего?то золотого – разрезы от колен – и туфлях на высоких?высоких каблуках, тоже из золотого; а каблуки эти смертельные были словно из янтаря – и внутри по насекомому. Странные туфли, потрясающие, рукодельные; она шла в них через зал, как огромный корабль с юга, полный апельсинов, черного дерева, прекрасных невольниц, с расшитыми лазурью парусами, входит в маленький порт на севере за водой; и сразу сказала: «вы – Кароль?» – словно узнала его, словно они были знакомы в прошлой жизни, много разговаривали ночью за бокалом вина; и Кароль медленно поцеловал ей запястье. Если бы я не знал, что они незнакомы, я бы решил, что они влюблены, – любовники – притягательное, черное, как смола, запретное для подростка слово. Ребята на сцене играли песенку The Verve; Кароль пригласил ее без расшаркиваний и слов – просто взял за руку; они танцевали как в старом кино – глаза в глаза; со всякими фигурами. Потом директор объявил салют; все пошли в парк, на лестницу; Мария поднималась ступенькой выше, с ней о чем?то говорила девочка из класса, а мы все шли сзади, как охрана; и вдруг слышу – Александр:
– Что так смотришь? Ноги нравятся? – будто столкнет его сейчас с этой лестницы; Кароль и вправду смотрел на ноги Марии совершенно неприлично; поднял глаза, поняв, что его оскорбили.
– Нет, – ответил спокойно, – туфли…
Александр остановился в потоке; сзади возмутились, толкнули, но он стоял, бледный, дрожащий, неловкий, неудачный, сжал кулаки.
– Да, Люк рассказывал, что ты извращенец.
– Александр, пожалуйста, – у меня горел затылок, я совершил предательство, только кого…
– Я, видимо, вам не очень нравлюсь? – Кароль тоже остановился; толпа огибала нас, как вода.
– Не нравишься, чувак, – Димитр, стоявший сзади, простонал еле слышно: «какая безвкусица», взял Александра под мышки, как толстого капризного ребенка, и потащил вниз. Александр забрыкался, лепестки хризантемы посыпались на ступеньки, их тут же кто?то раздавил.
– Идите, Кароль, извините его; вы выглядите как человек, который многое понимает; спасибо, что познакомились с нами; простите, прощайте, – и уволок Александра в толпу.
– Прости, Кароль, – сказал я; ощущение было, точно я сел на торт, а Кароль – именинник; но Кароль неожиданно просто махнул рукой, поднялся со мной, посмотрел салют; «потанцуете с нами еще, Кароль?» – нашла наконец нас Мария; «нет, простите, мне пора; я устал с непривычки, Люк вам, наверное, рассказывал, я вообще?то редко выхожу из дома…» – опять поцеловал ей руку; «не провожай меня, Люк, я найду выход, дорогу, я учился в этой школе»; и мы остались с Марией вдвоем среди звезд, разговаривающих людей.
– Что случилось? – спросила она резко, схватила меня, как гестаповец.
– Александр сказал… сказал, что он смотрит на твои ноги, а он ответил, что ему нравятся туфли… извини, что ему нравятся туфли; я же рассказывал…
– Туфли? – Мария так неожиданно отпустила меня, что я чуть не упал за перила в кусты, где кто?то жался, и посмотрела так смешливо, удивленно и дивно, будто я предсказал ей десять детей. – Туфли? – и задрала ногу – посмотреть, что на ней за туфли такие. – Да им же сто лет, их мой папа?геолог маме сделал, когда ухаживал… – и умолкла внезапно, будто спряталась.
– Значит, каблуки – настоящий янтарь? – но она не услышала; каким?то естественным путем бал расстроился; музыканты начали играть композиции с прощальными текстами; танцевало всего три пары; в гардеробе стояла очередь. Мария не услышала, помахала Яреку рукой. – Каблуки – из настоящего янтаря?
– А… да, кажется.
Такой был Осенний бал. Вернулся я поздно: гулял по дворам этих странных, одинаковых, как не бывают братья, домов; слушал осень в листве; курил; а в нашем доме горели всего два окна: наше на кухне – мама всегда оставляла, если ждала кого?то из нас; значит, есть в холодильнике что поесть; какая?нибудь холодная курица с консервированным горошком и лимоном; может, даже чай еще горячий; а второе окно, красное, – Кароля… смотрит фильм, поди, какой?нибудь, он любил фильмы про любовь и вещи. Больше я его не видел никогда…
В понедельник меня догнала по дороге домой Мария; окликнула: «Люк!»; я ел хот?дог с сырной сосиской и с большим количеством майонеза; в одной из своих школ, в другом городе, я был влюблен в одну славную девочку, которая обожала такие хот?доги, – и я тоже полюбил; обернулся – и чуть не умер со стыда: майонез закапал мне рукав и коленку. «Ничего», – успокоила меня Мария; странная она была: щеки горели, со своим рюкзаком – его обычно Ярек носил; я подумал, что развалил их мирок навсегда. В руках она держала коробку, блестящую, золотистую, – в таких подарки дарят.
– Держи.
– Это мне?
– Нет. Это… это Каролю, – и густо покраснела.
Я взял.
– Там… там еще записка. Ты только не смотри, Люк, это секрет. И не говори никому.
– Ты что, – сказал я, любитель приключений, – кровью своего племени клянусь…
– Спасибо, – она чмокнула меня в перемазанную щеку и убежала.
Я был бы не я, если бы не посмотрел. Зашел под крышу подъезда, вытер тщательно руки и открыл. Мария сама виновата: коробка была не заклеена, а просто – низ?верх; было бы кандидатской на святость не заглянуть. Там лежали ее золотые, янтарные туфли.
… А записку я не читал. Не знаю. Может, она сказала, что любит его, готова на все, пусть только позовет. А может, просто, светски: «это вам, Кароль Калиновский, я слышала, вы коллекционируете туфли; и мне сказали, что мои вам понравились; для меня это честь и сущая безделица; мама?папа разрешили». Или что?нибудь кастанедовское: «вы изменили мою жизнь, я поняла, что выбор существует…»
В общем, не знаю.
Коробку я положил под дверь, на коврик. Позвонил. Никто не отозвался. Как всегда, впрочем. Кто я такой, чтобы ради меня изменить свою жизнь?
Через полгода мы опять переехали. Я окончил другую школу: с физикой, математикой, астрономией, ОБЖ – как маме и хотелось; поступил в литературный институт; окончил и его; пытался несколько раз написать рассказ, повесть, роман о Кароле, его туфлях; но ничего не получилось. Одна из моих женщин «варилась» в мире моды: подрабатывала то моделью, то статьями о них; я назвал фамилию, и она сказала, что туфли Кароля очень известны. У нее есть одна модель: летние, из соломки, застежка – серебряные цепочки на щиколотке; жутко дорогие. «Я думала, что он на самом деле – женщина; увидев, не веришь; о такой обуви можно только мечтать». Однажды я взялся писать биографию одного ученого – в надежде на «Игры разума?2» – и попал на вечеринку в честь открытия чего?то липкого и сверхпроводимого. Речь вышла говорить женщина – уже немолодая, но необыкновенно элегантная, словно собака редкой породы. Я ее не узнал. Узнала она меня.
– Люк Скайуокер? – взяла меня под локоть. – Каролина Калиновская. Помните, нет? Вы выгуливали нашу Миледи Винтер. Соль… Осенний бал… Соседи этажом ниже…
Я схватил ее, как падающую вазу. «Это вы, вы! Каролина…» Она и изменилась, и нет: так меняются здания, хорошие картины, но не люди – чуть?чуть блекнут краски. Фамилия ее по списку была совсем другая; немецкая, благополучная; лавка, полная зелени, овощей; «по мужу, – сказала она, – помните, я шла на свидание?» Сойти с ума можно, но я помнил; даже золотые галуны псевдогусарские на рукавах. Мы набрали в тарелки бутербродов, взяли по соку и кофе, нашли два кресла в уголке.
– Как Кароль? – спросил я сразу. – Вышел из дома?
– Да, – сказала она, и я увидел ее старой, – однажды…
Я понял, что у всех историй есть не только продолжение, но и конец. Кароль умер. Год спустя, как мы познакомились. Каролина уехала в командировку, зимний вечер, фонари, Кароль выпустил Миледи Винтер погулять; она долго не возвращалась; он разнервничался; вышел на площадку, спустился по лестнице – представляю, как ему давался каждый шаг: боль, русалочка, отвыкшие ноги, любовь; вышел на улицу, шел снег. Кароль позвал ее; соседи слышали его голос; потом уснули; а он все стоял и ждал свою собаку; сел на лавочку, начал плакать и тоже уснул. Дело в том, что он совсем забыл о верхней одежде: этот рефлекс стерся у него с годами изоляции. Миледи Винтер пришла – ее завела к себе домой какая?то девочка, накормила, хотела назвать Баронессой, присвоить, но Миледи скулила и рвалась за дверь; отец девочки не выдержал и отпустил собаку. Но Кароль уже замерз во сне. Весь засыпанный снегом, он сидел, обхватив ноги, на лавочке, спрятав лицо в колени, босиком, в одной белой рубашке и черных бархатных брюках. Словно звездный подкидыш. Его нашел рано утром сын дворника, Кай, маленький славный мальчик; синяя шапочка с помпоном, черные, как космос, глаза: «дядя, проснитесь, дядя, вы замерзнете»; смелый пацан, он всех будил в первый снег; даже бомжей не боялся; для него все были люди…
– А туфли? Они…
– У меня дома, в шкафу; иногда, – она снизила голос до шепота, словно мы сидели не в зале, полной людей и света, а в темной?претемной комнате, рассказывали не живое, а придуманное: черные руки, синие шторы, Пиковая Дама, – я надеваю некоторые… Кароль бы меня убил. Он был самый лучший младший брат на свете: не забывал набрать мне ванну, сготовить ужин, прибраться и сказать: «ты самая лучшая»; без него я бы ничего не открыла; но ни разу не дал даже померить…
– Не святотатство?
– Нет, я просто скучаю, – и улыбнулась, совсем как он, – алое с золотом, как одежда священника в праздник Роз.
Hungry like the wolf
Красный кирпич, репродукции Тулуз?Лотрека на стенах, настоящий камин, светлый деревянный пол, на нем – четкая цепочка следов от узконосых ботинок. В такую рань, да еще в проливной дождь, мало посетителей в «Красной Мельне» – кафе в старинном подвале; дом на улице, наверху, до революции принадлежал какому?то купцу, который торговал специями, а свободные деньги тратил на женщин и картины; в революцию его в этом подвале и расстреляли; потом здесь хранили зерно, ящики с деталями от машин; мертвый, молчащий груз, который никогда не брал на борт «Секрет». Сейчас здесь кафе, в котором собираются художники, студенты?филологи, историки, журналисты – молодые, породистые, как кони на бегах; золотая молодежь, богема, мир через цветное стекло. В кафе только двое. Один – Юрген Клаус, ему двадцать пять; черный толстый свитер, черный кожаный пиджак; он фотограф, репортер; только что из поездки, глаза красные, под ногтями грязь; дома он никогда не готовит – не умеет, а здесь дешево. Яичница с беконом и петрушкой, сыр чеддер оранжевый, чай с молоком, ирландский хлеб и салат оливье. Второй – Артур Соломонов; узкие следы – от его ботинок; ему двадцать, но он уже нарасхват – у журналов, похожих на торты; пишет о кино. С ума сходит от «Авиатора» и вообще от той эпохи; зализанные назад светлые волосы, белое, как бессонница, лицо, синие глаза; белая рубашка, черный костюм, только подтяжки сумасшедших цветов, как сказочные гномьи носки, – сине?красно?желтые полоски. Кладет пальто на спинку стула, заказывает кофе по?венски – с тертым шоколадом и сливками, улыбается Юргену; знакомы шапочно, по «Красной Мельне»; но сегодня так уютно в кафе, что они разговаривают о ерунде через столики, увлеченно так, будто сдружатся; потом Юрген поднимается к Артуру, Артур его перехватывает, берет бережно свой кофе, сам садится к Юргену – у камина. Они говорят о кадре: оказывается, есть что сказать; о черно?белом кино; Артур вспоминает классический ужастик про Дьявола: маленький мальчик, усыновленный, всем нравится, никогда не капризничает, не болеет; весь фильм – астридкиршнеровские контрасты, лицо пополам – свет?тьма, среднего не дано; не дано выбора; вот были лица…
– Интересно, это правда?
– Что? – Юрген отвлекся на повторный заказ: «горячий бутерброд и оливье на бис».
– Что он вырос, сошел с ума и выбросился из окна, – Артур снял сюртук – вместо пиджака; он был помешан на одежде, на грани двух времен: девятнадцатого века, статский советник, турецкий гамбит, азазель, и на промежутке между мировыми войнами, когда мужчины умели носить брюки, а не джинсы. – У меня первая девушка была протестанткой; таскала в рюкзаке Евангелие, никогда не предохранялась; хотя это, конечно, ближе к католикам; я обожал этот фильм и молодых Битлз; писал работу о черно?белой технике; и она рассказала мне, что мальчик, сыгравший Дьявола, сошел сума и выбросился из окна месяц спустя после женитьбы… Это им на проповеди пример привели – какой ужас, мол, эти фильмы и рок?музыка… Сейчас дословно процитирую: «Значит, он рос, его шпыняли от одних приемных родителей к другим, никто не мог понять, что с ним, а в него вселился Дьявол, – нельзя сыграть такую роль безнаказанно»; я скажу от себя: так хорошо сыграть; «потом он женился, потому что он красивый и в него влюблялись, а затем – выбросился из окна». Такая славная и глупая девочка, автостопит по Европе; мы расстались, потому что ее браслеты бисерные все время рвались и рассыпались в моей постели и я спал как йог…
– Он сошел с ума оттого, что в глубоком детстве сыграл Дьявола? Аргумент в пользу вероучения Фрейда? – Юргена развеселил бредовый разговор в семь утра; Артур был необыкновенен: мир кино от его слов обретал смысл, подобный жизненному. Артур верил в кино, как в сказки. Но сказками были не фильмы, сам Артур являлся сказочником: он взмахивал руками, как волшебной палочкой, отбирая и приговаривая, кто будет богом, кто богиней, кто будет талантлив, а кто так, на два хита, чьими именами назовут астероиды, а кого забудут на второй минуте после сеанса, как вещь в метро… Его предсказания сбывались: если Артуру нравился какой?то актер – он становился знаменитым через пару месяцев; просто суеверие, вода и соль; если Артур поджимал губы – фильм проваливался. Кто?то спорил, можно ли дар Артура использовать в рулетке; но это не рулетка, а, скорее, покер – запасной туз в манжете…
– Дело, думаю, не в Дьяволе… Я видел все фильмы с ним – Венсан Винсент; французский ликер для ковбоя, а не имя; дело в таланте; вжился? В любом случае, когда смотришь старое кино, непонятно, талантлив персонаж или нет: его заслоняет персона; такое явное, как у денег, очарование – старины; а его фильмы просто как головокружение от высоты – двадцать третий этаж; хочется ухватиться за что?нибудь вертикальное, нескользкое…
– Красивый? – спросил Юрген.
– Нет. Узкий, резкий, густые брови, горбатый нос. Черные волосы и глаза. Такое садомазо. Но очень молодой, завидно. Хочется жизнь быструю и горячую, как секс.
– Секс разный.
– Любовь разная…
Юргену обычно не очень нравился Артур, эдакий хлыщ вудхаузовских времен; шоколад с мятой; «чудной тип, молодой, а ведет себя, как старый»; доел салат, расплатился; и решился: «приходи завтра на выставку в Манеже, мой друг там выставляет репортажи с войны»; «приду»; Артур мнет хлебный шарик, встает проводить, как женщину. У Артура не перо, а бритва. Но про Юргена Артур никогда ничего не напишет, ни строчки, из уважения, потому что знает: Юрген Клаус гений; видел его фотографии в газете; «ну, пока», – и Юрген ушел в дождь за делами. Артур посидел еще час; рисовал на салфетках цветы; а потом поехал на такси домой – вместо гостей; долго лежал в крытом бархатом кресле, слушал Ализе, Placebo, дождь. Дождь шел весь день, вечер и ночь. Ночью Артур проснулся от засигналившей под балконом машины, съел возле холодильника йогурт и написал статью в «Искусство кино» о Венсане Винсенте; с риторическим вопросом в конце: «Что истина, что ложь? Есть истории, которые нас очаровывают, как запах, не дают жить собственной жизнью, размышляешь о них без конца, как над отрывком из Библии. Все детство я болел Ричи Джеймсом Эдвардсом из Manic Street Pritchard’s, его исчезновением; даже к гадалкам ходил – узнать, жив он или умер. Все ждал: вот он придет в мой город, встречу случайно, позову в гости, напою чаем… Теперь меня сбивает с пути Венсан Винсент; он умер в двадцать один; двадцать одна роль; и лишь одна из них проходная – самая первая – мальчик?Дьявол из «Голоден как волк»; мальчик весь фильм молчит, улыбается лишь в конце на тень, заслонившую солнце; проходная, как комната, – через нее он прошел в кино, положил пальто на спинку стула, заказал кофе со сливками, стал классиком актерской игры на лезвии бритвы; ни одного современного аналога я не знаю; есть только правда – проходная между понятиями истина и ложь: в мире без него меньше красоты…»
На гонорар за статью Артур купил себе книги: «Девушка с жемчужиной» Трейси Шевалье и повести Туве Янссон; он обожал женскую прозу; и три галстука: синий с серебром, зеленый с золотом и в тонкую серебристо?серую клетку; накупил еды: оливок с начинками и все для салата «Цезарь» – больше ничем, разве что еще кофе по?венски, он не питался. Сходил на выставку друга Юргена. А через три месяца ему пришло письмо – длинное, в синем конверте; выпадающая из действительности в вечность вещь, как карты звездного неба; с тремя марками; каждая размером со спичечный коробок. Ни имени, ни города Артур не знал. Весь день носил его в пальто, во внутреннем кармане, открыл вечером, в «Красной Мельне»; там тусовалась куча народа, но Артур любил народ; а вдруг к тому же в конверте мышьяк или чума какая? В конверте было письмо, написанное длинным, извивающимся, как плющ, почерком; очень понятным, когда зачитаешься. «Здравствуйте, Артур. Прочитала вашу статью о Венсане Винсенте в «Искусстве кино», решила вам написать. Вы спрашиваете, в чем разгадка? А вам правда интересно? На фотографии вы молодой и красивый, порочный, как вся нынешняя молодежь, как мои студенты. Они так же часто заражаются своими собственными снами и теориями, как гриппом, как влюбляются в человека на улице, в картину; рассказывают мне с воспаленными глазами: «Ведь правда это так? Это имеет право на существование? Ведь этого никто до меня не думал?» Меня зовут Жозефина Моммзен, я преподаватель в педуниверситете, классическом, полном металлических лестниц и старых бюстов; профессор, доктор исторических наук, специалист по Древнему Риму, как и мой дед, Теодор Моммзен, – может быть, слышали, часто у молодых совершенно безумные знания. Детей у меня нет, второй половины тоже; но когда?то была. Я подумала, что покажусь вам интересной, а не только старой и начитанной. Я была женой Венсана…»
Артур оглянулся: не видит ли кто, что его лицо раздето, оголено, как в жару; все пили кофе – глясе, черный, со сливками, всякими причудами; смородиновый чай, молодое испанское вино на розлив – во всем городе так вино продавали только в «Красной Мельне»; «привет, Артур»; юноша кивнул; Джордж Барнс, отличный писатель, море, рыбаки, порт, корабли – маленький мир одного города, ставший огромным, как небо; немного похоже на Ричарда Баха или Экзюпери – люди с крыльями; Артуру нравилось, что Джордж никогда не дарил своих книг; их приходилось покупать; и вернулся к письму, и продолжил читать.
«Я вам пишу… я вам пишу, потому что вы пишете: история Венсана вас очаровала. Когда с нами ничего не случается, а душа наша похожа на сверкающую новогоднюю елку, тогда эти чужие истории – фильмы ли, книги, Древний Рим – притягивают издалека, как окна первых этажей: заглянуть краем, но никогда не знакомиться, не приходить в гости; чтобы верить, что что?то действительно случилось; понимаете? А то вдруг вблизи история окажется обыкновенной – совсем не тем, что мы думаем, совсем не историей, а чернухой, бытовухой, скучищей, жизнью, как у нас, – всего лишь ожиданием, верой, что мы – как Христос: тоже с миссией… Я вам пишу, чтобы рассказать настоящую историю, чтобы вы знали: она такой и была, какой кажется. Сверкающей елкой…
Мне тогда было восемнадцать. Не поверите, наверное, как и всему, но я была девственницей; сейчас так не принято, как и класть салфетки на колени во время еды; а я и с мальчиком целовалась?то только один раз – в пришкольном лагере, в походе с ночевкой; этот мальчик тоже обожал «Остров сокровищ» и Патрика О’Брайена; Древний Рим придет потом. Любовь – это было нечто недоступное, запрещаемое самому себе, как мороженое во время диеты; в моей семье вообще непонятно, откуда дети брались; все, мужчины и женщины, увлекались историей, историей искусств, живописью – короче, чем угодно, только не настоящим. Наш дом был полон книг, засушенных цветов, ваз, с которых не стирали пыль – вдруг разобьются; ходить можно было только на цыпочках, говорить вполголоса, никаких животных и музыки, потому что кто?то обязательно писал научный труд всей своей жизни… Все мое детство прошло с нянями в доме нянь, а потом – в школе, с утра до вечера, куча дополнительных занятий: танцы, художественная школа, кружок скульптуры; летом – пришкольные лагеря, позже в других городах; я не жалуюсь – мои родители были сухари, с корицей и изюмом, но сухари; а так я ездила, общалась, фотографировала, носила короткие юбки и купальники, плавала, рассказывала анекдоты и страшные истории у костра… Нормальное детство. Только я не влюблялась; во?первых, я некрасивая; вы бы удивились, увидев меня: вам, наверное, представилась эдакая светская львица, окрутившая знаменитого актера, блондинка или рыжая, реклама духов «Шанель номер пять»; а я не серенькая, средненькая, а прямо некрасивая: длинные светлые волосы, челка, из?под нее нос торчит. Смешная. Маленькие руки, ноги, а голова большая – это семейное, моммзеновское, мозгов много. Во?вторых, я знала все знаменитые истории о любви: Антоний и Клеопатра, Абеляр и Элоиза, Ремарк и Дитрих – и делала вывод, что любовь – это несчастье. Она всегда заканчивается попыткой суицида, болью, бытом – мне все сие ни к чему. Думала, что поступлю в университет, где половиной кафедр заведовали представители семейства Моммзенов, окончу его с красным дипломом – и пощады на экзаменах мне не светит никакой со стороны семейства; а иначе, без красного, никак в нем не жить; окончу аспирантуру, потом напишу труд жизни – я выбирала персонажа, страну, эпоху; а потом… А потом умру…
Это была бы счастливая жизнь.
Но я влюбилась уже на первом курсе.
Жить в доме, пока я учусь, мне не хотелось. Я спросила у отца и мамы, они посоветовались с дедом, бабушкой, тремя супружескими парами теть и дядь, и мне было позволено чудачество – снять квартиру в городе. По объявлению я нашла соседку; выделенных семьей денег плюс стипендия – не хватало сразу и на жизнь, и на где ее проводить; соседка оказалась классная – совсем другая, иная, добрая, глупая и невероятно красивая, она училась на актрису. Анна Скотт – вот это да, вот это львица: рыжая, кудрявая, в красных и синих платьях; розовых свитерах, желтых брюках – реклама «Юнайтед Колор оф Бенетон» плюс порошок «Ариэль». Мы дружили по?настоящему – закатывали в выходные пиры: индейка со сливами, курица с лимоном, утка с яблоками; пили вино, молочные коктейли; не спали ночами, когда она была влюблена; она влюблялась часто, так смешно, жестоко – все ее бросали; ходили по магазинам, покупали тряпки, косметику, гели для душа; клеили обои: розовые с золотом – в спальне, с фруктами и часами на полпятого – на кухне; слушали пацанячий бэнд Five. Первая сессия прошла абсолютно благополучно: никто из экзаменующих не был частью семейства Моммзен, только один молодой препод, фольклорист, спросил украдкой, уже ставя «отлично», чтобы не слышали готовящиеся: «вы из наших, университетских Моммзенов?» «нет, – ответила я, – совпадение; иначе я бы вас непременно предупредила заранее, еще в начале семестра»; он засмеялся, теперь уже на всю аудиторию, и извинился. Рождество я праздновала с родителями, не ожидала ничего такого: обычно мы просто заказывали еду из одного и того же ресторана домой и пили глинтвейн, плетя паутины из философий; но они в честь моих пятерок отправились в этот самый ресторан и заказали шампанское со льдом и ананасами; а за соседним столиком сидела Анна с каким?то своим очередным парнем; мы подмигнули друг другу, и ничего больше. Летом в экзаменах была моя тетя – специалист по древнерусской литературе; я готовилась, словно к скачкам с препятствиями на кубок графства; словно вручать мне его будет сам прекрасный молодой граф, неженатый, между прочим… Сдала на «отлично» первый; не тетин; пришла домой отоспаться; у нас в зале стоял классный диван – обитый черно?сине?красной пушистой тканью; «шкурами шотландцев», – шутила Анна всегда; я упала словно пьяная; снилось темное, влажное, шумящее, словно леса; а через полчаса меня разбудила Анна.
– Жозефина! Фифи, проснись! – трясла меня вместе с подушкой, кроватью, полом, как мне казалось; «чего?»; оказалось, ей дали роль – маленькую роль в новом фильме, парень, которого она любила тогда; «с которым она спала» – нельзя было сказать вот так просто, жестоко и цинично, будто знаешь жизнь; она правда их всех любила; тогда я считала, что это особая форма глупости, сейчас думаю, что это особый талант, необычный и трогательный, как умение выпукивать сложные мелодии; парень работал помощником режиссера. Фильм был про старые уличные банды; вроде «Банд Нью?Йорка» Скорсезе и «Брайтонского леденца» Грэма Грина, только без американского пафоса первого и католицизма второго. «Круто, – сказала я, – а у меня «отлично» «у тебя всегда будет «отлично» «ты меня оскорбляешь или ты ко мне равнодушна?» «нет, я заклинаю силы природы». Она купила две бутылки вина и корицу с кориандром; я пошла готовить глинтвейн по папиному рецепту. «Через два дня у меня тетя Пандора, она меня уничтожит, как ядерный взрыв, если я ошибусь хоть на одно имя или дату»; я и вправду боялась. Вам и не представить такого страха – перед темнотой разве что… А Анна боялась играть: вдруг окажется, что она бездарна и некрасива; вынула из сумки платье для роли – крошечное, клетчатое; белые гольфы; «по Набокову, что ли?»; мы от экзистенциального ужаса, что все в наших руках, напились, хохотали, а потом заснули вместе, в объятиях, не зная, что нас ждет впереди.
– Фифи, – опять она, утро блеклое, серое, будто несвежее белье, – Фифи, я боюсь одна…
– А я?то чем могу помочь? – голова раскалывалась, а ощущения обострились, будто кто?то подменил меня ночью на другую – более одинокую; прожившую всю жизнь в центре города, в квартире с кошками, геранями, книгами только о море; странная история…
– Пойдем со мной.
– Я же не могу тебя держать за руку в кадре…
– Просто посидишь где?нибудь на полотняном стульчике…
– Ты думаешь, меня пустят?
– Черт, нет, наверное, ведь я никто, – и покраснела; я завернулась в плед и побрела на кухню в поисках холодной чистой воды; налила из?под крана; пузырящуюся, белую. – А может… – Анна прошла со мной на кухню, она уже оделась: розовое, синее, голубое, немного серебра; накрашена чуть?чуть, такая светлая, легкая, хоть на руки, в машину, на пикник. – У нас съемки в городе, на площадке, среди настоящих жилых кубов; может, ты посидишь, подождешь меня возле одного дома? Мне просто будет легче – знать, что ты где?то рядом; и если я завалюсь, – она засмеялась, – мы поедем и купим что?нибудь вкусное. Обещаю ту же поддержку в день тети Пандоры.
Знаете, есть такие отношения с людьми, когда нельзя отказать. Собственно, проблема наркомании. Я оделась – как всегда, как учительница: полосатая бело?серая рубашка с острым воротником и рукавами по локоть, черная юбка, вязаный черный жилет, черные колготки на пятьдесят ден, в нашей семье женщины презирали телесный цвет как самый ненатуральный, и туфли – вот туфли были очень хороши; мне их подарила, собственно, тетя Пандора; на высоком каблуке, с острыми, загнутыми, как персидские, носами, с крошечными бантиками. Положила в рюкзак несколько толстенных книг по древнерусской литературе, пару персиков и яблок, ломтики ветчины, хлеб и маленькую пепси; мы вызвали такси, поехали куда?то в центр; занялся день, пасмурный, прохладный, словно осенний, а не весенний; демисезон, еще чуть?чуть дождя, пальто из драпа, замшевые сапоги, черный зонт тростью; мое любимое время года. Анна ушла за желтую пленку, там толпилось невероятное количество народа, а я выбрала подъезд, лавочку, двор; где встретиться – мы договорились.
Просидела я часов пять; читала, читала; никто даже не вышел собаку прогулять; видно, все знали о съемках, побежали смотреть. Или, наоборот, всех попросили не выходить. Не высовываться… Однажды одна любопытная старушка высунулась в окно и вывалилась, упала и разбилась. Это увидела вторая старушка, тоже высунулась, чтобы рассмотреть получше, тоже упала и разбилась. Это увидела третья старушка… Тут на мою страницу упала тень. Кто?то не очень высокий встал прямо передо мной, вызывающе и неприлично. Я подняла глаза. Он был и вправду невысокий, тонкий очень, но мускулистый; знаете, как эти элегантные, точно смокинги, собаки типа спаниелей; длинноногий, в бледно?голубых джинсах, тяжелых черных ботах, как у нацистов, с высокой шнуровкой, в белой рубашке с закатанными рукавами; на талии завязана джинсовая куртка в тон штанам. Черные волосы зализаны, взбит кок а?ля Элвис. Жутко подведенные глаза, как у французской проститутки в старом черно?белом кино. И куча цепочек повсюду. Пахло от него резко потом, каким?то кремом травяным и очень крепкими сигаретами.
– Привет, – сказал он, – я Венсан. А ты кто? Мирный житель или положительная девочка со съемок, которой я говорю: «Вот бы влюбиться в такую»?
Я засмеялась. Он был очень красивый. И очень простой. Рядом с ним совсем не было страшно, как обычно с незнакомыми знакомящимися парнями. Он был просто ни на кого не похож – такой вывалившийся из реальности; не человек даже, существо. Я сразу подумала, что с ним хорошо в кино ходить, готовить пиццу, ненавидеть всех людей. Я не знала, что ответить, сказала: «меня зовут Жозефина, я здесь историю учу» – и протянула ему яблоко.
– Ой, здорово, – сказал он и плюхнулся рядом на лавочку, впился в яблоко заостренными, как у животных, зубами. – Главное, гонорары платят что надо, а пожрать дать звезде забывают – элементарное, Ватсон, всего лишь пару бутеров с ветчиной, и я готов работать сутки на ногах, как на рынке, за пару бутеров с ветчиной… У тебя нет бутера с ветчиной? Если есть, я на тебе женюсь, потому что ты невероятная, ты будешь послана самим Господом, как видение пастушку…
– Есть, – я хохотала уже во все горло, открыла рюкзак, достала бутерброды, персики, и мы устроили пикник.
А потом он спросил:
– Слушай, раз я женюсь на тебе – я честный парень, не обману, – можно я тогда посплю у тебя на плече? У меня два часа свободных до эпизода драки, а мой вагончик – проходной двор, я там никакой власти не имею: нет дара.
– Ты меня своим гримом испачкаешь.
– Я подарю тебе еще тысячу таких рубашек. Блин, какая ты жадная, ты должна была сказать, что эта рубашка тебе никогда не нравилась и я могу спать сколько угодно…
– Я не жадная, я благоразумная. И я понятия не имею, кто ты: может, правда звезда, а может, жалкий проходимец, десятый помощник режиссера.
– О, десятый помощник режиссера – это такая шишка, я ничто перед ним, – и заснул, только не на плече, а на коленях, на юбке, дыша мне прямо туда, в розы. Он спал так крепко, спокойно, словно был безгрешен; я даже могла шевелиться; взяла книгу и, пристроив ее на его голове, продолжила читать. Прошел день, стало прохладно, собирался дождь. А ведь он сказал, что еще какой?то эпизод с дракой… Я тихонько толкнула его.
– Эй, – забыла, как его зовут, – просыпайся, – он открыл глаза, такие странные, абсолютно черные, я больше ни у кого таких не видела, без зрачков, будто там жил кто?то совсем другой, в хрустале, холоде, вечной ночи, не жаловался, а думал, как захватить мир, – Снежная королева, хроники Менильена, – ты говорил, что у тебя какие?то еще съемки…
– В жопу их, – он смотрел на меня снизу невероятными своими глазами вечной ночи, улыбался, словно мы заговорщики, тушь размазалась по всему лицу. – Что ты делаешь сегодня вечером?
– Учу историю древнерусской литературы.
– Ты что, ботан?
– Да, у меня через два, нет, уже через день экзамен, и у меня должно быть «отлично».
– Слушай, похерь ты на все. Давай поженимся. Я знаю одну маленькую церковь на набережной, она всегда открыта, и там всегда есть священник.
– А смысл?
– Я тебя люблю.
Вот так он это сказал. Так весело и ясно, весь в косметике, в дурацком костюме какой?то придуманной банды. Клоун, актер. Я до сих пор слушаю это в себе: «Я тебя люблю», как некоторые люди слушают джаз, смотрят фильмы с Монро, зажигают свечу – чтобы вызвать определенное настроение или потакать уже пришедшему.
– Я не знаю, – сказала я. – Я тебя не знаю, и вообще, дела так не делаются. Нужно время подумать, ужин при свечах, цветы три недели, пока думаешь, знакомство с родителями… Моим ты не понравишься.
– А моих вообще нет. У меня опекуны. Ну о чем тут думать? Я же тебе нравлюсь?
– С чего ты взял?
– Ты меня не послала.
– Я просто вежливая.
– Нет, ты не вежливая. Ты нормальная.
– Нет, я не могу. У меня экзамен. Можем пожениться, конечно, но я все равно буду сидеть и учить. А это ужасно. Я мечтала о другом.
– Нет. Это лучше всех мечт. Значит, ты согласна?
– А?а, – но он уже вскочил, схватил меня за руку и потащил куда?то по улицам. – Учебники! Там остались мои учебники! – и Анна, и вся моя жизнь, размеренная, выстроенная, красивая, как букет.
– Новые купим! – но новых мы не купили; мы прибежали на набережную: тучи ушли, стоял огромный кровавый закат, и он вошел в церковь, маленькую, острую, красную, как перец, позвал тихим голосом священника, отца Валентина; священник вышел, узнал его без улыбки, куда?то увел; они, видно, долго и хорошо дружили, а может, просто были чем?то связаны, как шантажисты; чем?то темным, бархатным; как проклятие; но оказалось – умываться и переодеваться; Венсан вернулся, бледный, стройный, худой, с мокрыми волосами; еще у него обнаружились челка до острых скул, черные по?настоящему брови, бледные пухлые женские губы; он был в другой белой рубашке, приталенной, в черных брюках и остроносых черных ботинках. Протянул мне руку, и мы пошли к алтарю, на котором отец Валентин зажигал свечи.
– Вы католичка?
– Да.
– Такие подойдут? – показал мне на красном бархате два кольца, тонких, безупречно золотых. Я испугалась, повернулась к Венсану.
– Послушай, это… это невозможно.
– Почему?
– Просто невозможно. Нелогично, неправильно. Так было в старину, но люди любили друг друга безумно, а потом могли быть несчастны.
– Мы не будем несчастны. Мы женимся по расчету. Я чувствую, что ты мне нужна. Мы будем жить долго и счастливо и умрем в один день, – и мы поженились. Отец Валентин позвал в свидетели с улицы нищего и женщину с собакой, маленьким бульдожкой; они нас поздравили, восхищенные тайной, как фейерверком.
«А теперь?» – мы вышли на набережную; закат погас, с реки дул ветер, пронзительный, как в дни ледохода; «теперь жить»; я поежилась от холода, он обнял меня длинными руками всю, просто невероятно, он был горячий, как глинтвейн, и потом поцеловал; мокро, горячо, незнакомо; со вкусом табака; я провалилась в грех, как под землю. Он нашел машину, мы долго?долго кружили по улицам, как по лабиринту; я не замечала мест, потрясенная поцелуем; потом он обернулся с переднего сиденья и спросил ворчливо, по?стариковски, махорочно: «так где ты живешь? я полчаса жду, когда ты скажешь: да?да, вот здесь». Мы с шофером засмеялись, я сказала адрес; Венсан остался ждать в такси, я поднялась, позвонила, потому что ключи остались с учебниками, в светлом прошлом. Анна открыла; с волосами в бигуди, в зеленом ночном креме, полосатом халате, смешная, страшная; «ты где была?» – завопила, как родитель, заволокла в квартиру; а я рассказывала, задыхаясь от ее рук и счастья. «Ты вышла замуж?» – мы свалились на диван; «да» – «о господи, а как с квартирой? ты переедешь ведь? да?» – «да, но я буду платить, правда, ты не беспокойся, не переезжай, не ищи», – «вот это настоящий подарок жены императора своей фрейлине, спасибо, Фифи; ну так кто он?» «не знаю; его зовут Венсан; актер с твоей площадки; ну, как все прошло, кстати?» – «главный актер куда?то ушел, и все матерились, ничего не сняли после обеда, а я как раз там положительная девушка на улице; он, скотина, должен был всего лишь обернуться мне вслед… погоди, Венсан? а как дальше?» – «как?то похоже» – «Венсан Винсент?» – «да». И тогда она замолчала, встала, запустила пальцы в бигуди. «Анна, что такое? Прости, что я ушла. Что? Что?» – словно она знала что?то тревожное: кто?то упал, разбился, кто?то родной мне, близкий, а я не знаю. «Венсан Винсент – ты знаешь, кто он?» «кто, Анна? парень молодой, старше меня на поколение всего, волосы черные, глаза черные, брови черные, длинные ноги, худой, немного странный, смешливый; ну что не так, Анна?» – словно бабочка билась об окно. «Он очень знаменит и богат, – сказала она чужим голосом, холодным, как на экскурсии. – Сирота. Гениальный актер». «Но ведь ничего пока плохого». «Ничего», – и поцеловала меня в глаза, как мама не целовала, помогла собрать вещи; «Анна, я люблю тебя, желаю удачи» «и тебе, детеныш». Я уже спускалась, стукая чемоданом об стены, когда она окликнула меня: «Жозефина, я всегда помогу тебе в беде, я буду дальше жить здесь; и если что, ты знаешь, куда прийти». Это было странно, как проснуться ночью, чтобы попить воды, может, печенье съесть, и вдруг услышать за окном страшный крик человеческий: «Помогите!» там или «Убивают!»; «Пожалуйста, помогите, люди, прошу вас!» – однажды услышала я еще в доме родителей, все спали, я сидела на краю кровати с бьющимся сердцем и боялась выглянуть в окно; утром на улице никаких признаков отчаяния не нашла – ни поломанных кустов сирени, ни пятен крови, ни клочьев одежды; даже позвонила в полицию, спросила, не случилось ли чего страшного в нашем районе, мне ответили: «нам не сообщали», но крик был такой настоящий… Я шла и все думала, что же значат слова Анны загадочные, как у гадалки; а потом увидела Венсана, подумала, какая невероятная теперь у меня жизнь – в ней есть любовь; и забыла про Анну, как про невыключенный утюг.
Мы ехали в такси, обнявшись, словно прожили вместе уже сто лет в замке, окруженном розами, нас никто не посмел побеспокоить – такие тихие, маленькие; таксист смотрел на нас в зеркало и улыбался, будто ему предсказали нас, что принесем удачу; разноцветье неоновых реклам скользило по лицам; а потом Венсан сказал неожиданное: «Жозефина, можно ты не будешь спать в моей комнате? У меня много комнат в квартире, я в половине даже еще не бывал; ты сможешь выбрать любую – круглую, квадратную, на запад или на юг, с балконом или ванной; просто я не могу представить, что в моей комнате кто?то будет, кроме меня; ладно?» «Хорошо, – ответила я. – Хочу солнечную»; он сжал мне руку и поцеловал осторожно в щечку, словно нюхал незнакомый цветок. Дом был огромен, небоскреб?комплекс; я видела рекламу таких в журналах, где?то среди квартир сразу есть супермаркет, бассейн, салон красоты, бутики, подземные автостоянки; дорогое удовольствие – далеко не ходить. «Ты разве не с опекунами живешь?» «жил, да они устали от меня, разрешили купить квартиру; я к ним обязан только раз в неделю на ужин приходить, в субботу. Бифштекс, картофель фри с красным перцем, фруктовый салат и три вида кекса к чаю. Мне скоро двадцать один – через месяц, так что мы совсем ни о чем не разговариваем, только про погоду и передать соус». В гигантском лифте со скамейкой и ковром поднялись на самые вершины, «двадцать третий» – загорелось на табло; и в коридоре было тихо?тихо. «Как в больнице, слушай, здесь можно разговаривать?» «можно галдеть, весь этаж и следующий – это наша квартира». И мы заулюлюкали, как индейцы в кино, запрыгали; чемодан упал и развалился, раскинул мои свитера, полотенца и юбки, как на пляже.
Квартира и вправду оказалась огромная, точно ангар для постройки самолета. Огромная, очень светлая, как разбавленное молоко, и круглая. Это была башня. В центре квартиры находилась гостиная – без окон, но вся в дверях. Вместо потолка у нее был стеклянный купол, ажурный и матовый, с вмонтированной белой, плоской и круглой, абсолютной, как луна в китайской поэзии, лампой. Из гостиной на второй этаж шла винтовая металлическая лесенка с перилами под стеклянные; лесенка переходила в круглый балкон внутри гостиной – второй этаж, с балкона, по кругу двери вели еще в комнаты. Эдакая ромашка. Мы положили вещи и начали бродить. Квартира была почти пустая. В одной комнате наверху, например, только висело зеркало на стене – старинное, потемневшее, в резной дубовой раме; ключ к разгадке мистических смертей от разрыва сердца в готическом романе. Гостиную на первом этаже на общем фоне «живу аскетом» можно было назвать захламленной: диван из ореха, обитый черным бархатом, с подушкой и пледом в черно?синюю клетку; черный ковер на полу, еще две черно?синие клетчатые подушки, серебристый телевизор на стеклянной тумбе, книжная полка, камин, две картины. На одной – древний Рим, кто?то из классиков, на второй – ночной Париж, стилизация под Писсарро. В комнате Венсана стояла круглая кровать, застеленная черным, висели тяжелые белые занавески, на полу лежал пушистый белый ковер – и больше ничего. Стеклянные двери вели в ванную, тоже черно?белую, как шахматная доска; с круглой ванной на ступеньках. Еще на первом располагалась кухня, вся из себя супер: модернизированная, металлизированная, с кучей посуды из закаленного стекла; и столовая – с длинным черным столом и черно?белыми стульями. На столе были расставлены белые тарелки, белые стаканы, черные салфетки, и по тарелкам кто?то художественно рассыпал синие блестки в форме звезд. По стенам шли натюрморты – очень хорошие – разных художников, разных эпох: фламандские – с дичью, бокалом вина, виноградом; постимпрессионистские – яркие пятна скатерти, солнечные блики; модерновые – на белом фоне ряд одинаковых стеклянных бутылок. На втором этаже – та комната с зеркалом, сразу напротив лестницы, и еще – пустая с балконом, невероятной красоты вид, такой коммерческий, киношный, огни ночного города; рядом с ней вторая ванная, стены выложены мозаикой под Помпеи, и комната – музыкальный салон: черный открытый рояль, будто кит, полки с нотами, черно?белые кресла кружком, второй камин. «Кто обставлял тебе квартиру? Необыкновенно мрачно, вызывающе и элегантно. Ты вовсе не такой». «Ну?у…» – и я поняла, что ему все равно: квартира была данностью; скорее всего, он ее купил готовой и жил только в гостиной и спальне, иногда заглядывая в серебристые холодильник и микроволновку. Я взяла комнату с балконом – киношным видом; «завтра съездим за мебелью», – сказал Венсан; расставила гель для душа, шампунь, ароматические соли и масляные шарики в форме сердечек по ванной с мозаичным полом, но пространство не сжалось до уютного, а только еще больше распалось – на отдельные разноцветные пятнышки. «У меня что?то есть в холодильнике, но можно заказать из ночного ресторана», – прокричал Венсан снизу; «а какая там кухня?» «европейская» «давай закажем»; через час в дверь позвонили и принесли в стеклянных контейнерах три разных салата, мясные рулеты с шампиньонами и зеленью, картофель фри – оказалось, мы вместе его обожаем – и густое черносмородиновое мороженое. Мы наелись до отвала, как на день рождения, я помылась, пока ждали заказ, сидела на одной из темно?синих подушек на полу в гостиной, голова в полотенце, тело в халате; у коленок Венсана, который сидел на диване, босой и взъерошенный, как генерал песчаных карьеров; смотрели телевизор: какие?то безумные космические мультики, сериал про лос?анджелесских полицейских, потом «Секретные материалы»; выключили свет, чтобы бояться, Венсан заснул. Во сне он стал совсем красивым; лицо было усталое и сосредоточенное, словно во сне он разгадывал кроссворд. Я тихо потолкала его, он бормотал что?то про отца Валентина, «…никому не расскажет», про кино: «мне не нравится, не нравится, я похож на Касселя»; подняла его, нетяжелого, отвела в спальню, странную, суровую, уронила на кровать; он упал лицом, я испугалась, но он только повернулся, чтоб дышать, и не проснулся…
Я вернулась в гостиную, досмотрела «Секретные материалы», доела мороженое; начался какой?то ужастик Карпентера – про детей не от мира сего; я отнесла посуду на кухню, выключила телевизор и легла на диван, накрылась пледом. Волосы высохли, полотенце свалилось куда?то вниз, ко дну земли. Было темно и тихо. Сквозь купол сияли, дрожали, словно текли, звезды. Необыкновенная красота и печаль. Будто не было города внизу. Будто городов вообще не было никогда; эти звезды – как гадалки – столько всего видели: смертей, жизней, городов, войн… Спать не хотелось. В какую же странную историю я попала. Это красивая история? Или чем?то тревожная? Будут у нас дети через год? Или мы будем просто дружить, смотреть вместе телевизор, есть мороженое и рулеты? Ты любишь его? Эти вопросы были как Великая Китайская стена – непреодолимы; я повернулась к ним спиной и стала повторять римских императоров по порядку – этот список помогал мне уснуть; добралась до Траяна, как услышала шаги, потом кто?то коснулся моей спины, волос, словно ночная бабочка запуталась. Я завизжала.
– Ты что, это же я, Венсан!
– А подкрадываешься, будто грабитель…
– Нет, это я, Венсан, – и он сел рядом – куда? Темнота невероятная, купол точно накрыли носовым платком из плотной ткани, в ночи бывает такой момент: вытянешь руку – и потеряешь, время для тех, кто делает что?то страшное, использует как прикрытие, варит яды; и можно было только чувствовать – его плечи, нос, тепло, волосы повсюду; от него чудесно пахло: орехами, лугом… – Венсан, – повторил он свое имя, как заклинание, нашел мои губы, навалился всем телом, придавил руку; «ой, больно, ой, щекотно» – «ты что, любовью никогда не занималась?» – «нет, а что плохого?» – «ничего, только невероятно; я буду первым; а последним я буду?» – «Венсан…»; и все сложилось легко, как пасьянс; как пишут в романах: они были созданы друг для друга, потом мы начали укладываться спать, застревали в пледе, свисали с краев; потом мне захотелось пить, потом ему в туалет; короче, заснули мы под утро, а в куполе медленно появлялось небо, космос; и я подумала на прощание с явью: «почему его оставили родители, такого нежного, надменного, слабого; он ведь так и не вырос…» А утром поздним проснулась, полная радуги, увидела, что по куполу течет дождь, свет в квартире серый, а Венсана нет рядом. Закуталась в плед, пошла искать. В кухне нашлась только грязная посуда, в столовой – лишь натюрморты и молчаливые черно?белые стол и стулья. В его комнате открылось окно, ветер раскачивал занавески, они словно танцевали менуэт, а край белого ковра подмок.
– Венсан, – крикнула я, плед?тога?сари, и посмотрела на балкон второго этажа. Одна из дверей была приоткрыта – еле?еле, точно кончиком ножа. Комната с черным зеркалом. Меня зазнобило. В ней?то он и был; лежал перед зеркалом абсолютно голый, белый, клубочком, словно разговаривал со своим отражением или параллельным миром, а из зеркала его поразила молния.
– Венсан, – села рядом на пол, он был весь в мурашках, накрыла его куском пледа, того было много. – Венсан, проснись, – и коснулась его шеи, нежного места. Он медленно открыл глаза, и меня не оставляло ощущение фильма ужасов: сейчас выскочит из?за угла кто?нибудь с криком, окровавленный, в разорванной пополам одежде: «а?а, марсиане, маньяки с бензопилами, спасайся кто может!»; эти секунды открытия глаз и собственной идентификации были такими медленными, растянутыми до осязательности, как у тех, кто ждет – решения, результата, ответа и правды, глядя на песок в часах. Потом повернулся, с усталым, почти старым лицом; будто всю ночь играл в карты с дьяволом на душу; синева у губ.
– Жозефина?
– Ты простынешь. Пойдем вниз – горячий шоколад пить; погода самое то – дождь. А потом поедем в самый большой мебельный магазин и купим мне мебель – такую всю бледно?бежевую и бирюзовую, и немного серебра…
– Я так счастлив, что ты со мной.
И мы спустились вниз, оделись во всякие его пушистые свитера, узкие джинсы – размер у нас был одинаковый, представляете, как круто; приготовили горячего шоколада и тосты, и Венсан позвонил с сотового опекунам: «я к вам сегодня приеду, да знаю, что не суббота, но я женился и хотел вас с ней познакомить… что приготовить? Да как обычно. Бифштекс, картошку, кексы. Она не сидит на диете, она не модель, нет, и не актриса, очень хорошая девушка, из очень хорошей семьи…» – прикрыл трубку: «ты ведь из хорошей семьи?» «да, очень, – проговорила я с набитым ртом, – страшно культурной, все мои родственники – сплошь ученые со степенями, оранжерея просто: филологи, философы, лингвисты и культурологи». «В ее семье все – сплошные ученые с мировыми именами, – послушно повторил Венсан. – Моммзены?» Я кивнула. «Как тесен шарик. Да, она из Моммзенов. Понимаю, что неожиданность, но это любовь с первого взгляда, что мы могли поделать. Знакомы мы… давно… Слушайте, давайте мы приедем и будем отбиваться вдвоем? В семь, как обычно… А, черт, у меня съемки до семи, давайте в восемь?…» Потом он звонил режиссеру, потом еще куда?то; «ты уедешь, да?» – спросила я; «я буду возить тебя везде с собой, если тебе такая жизнь не покажется скучной» «нет, только купи мне книжек по истории»; и мы целовались в лифте. На следующий день газеты вышли со смазанными снимками нас в этом лифте. Видно, кто?то из охраны продал пленку с камеры. А в этот день мы поехали сразу в книжный; меня это тронуло; Венсан опаздывал, телефон у него трещал; но он держал меня за плечо и говорил: «нас нет, есть только мы»; в книжном мы купили целую библиотеку; мне стало неловко из?за денег.
– Ты так обрадовалась этому бородатому собранию сочинений, неужели деньги не зло наконец?то, – сказал Венсан. – Слушай, все эти книги кто?то читает?
– Читают часть книг, постоянно, такой тип книг называется классикой; а остальные – пожалуй, ты прав, сейчас пишут больше, чем читают; а ты читаешь?
– Нет, книги в смысле. Сценарии. Просто среди фильмов редко кто книги читает; даже в качестве антуража; все записки какие?то, маленькие бумажки; счета, – засмеялся, – бедная, наверное, ты в шоке. Зато я страшно талантлив, сам себе на уме, и меня, как Мэрилин Монро, не заморочишь Достоевским и Станиславским; я автомат с кофе: нажимают на кнопочку «с амаретто» – и я выдаю «с амаретто», сбоев не бывает.
Потом поехали в мебельный; там я выбрала вместо кровати бежевый раскладной диван с бирюзовыми и серыми подушками и под него – два огромных кресла, в такие хорошо прятаться, как в домик, когда на улице серо?сыро, с книжкой и чашкой шоколада; наверное, из?за этого утра – до сих пор помню: дождь по куполу, величественно, как «Титаник»; бирюзово?серый ковер, бежевую тумбочку, бежевый туалетный столик, бежевый шкаф, бирюзово?серые занавески, огромного плюшевого медведя и красную ночную лампу в форме губ Мэй Уэст. «Ну ты и маньячка симметричная, я?то пал жертвой готового дизайна, а ты сама себе комнату обставила так, что через пару месяцев меня бросишь, или выпрыгнешь в окно, или волосы в фиолетовый выкрасишь». Потом купили одежду – и ему, и мне; смешали стили и отделы, мужское и женское, все нам было одинаково; казалось, мы встречаемся уже года два, бойфренд, герлфренд, как в каком?нибудь пестром американском фильме; заходили вместе в примерочные, хихикали и даже украли одну футболку – черно?зелено?серебристую, с рекламой немецкого пива. Пообедали в фастфуде – картошкой фри и чизбургерами, шоколадным мороженым; в кафе Венсана узнавали, оборачивались, шептались – оказывается, только что прошел суперфильм с ним в главной роли, что?то средневековое, братство волка, феодалов, они творят что хотят, и ни король, ни Бог им не указ; на кинотеатре через дорогу еще не сняли плакат: Венсан в черном и с мечом, огромные черные глаза, черные ногти, вроде ворона, за спиной луна и какая?то девица с декольте до пупа; «я бы посмотрела», – сказала я. «Я тебе куплю потом кассету, – сказал Венсан, – шикарный фильм, столько железа, я там главный злодей». Потом мы поехали на съемки; режиссер, толстенький и маленький, в джинсах, поношенном свитере, преподнес мне букет красных роз; грохнули бутылкой шампанского, сладкого, ароматного, как свежие фрукты; дали мне складной стульчик, как у художников на пленэре, и мой пакет с книжками; «захотите есть, скажите просто ассистенту, вон тому парню в джинсах – блин, да они вообще?то все были в джинсах, – он вам чего?нибудь добудет». Я поискала глазами Анну, спросила одного из ассистентов, но он пожал плечами. И словно не стало меня; и это правильно. Вы, Артур, как я поняла из эссе, видели почти все фильмы с Венсаном; это были «Дикие банды». Его опять смешно раскрасили, как вчера, при нашем знакомстве: Элвис и французская проститутка; сначала отыгрывалась сцена финальной драки: толпа раскрашенных кожаных парней с одной стороны, толпа джинсовых с другой, в ход шли цепи, палки, арматура, куски стекла; никогда не думала, что это так смешно; постоянно прерывали, подкрашивали кровь, рвали одежду; а потом снимали сцену выяснения отношений с подружкой героя Венсана, девушкой, с которой мы были как два конца таблицы Менделеева – далеки друг от друга по всем параметрам: высокой, грудастой, жгучей брюнеткой, с узкими, как плетка, руками и талией; в черных сетчатых чулках и коже, с алым, как цветок, огромным ртом; она играла плохо, как?то ломко, словно шла в неудобных туфлях по склону; а Венсан… Венсан долго молчал, стоял ко мне спиной, потом начал кричать – так страшно, злобно, замахал руками: «ненавижу тебя, сука, ты разбиваешь мне сердце!» – сломал табурет, кинул в нее второй – и попал, разбил ей лицо, она закричала по?настоящему: «прекратите это! пусть он прекратит! он изуродовал меня!» Режиссер остановил съемку, к девушке?магнолии подбежали ассистенты, пришел врач, проверил лицо девушки, у нее пошел синяк над губой; «извини, Фэй, я куплю тебе торт», – Венсан сел перед ней на корточки, как перед ребенком, мое сердце вспыхнуло, она улыбнулась еле?еле: «черт с тобой, Винсент, будет что вспомнить в старости». Режиссер обернулся на меня:
– Испугались?
– Не знаю, он взаправду ее ударил?
– Да.
– И что теперь будет? Она подаст на него в суд?
– Фэй хорошая девушка; играет средне, но характер золотой, поэтому все предпочитают работать с ней, а не с какой?нибудь надменной дурой. Они с Венсаном друзья, она поругает и простит, – я молчала, истекая ревностью, как горячий пирог – вареньем, к незнакомому миру; какая я наивная; я думала, что все девушки в его мире были ужасны; и вот, встретив меня… Режиссер, кажется, все читал по моему лицу, как дубляж, и развлекался необидно. – Венсан шикарный актер, он для режиссера – как самые роскошные тряпки для женщины… постоянно на грани; я все время жду, что он сойдет с ума, не сможет выйти из роли; и когда он поворачивает лицо после гениально проведенной сцены – вся съемочная группа в слезах, в мурашках – и говорит скучным голосом: «ой, блин, как же жрать хочу, принесите мне срочно бутер с ветчиной» или «в туалет хочу, обоссусь щас прямо», – я испытываю такое облегчение, словно сам поел или поссал… извините за грубость…
– Ничего, – я была счастлива. В моем мире так никто не разговаривал.
– Можно спросить: вы бедная театральная актриса?
– Нет.
– Фотографируете для журналов?
– Нет.
– А кто? Простите, что так груб, но умереть можно от любопытства: как вы встретились с Венсаном? Обыкновенным людям не так просто…
– Я понимаю; но я действительно обычная девушка. Я учила экзамен по истории древнерусской литературы неподалеку отсюда, ждала подругу, она играет, в свою очередь, как раз такую девушку – просто девушку, на которую на улице оборачивается Венсан; Анна Скотт, – но режиссер не узнал, пропустил, как чужое; я вздохнула: вчерашний день был единственным для Анны. – Венсан подошел ко мне, спросил, что я делаю, – так и познакомились; несложно, правда? – и помахала с дежурной улыбкой книгой.
Режиссер долго смотрел на меня, точно вспоминал, зачем пошел на чердак; потом сказал:
– Никому этого не рассказывайте; люди в этом мире испортят вашу историю, превратят ее в шоу, вы сами потом не различите, где правда, где ложь, что в вашей жизни было, а чего нет… Ни вы, ни Венсан не умеете играть по правилам; о нем пишут всякую мелочь, потому что боятся кары небесной; а вот вы… простая смертная, – и ушел, к Фэй, Венсану: «все, на сегодня все».
Венсан обернулся на меня неторопливо, как в замедленной съемке, махнул рукой, улыбнулся, послал воздушный поцелуй; странно это было: действительно, только что он дрался, кричал, ломал стекло – и вот он со мной, мой возлюбленный, с которым я пойду есть пиццу, заниматься любовью; и еще я подумала: вот в чем дело: его боятся, потому что он талантлив до такой степени, что нет границ между настоящим и прошлым, он открывает двери в потусторонний мир, где актеров наказывает Бог – за то, что живут не своей жизнью…
Вечером мы поехали к опекунам Венсана. Они жили как в романах Диккенса: большой краснокирпичный дом с деревянной дверью с огромной круглой медной ручкой, звонком?колокольчиком; вокруг – сад с подстриженными в виде зверей кустами; дом был полон тяжелой красной мебели, густых ковров, портретов и батальных сцен; опекунами же оказались старичок и старушка – припудренные, бархатные, плюшевые; невероятно уютные, невероятно старомодные, невероятно, что именно они опекуны Венсана. Дедушка – нефтяной магнат на покое, бабушка, жена его, была когда?то феминистской журналисткой, но во все это никак не верилось, как в Пиковую Даму днем. Я им понравилась, потому что все ела и нахваливала и была ненакрашенная и в длинной юбке; они спросили, хочет ли Венсан сам управлять делами; «пусть все будет по?прежнему, – сказал Венсан, – Жозефине тоже не до нефтяных акций и войн за нефть, она ученая, у нее завтра экзамен, а через несколько лет – кандидатская, а потом, глядишь, и докторская, и своя кафедра».
– Слушай, а экзамен ведь уже завтра, я его нипочем не сдам. Тетя Пандора меня убьет, а мама… а папа… а дедушка… а дядя Люк… – сказала я уже на улице; он обнял меня тепло и всю, будто накинул на мои плечи легкое пальто.
– Ты смешная, позвони, скажи, что тебе некогда заниматься такой ерундой, как древнерусская литература, потому что у тебя медовый месяц и ты уезжаешь, а за экзамен заплатишь; твоей тете можно заплатить за экзамен?
– Нет, ты что, ее за это из университета выгонят, и семья наша, как церковь средневековая, откажется от нее, как от еретика?альбигойца… А мы уезжаем в медовый месяц?
– Конечно; а ты ничего не хотела менять? Продолжать валяться на диване и смотреть телевизор? Эта неделя – последняя у «Диких банд», мы даже вперед графика идем, потому что главные актеры – я и Фэй – не пьют и не умирают в клубах от передоза… Я думал, мы сегодня вечером, после опекунов, купим карту мира и китайской еды и завалимся возле телевизора выбирать страну…
– Здорово, только я еще позвоню тете Пандоре и поплачу, потому что она скажет, что глубоко во мне разочарована…
– А ты скажешь, что в ней…
– И мы будем заливаться слезами по обе стороны провода…
– Я думал, она сухарь.
– Я мечтаю.
Мы купили карту мира в круглосуточном канцелярском магазине и пакетов десять еды в круглосуточном китайском кафе; «знаешь, я еще никогда ничего не успевал купить днем»; приехали домой; пока Венсан мылся, я позвонила тете Пандоре.
– Тетя?
– Жозефина? Как твои дела? У тебя и твоей группы есть все билеты или чего?то не хватает?
– Тетя… Тетя Пандора, миленькая, знаете, я не смогу прийти завтра на экзамен, я не готова вообще черт знает как… А все дело в том, что я вышла вчера замуж.
Тетя Пандора закричала в свой мир дяде: «Люк, сделай своего Шопена потише, боже мой, можно подумать, ты слушаешь рок?н?ролл!» – и спросила:
– Мама и папа знают? – и я поняла, что тетя Пандора – совершенство, как Мэри Поппинс.
– Нет, тетя.
– Хочешь, я скажу?
– Хочу, тетя. Я сама боюсь смерть как.
– Он неудачная партия?
– Ну…
– В смысле подлец какой?нибудь? Ты не беременна?
– Нет, тетя, просто ужасно влюблена. Он актер, очень известный…
– Какой театр?
– Кино.
– О, это я не знаю. Как теперь звучит твоя фамилия?
– Винсент. Жозефина Винсент.
– Название винного торгового дома.
– Первоклассного или в котором вино разбавляют соседскими виноградниками?
– Очень старого и… пожалуй, что и на экспорт годится.
– Спасибо, тетя.
– Но он хороший человек?
– Он необычный человек.
– Талантливый, в этом?то все и дело?
– Для меня – только молодой и красивый. Но для всех остальных…
– Ох, Жозефина, Жозефина. Ну ты и удивила меня. Да и всех. Я думала, ты проживешь жизнь старой девой, усыновив какого?нибудь негритенка. Ты должна его привести на семейный ужин, ты знаешь? С его родителями…
– Их нет. Есть опекуны. Но они в его жизни мало что значат.
– Так вы еще оба и несовершеннолетние! Где вы живете? У тебя, втроем, богемно, с этой девушкой, розовой твоей соседкой?
– Нет, у него, в очень дорогом красивом высотном доме. Он богат, тетя, он очень известный актер.
– Ну, Моммзены – как монахи, сидят в своем скриптории… Дай номер, я перезвоню тебе, сказать, когда родители придут в себя и когда будет готов ужин.
Я пересказала Венсану разговор с тетей; «суперженщина, – оценил он. – Шэрон Стоун». Мы раскрыли пластиковые контейнеры с едой, кафе было недорогое, но настоящее; запах кисло?сладкого соуса чувствовался за два квартала; упали у телевизора, с «Пятым элементом» по кабельному, на карту пузами и поползли по ней, как два жука по кленовому листу. «Таиланд? Гавайи? Вообще ощерившийся пальмами юг?» «к черту юг, у меня где?то там чуть дядя с тетей не утонули во время цунами», – «дядя Люк и тетя Пандора? правда мило, что я запомнил, как их зовут?» – «нет, дядя Антон и тетя Раиса; он пейзажист, а она искусствовед, смешная кошмарная пара, говорят только друг о друге; они там жили уже год, собрались совсем остаться; типа Гогены; а теперь юг ненавидят» «ладно… галопом по Европам? Рим, Париж, Стокгольм, Осло, Лондон, Кельн, Венеция? цветное стекло, статуэтки Эйфелевой башни; а в Англии купим породистую собаку с бархатными глазами…», – «да, и девочки на улицах, узнающие кумира, на которого мастурбируют, визжащие и бегущие за нашим кебом…» – «да ты испорченная; перестань стервозить, я актер скорее хороший, чем известный; а чтобы не догнали – купим джип», – «джип – плохая машина, в нем не видно мира, его красоты и страданий. Иисус бы никогда в нем не ездил», – «и «Праду» бы не носил… Слушай, а давай поедем в Африку».
– Куда вы едете? – переспросил папа, и без того потрясенный, как буфет с дрезденским фарфором семью баллами по шкале Рихтера. Венсан пришел весь в черном, опоздав на полчаса: «вечеринка по поводу окончания съемок, жаль, что ты не пошла, столько водки»; с белой крысой на плече. «Ты хочешь меня убить или просто обидеть?» – шептались мы в прихожей, как в закоулках Лувра; «я хочу показать, что я иной, поэтому ты со мной будешь счастлива». Родители мои находились в ужасе, таком, почти физиологическом; Венсан посадил крысу на стол, рядом со своим прибором, кормил и ласково называл «Фифи»; «обожаю маленьких и носатых», – улыбнулся родителям в объяснение; «Фифи» – так называли меня все, кто считал маленькой. В самом начале знакомства он сел в кресло, раскинув ноги, в кожаных черных штанах и сапогах в облип, поймал меня за талию, когда я разносила чай, и посадил на колени, поцеловал в шею, отпустил, шлепнув по заднице. Потом вспомнил о подарке, коим оказался подлинник Сальвадора Дали. В моей семье его никто не любил как фанфарона и зазнайку от искусства, а тут еще и такой невероятно дорогой подарок. Настоящий тупик для этикета. А теперь еще и Африка. Родственники уже мысленно скидывались на мой гроб красного дерева с розовой обивкой, думали, какие цветы пришлют в знак сочувствия.
– Мы купим джип, фотоаппарат и кучу растворимой космической еды, возьмем аптечку и прививки сделаем, – а про себя повторяла: «я тебя убью, Венсан Винсент», перебирая способы убийства: классические народные, изощренные японские, хитроумные в стиле семей Медичи и Борджиа. Все молчали, смотрели на него, как на студента, который и без того постоянно прогуливал, а теперь явился на экзамен, рассыпал шпаргалки и вместо ответа несет всякую чушь, смешивая даты и имена, как в миксере, в том числе и имя экзаменатора; одна тетя Пандора реагировала нормально, не хохотала, конечно, но смотрела по?другому – с интересом, как на экскурсии; рассказала мне, как сдала моя группа: почти все тройки; улыбалась, похвалила картину, погладила крысу, спросила, в каком фильме можно посмотреть Венсана; Венсан назвал тот, с плаката: черные вороны, меч и серебряный перстень с волчьей головой.
– Какая ересь, – отомстил мой отец, – мои студенты предложили мне сходить с ними; кто?то из них уже смотрел этот фильм и был в восторге; я им поверил; ушел на середине. Какое невежество, какая чушь. Как можно было придумать такую глупость о шестнадцатом веке – даже не представляю.
– Спасибо, папа, – сказала я.
– Это тебе спасибо, дочка, – ответил он, и я поняла, что могу вернуться в любой момент, надо только позвонить сегодня вечером, объяснить все, поныть немного, сказать, что пересдам экзамены осенью, все догоню…
– А вы специалист по Средним векам? – полюбопытствовал Венсан из своего кресла, ноги опять вытянуты, крыса сидит на самом верху, на спинке, нюхает воздух; где он ее взял?
– Да, – отец защищал докторскую по инквизиции; читал мне на ночь в детстве куски, никто не верит, или говорят: «какой ужас», ищут во мне комплексы, потрясения, но это была фантастика, дети же любят жестокое: я с нетерпением ждала, когда няня искупает меня, и я нырну в кровать, как в море, и придет папа, с тремя парами очков, потому что постоянно их терял, и массой исписанных за день листов, он еще писал на необычной бумаге – зеленоватой, голубоватой, бледно?бирюзовой, атласной, для акварелей…
– А Жозефина специалист по чему? – продолжил расспросы из своего инфернального кресла Венсан.
– Должна была быть по Древнему Риму, как и дед, – отец молчал, мама тоже, дядя Люк крутил головой на нас всех, и тетя Пандора решила взять на себя разговор.
– Тебе нравится Древний Рим или тебе его навязали?
Я подпрыгнула, потому что думала о зеленоватой бумаге, кровати, ночной лампе – это была нежно?голубая раковина; и, может, вернуться к родителям…
– Мне нравится Древний Рим, – и вдруг услышала тишину, меня напряженно слушали, как капанье воды ночью из кухни, голос мой прозвучал звонко, будто камень влетел в стекло.
– Мне тоже нравится Древний Рим, – сказал Венсан и встал, подошел к камину. Надо сказать, что наш дом делился на территории: папину?мамину, дяди Люка и тети Пандоры, дяди Антона и тети Раисы; все части дома были под своих жителей; мы сидели в гостиной моих родителей, заполненной предметами Средних веков: чаши, ларцы, книги, два роскошных гобелена, а над камином висел настоящий двуручный рыцарский меч, он весил двенадцать килограммов. – Я всегда мечтал сыграть что?нибудь древнеримское; с Колизеем, гладиаторами и кострами. Настоящий? – посмотрел на отца, тот кивнул, привстал от ужаса, что еще вытворит Венсан.
– У вас внешность не совсем римская, – вежливо сказала тетя Пандора. – Вы, скорее, действительно средневековый типаж: немного мрачноватый, суровый; что?нибудь про крестовые походы.
– Это я тоже играл, можно? – и, не дожидаясь разрешения, снял меч со стены двумя руками, примерился и как махнул им – легко, вокруг своей оси, словно разрубая свою тень, отказываясь от нее во имя великой легенды, черный, тонкий, сверкающий; воздух свистнул, меч будто ожил, отец вскочил потрясенный, и все вскочили – так красиво это было, поразительно, по?настоящему. Венсан замер в боевой стойке, держа меч без малейшего напряжения, а потом расслабился, улыбнулся нам коварно и ласково, сказал: «спасибо, великолепная вещь» – и повесил его на стенку, точно какую?нибудь невесомую картинку с бабочкой. Потом мы ушли, всех поблагодарив, будто вечер прошел идеально, мама дала нам с собой пирога, мы шли по ночным улицам, смеялись, держась друг за друга. «Где ты взял эту крысу?» «Фэй дала, она их разводит». Потом собрались в Африку, раскидали все вещи по квартире, ели мамин пирог возле телевизора с «Кейт и Лео», занимались любовью, и я все время видела лицо отца – мне незнакомое, обожженное словно, увидевшее то, о чем он и мечтать не смел, – средневекового рыцаря; отец никогда не разговаривал потом со мной о Венсане, тем более о том вечере, но я знаю: Венсан подарил ему вдохновение, дал ему заряд на еще и еще – на всю жизнь – провести ее счастливо – писать о том времени…
Африка, Африка – я думала: Жюль Верн, пятнадцатилетний капитан, песенка о Кейптауне; «ты никогда не играл в приключениях?» – «играл в детстве, юнгу в постановке Патрика О’Брайена; было здорово, режиссер построил настоящий корабль, мы по?настоящему лазали по реям, все руки себе ободрали, мускулы нарастили; а однажды попали в полосу шторма, корабль скрипел, как калитка несмазанная, но выдержал» «ты мой кумир; я обожаю Патрика О’Брайена»; мы ходили по магазинам покупали палатки, надувные лодки, консервы, ярко?красные термосы, высокие шнурованные ботинки, раскрашенные под британский флаг, делали прививки; я перенесла экзамены на осень; а потом долго?долго летели в самолетах, меняли их, как носовые платки в простуду, меня все время укачивало, болтало, как яйцо в кипятке, – хотелось умереть. «Венсан, мне плохо, мне так плохо»; он держал меня за руку, просил, словно с другого конца вселенной, принести мне коктейль: яйцо, водка, черный перец; поднес холодное стекло к моим губам, я отшатнулась, воняло ужасно; «пей, детка, снадобье Дживса»; я выпила, задохнулась, он постучал мне по спине. «Откуда… хр?р…» «что?» «откуда ты знаешь, кто такой Дживс, ты же не читаешь?» «Дживс – это был менеджер одного моего друга, ровесника, тоже актера, он здорово кололся, Дживс приносил ему это, когда тот не мог встать и пойти на площадку после укола»; «а он будет приходить к нам в дом?» «кто? Дживс?» «нет, твой друг, я не хочу» «ну что ты, детка, нет, конечно, я вообще не склонен к общению и светским приемам, я думал, ты уже заметила; да и к тому же он давно умер… но не от этого коктейля»; и засмеялся, обнял меня, прижал крепко, и я летела над землей, над морем, в его объятиях; и уснула…
Привезли нас в далекий тихий город на побережье; большая белая гостиница для белых; все было белое: постельное белье – совершенно невероятное, шелковое, кружевное; белый фарфоровый сервиз для завтрака; белые ковры, мохнатые, как персидский котенок, ворс доходил мне до щиколотки; белые лестницы, белые ванные; белый песок, крошечный, прозрачный, как сахар, на пляже; белые зубы и передники прислуги. А где же Африка? Костер, шляпы с вуалью от москитов, рык льва вдалеке, ружье между ног, джунгли, гуашевые огромные попугаи? Зачем нам тогда все эти вещи из магазинов?сафари?
– Я же предлагал – давай купим джип. А так мы всего лишь ленивые роскошные янки?захватчики…
– Да, – и я расстраивалась, раздавала огромные чаевые; легче мне стало, когда мы, гуляя по пляжу, вышли на деревушку из бревен и соломы; там жили рыбаки и их семьи; мы купили целую корзину совершенно ненужной нам рыбы – но такой сверкающей; нам улыбались, нам были рады; «давай каждый день у них рыбу покупать» «а потом уедем и разрушим им новый экономический строй» «злюка; кстати, хочешь ухи? я умею» «откуда? ты же книжный червь» «я все детство провела в лагерях, там нас постоянно учили чему?то экстремальному» «да уж, представляю, насколько экстремальная уха, давай». Вечером мы надели наши британско?имперские ботинки, москитные шляпы, взяли уголь и спички с зелеными головками, ушли на пляж, развели костер, повесили над ним котелок, накидали туда заранее почищенной в беломраморной раковине рыбы, перца, укропа и всю ночь варили, разговаривали; потом ели, получилось, кстати, вкусно. На рассвете мы занялись любовью, и я порезалась плечом о необыкновенно красивую ракушку – бледно?бледно?розовую, с таинственным голубоватым отливом в глубине, словно там что?то находилось ярко?синее внутри и мерцало – в зависимости от силы лунного света; мы положили ее, с моей кровью на острие, на высокий камень, а потом забыли; «ой, жалко», – вспомнила я вечером; мы уже сидели в номере, нам строго?настрого наказали не выходить – штормовое предупреждение; мы открыли балкон, белый тюль вился внутри гостиной, как призрак, пронзительно пахло солью, йодом; а мы играли в карты на пирожные, заказали целый поднос, самых разных – корзиночек и эклеров, с виноградиной, с персиком, с бледно?желтым и розовым кремом, шоколадных, уже ужасно объелись; «я схожу, возьму, она наверняка все еще на камне», – сказал вдруг Венсан. Африка не шла ему, словно пиджак, он был все время бледным и без сил, шутил, но редко, все больше молчал, дышал часто, будто ждал дождя. «Не надо, шторм ведь» «я быстро, еще не началось», – и ушел; я осталась так внезапно одна, с развевающейся белой занавеской на всю гостиную. До сих пор помню, как она летит по комнате, поверх кресел и столов, под самый потолок, а потом погас верхний свет, и по лепному полотку побежали струи дождя и молнии. Стены задрожали. Море гудело, словно в нем шел тяжелый стальной корабль, и морю было тяжело. Я сидела неподвижно на огромной кровати для молодоженов, со спинкой в форме сердца, и была одна, маленькая, в чужой далекой стране, и мой возлюбленный ушел искать прекрасную раковину, и его унесло морем. Шторм бил всю ночь, и Венсана всю ночь не было. Утром, сверкающим, как стекло, я спустилась в фойе, позвала управляющего. «Шторм прошел, госпожа, все хорошо, можете погулять по пляжу – приносит очень много интересных вещей: в прошлом году одна дама нашла бутылку с запиской, восемнадцатый век…» – «Мой муж пропал, – сказала я, – он ушел на берег перед штормом, мы забыли на пляже туфлю, ему это показалось важным – ее вернуть, и исчез, не вернулся, понимаете?» Он побледнел сквозь загар цвета «Эрл Грея», побежал звонить. Вся гостиница встала на уши, как при пожаре. Я не ела, не пила, не спала, не мыла голову, не меняла одежды – его белой рубашки и черных бархатных бриджей; сидела на кровати, раскладывала пасьянс «башня», люди заходили и говорили, что еще не нашли его; говорили, в каком фильме видели его, часто совсем маленьким, говорили, что он замечательный человек, необыкновенно талантливый, и что он обязательно найдется, укрылся, наверное, в одной из прибрежных деревень. Мне казалось, что я статуя, из белого фарфора, и если кто толкнет меня с кровати, то я разобьюсь. Его нашли на третий день, на пляже, всего мокрого, в водорослях; словно его носило по морю, потом пожалело и вернуло мне – насовсем ли…
Его принесли на руках эти, цвета кофе, шоколада, рыбаки, у которых мы купили рыбу. Бледный?бледный, будто весь цвет, кроме волос и бровей, с него смыло; без сознания, холодный, сломанный. Его подхватили управляющий и врач, отнесли в наш номер; я протянула рыбакам денег, они отказались, пытались что?то объяснить управляющему; он понял, и лицо его стало злым, как у деревянных богов. «Что? Что они сказали?» – я стояла босиком, в посеревшей от пота рубашке, со слипшимися волосами; в зеркале отражался гном; было страшно, как в подворотне; «идите в номер, госпожа». Там находился врач; Венсан лежал в постели и сливался с ней, уходил в нее, как в воду.
– Он услышит меня, если я позову его? – спросила я врача.
– Нет, он крепко спит.
– Спит? Я думала, он без сознания, без памяти… Вы что?то дали ему?
– Вот именно что нет. Никогда с таким не сталкивался. Человека как минимум сутки носило по морю, а он спит, как наигравшийся ребенок.
– У него рука сломана? – я увидела перевязку.
– Да, и два ребра. И трещина в одном колене. Он упал на камни. Проспит, наверное, до вечера, вот мой телефон, сразу позвоните, я приду. Надо проверить его память, – и ушел, славный?славный доктор, добрый, как детский; он ни разу не сказал про славу Венсана, просто перевязывал его, рассказывал аналогичные случаи из практики, про своих детей, показывал их рисунки – как у всех детей в мире: солнце, трава, папа, и мама, и они, дети, держащиеся за их руки… «Я тоже такие рисовала», – сказала я потом Венсану, он ответил неловко и жестоко: «а у меня не было родителей и карандашей». А тогда я просидела возле него весь этот день и ночь; когда она началась – он очнулся.
– О, Жозефина, – произнес он ласково, точно нашел меня в игре в прятки за креслом.
На столе стоял ужин; «будешь?» – спросила я. Он попытался встать, наткнулся на свои переломы. Я помогла ему, подложила подушки и почувствовала нежность, такую дикую, что захотелось сломать ему нос.
– Венсан, скажи, я красивая?
– Да, – сказал он и взял свободной рукой бутерброд с гусиной печенкой и огурцом.
– Нет, я же некрасивая, посмотри на меня! – закричала я. – Я трое суток ждала тебя, думала, с ума сойду, как русская баба, не мыла голову, не чистила зубы, не переодевалась, изгрызла ногти под корень, а ты врешь, будто я красивая! – и стукнула его по здоровой коленке кулаком. Он ойкнул и уронил бутерброд в постель.
– Дура.
В Африке мы прожили еще месяц – пока заживали его рука, ребра и колено. Все даты жизни и все свои фильмы он помнил; и, казалось, все в порядке; если не считать разговора с полицией с глазу на глаз. Меня никто не обидел, наоборот, принесли невероятно вкусный кофе и рассыпчатое печенье; «моя жена печет, научилась у жены миссионера», – сказал инспектор; дело было в том, что аборигены видели Венсана во время шторма вовсе не в море, а в лесу. Трое суток он там жил и охотился, сидел у костра, пел страшные песни; «они его очень боятся, повторяют: «Страшный человек, странный человек» – то один, то другой; он переспал с одной из их женщин – легкого поведения, поэтому они не переживали. Полез на дерево за плодом и упал; они думали, что он умер, но он очнулся через час, побрел к морю, шатаясь, будто пьяный; и упал в него, и его понесли волны, вот тут они подумали: точно умер; но его принесло еще через несколько часов обратно приливом». «И что мне делать с этой историей?» – спросила я инспектора. «Посмотрите за ним – вдруг он болен чем?то хитрым, в мозгу, и это можно найти и вылечить». Я шла по пляжу, неся недоумение в себе, как стакан с горячим, вот?вот уроню, пальцы не выдержат, и вдруг увидела эту раковину – розовую с голубым; опал и сапфир; она была все еще на камне, продержалась весь шторм, исчезновение и лечение Венсана; свидетель преступления; «смотри, что я нашла»; он бегал по номеру, разговаривал по сотовому с новым режиссером; обернулся: «ага», и все. Я надулась, как воздушный шарик, села на кровать; «чего ты, заяц?» «ты забыл про раковину». «О, это та самая, о которую ты порезалась? Я думал, просто еще одна большая раковина, вы с ней стояли на свету, не увидел, прости», – такой идеальный, такой принц; я упала ему на плечо и простила, забыла, решила: неправда…
Мы вернулись в дождь; все покупки в складках, их и не вынимали; «ну, хоть загорели чуть?чуть», – «никто и не поверит, что мы лето прожили в Африке», – «а мы никому не скажем» «скоро осень, у меня экзамены», – «а у меня фильм». Я навезла всем подарков: ткани, статуэтки, маски, чашки, свитки – всем родственникам, Анне; но все было лень позвонить. Он читал сценарий в своей комнате, я – книги в своей. «Хочешь чаю?» – кричали мы друг другу; я спускалась на первый этаж, мы ставили чайник, включали телевизор, смотрели шоу и клипы, делали бутерброды с докторской и майонезом или заказывали сложные французские блюда из ресторана; а иногда говорили: «пошли в ресторан!» – и шли, но не в этот, в доме, а в круглосуточную китайскую кафешку, где когда?то брали еду, кисло?сладким пахло на весь квартал. Ходили мы всегда ночью; это было красиво: горели два красных фонарика над ступеньками, и шел дождь – холодный, прямой, как разговор о деньгах; мы в одинаковых белых куртках с капюшонами. Венсан умел есть палочками; в этом кафе они были из светлого дерева, с резьбой; а я нет, и он учил меня, и официант?китаец; но я оказалась бездарна, и мне приносили вилку. Вообще, это было счастливое время, сходились все пасьянсы и звезды. Венсан стал собирать для меня свои фильмы; а съемки нового начались в конце августа, он был про Русско?турецкую войну. Венсан взял себе роль второго плана – турецкого вельможи: хитрый, колючий взгляд, красный шелк, изогнутый меч, пистолет с золотом, ромашка в зубах – рекламные фотографии уже обошли толстые глянцевые журналы. «У тебя в семье нет специалистов по русским войнам? чтобы можно было с ними помириться; мы, кстати, можем оформить как официального консультанта, знаешь, хорошие деньги платят»; я засмеялась, Венсан обиделся: «ты смеешься из?за денег? в твоей семье их презирают, потому что они управляют миром, а не вечные ценности и космический сенат? а я люблю деньги, они дают мне счастье думать самому»; «нет, просто это совпадение; мой дядя Лео действительно изучает русские войны, он писатель, пишет исторические детективы, и археолог, весь его дом завален всякими черепками… просто я боюсь, что он не согласится, он живет очень замкнуто, с семьей почти не общается; я его ужасно люблю, почти как мужчину, он молодой, рыжий, и глаза удивительные – золотистые, как подсолнухи». Но все?таки я позвонила, дядя Лео согласился; они познакомились, и Венсан ему понравился; «он очень цельный, очень талантливый, не знаю, почему он выбрал тебя, ведь ты совсем молодая»; но не обидел меня, я тоже задавалась этим вопросом…
– Жозефина, я схожу за сигаретами, – крикнул он снизу, я читала нечто потрясающее – «Турецкий гамбит» Акунина, который дядя Лео дал Венсану; Венсан сказал: «прочитаю», но я перехватила; «купи мне “Марс”», – «ладно», – и хлопнул дверью; я посмотрела на время: час ночи; еще пара страниц про воздушный шар, двадцать страниц тетиной древнерусской литературы; а потом я поняла: Венсан опять ушел, исчез… Я бросила книгу, натянула свитер, надела носки, потом заставила себя вернуться к исходному положению, лечь на кровать: он просто пошел за сигаретами… просто пошел за сигаретами… просто пошел за… стрелка дошла до двух, когда входная дверь внизу опять хлопнула. Ффу…
– Ты принес мне «Марс»? – он не ответил. – Венсан, ты купил мне «Марс»? Ну, если не купил, то не страшно.
Но он не отвечал. Выключил телевизор, и я услышала его шаги. Совсем другие, словно он сменил ботинки – с легких кроссовок, в которых обычно ходил ночью, на классические черные тяжелые. Еще он пел и с кем?то разговаривал – тягучим, полным согласных голосом, звал по имени: «Тиберий, жрать»; и на кухне зазвенело, упало что?то, стукнулось. Я встала с кровати. Тиберий? Нашел собаку, привел в дом, наливает молока? Приоткрыла дверь комнаты: он стоял внизу, в гостиной, а перед ним и вправду сидела собака – огромная, черная, почти Баскервилей, гладкая, блестящая, как мокрый асфальт, совсем не бродячая, наоборот – аристократ; и ела из миски гору корма.
– Венсан, – позвала я, спустилась на пару ступеней. Но он не обернулся, не поднял головы. Зато меня услышала собака и зарычала. – Что это за собака? Если она тебе нравится, понимаю, она красивая; но я девчонка, я таких боюсь.
Он развернулся резко, будто в него кинули кинжал. Он переоделся – в черный костюм, почти смокинг, из толстовки с «Нирваной» и легких синих джинсов.
– Кто вы? – спросил он, новый. И я поняла: это не Венсан.
То есть это, конечно, был Венсан – и в то же время не он. Словно кто?то вселился в него, взял взаймы его внешность – повесть о похитителе тел. Сказал, мол, на рассвете встретимся, а Венсану дал тело старика?бомжа, бывшего профессора, или ребенка?идиота и одновременно математического гения, или поэта, полного золотых слов и опиума; а может, вообще отправил в прошлое – смотреть на войны, походы, чуму, революции, чтобы он мог лучше сыграть. Дух же, взявший на время тело Венсана, моего парня, с именем цвета зеленого чая и фамилией как марка дешевого виски, был… был недобрым, как органная музыка.
– Кто вы? – повторил он еще раз и начал подниматься ко мне по ступенькам. – И что вы делаете в моем доме?
– Я… это не важно. Я жена Венсана, он здесь живет, – пока мне было не страшно, вдруг это игра или нелепость, так ошибаются в толпе.
– Венсана? Я живу здесь много лет, и иногда в телефоне спрашивают Венсана, я говорю, что не туда попали. Понимаете, вы не туда попали. Вы проститутка?
– Нет… – я шагнула назад; думала, там пропасть, яма, прикрытая хворостом, открытый люк в городские катакомбы, а там оказалась ступенька наверх. Он же шел на меня снизу, и я видела, что все другое: глаза, брови, складки у губ, сами губы; что он сделал с Венсаном, где Венсан?
– Я иногда привожу сюда проституток, но жить с женщиной… это мерзко… – словно пауки и лягушки падали из его рта, красивого, но надменного; сказка братьев Гримм про хорошую и плохую сестер; книга про Дориана Грея; два портрета в одном; обложка «Кода да Винчи» – стереокартинка, когда у Джоконды два лица – ее и череп…
– Я уйду, – сказала я. – Вот так, как есть: в носках, домашних джинсах в пятнадцать дырок и в свитере; пойду по дождю, забуду дорогу сюда, только уберите собаку и скажите, где Венсан? вы убили его или только ранили?
И тут он ударил меня; в грудь; как выстрелил из ружья; я влетела в стену – упала одна из повешенных мной фотографий; черно?белая, тот самый рыбацкий поселок; упала мне на голову, обсыпала стеклом; а он ударил меня еще раз, в лицо, кулаком, будто я не девушка, а картон, за которым золото; больно было до черноты, до сверкания, как рябь на море от солнца; потом он потащил меня в комнату с зеркалом; я кусала его за пальцы, крутилась, визжала – меня в жизни не били; а он был такой сильный, словно огромная рыба, уронил меня на пол, содрал всю одежду. «Венсан, Венсан!» – кричала я, будто он мог услышать меня из глубин этого существа, лечь со мной рядом на пол, повернуться, сказать: «О, Жозефина!» – словно нашел меня только что за шторой и теперь мне водить; но Венсан не появился; «кто ты?» – спросила я, разбитая, когда он встал надо мной, черный, тенью, как огромные крылья; «Дамиан Гессе», – услышала я из зеркала, ударила по зеркалу: «кто ты? кто? будь проклят»; потом он отпустил меня, ушел к своей собаке, на кухню, включил миксер. Я вышла на этаж, полный электрического света, посмотрела в лицо камеры под потолком, показала фак; зашла в лифт; внизу никого не было, словно Дамиан их всех убил: охранников, сигнализацию; вышла на полную воздуха улицу. Шел дождь, тихий, мелкий, воздух был плотным от него, как кисель; а я будто оглохла, будто тонула, кровь текла из носа, из губ, с рассеченной брови; поймала такси; таксист охнул и хотел уехать; «пожалуйста, это несчастный случай, я вам заплачу, я ничего не испачкаю»; он остановился, разрешил мне сесть: «может быть, вас отвезти в больницу?»; и вдруг мы с ним узнали друг друга: это был тот таксист, который вез нас с Венсаном с венчания. «Отвезите меня домой», – и он повез меня к Анне; помнил; это было необыкновенно, я начала плакать так же тихо и мелко, как шел дождь, все лицо сразу адски разболелось. «Я поднимусь, возьму деньги…» «нет, не нужно, просто оставайтесь живой»; и уехал; я поднялась по темной лестнице – лампочки то били, то воровали в первый же день, как чья?то добрая душа тратилась и вкручивала, – и позвонила; только бы она была дома… Анна оказалась дома; опять в халате, в креме; узнала, закричала, втащила меня в крошечную прихожую, под ноги мне попалась белая пушистая кошка?экзот, вместо меня друг.
– Это он?
– Кто? Ты знаешь кто, да, Анна?
– Да, прости, – она села было на стульчик, но тут же спохватилась: – Боже, боже, бедный мой ангел, зайчик, – поставила греть воду, вытащила вату, пластыри, зеленку, водку; меня отмывали, потом заклеивали; и я все время повторяла: «Анна, ну почему ты не сказала?» – А что? Что я должна была сказать? Этот парень – ассистент, в которого я тогда была влюблена, – видел однажды на улице Венсана с огромной черной собакой, всего разряженного в Гуччи, Армани, подошел к нему здороваться, и тот его послал, чуть не затравил. И все повторял: «Я не знаю, кто такой Венсан Винсент, я Дамиан Гессе». Парень боится Венсана с тех пор до полусмерти; однажды мы напились, сплетничали об актерах, и он рассказал, правда, никак не мог понять, что же это было, – ведь Венсан всегда такой простой…
– Значит, все это знали? И кто, черт возьми, такой этот Дамиан Гессе? Откуда это имя? Ты мне волосы склеила…
– Никто не знал. Извини. Кроме меня, Андрей никому не сказал. Очень испугался. А Дамиан… это его первый фильм. «Голоден как волк» – ты никогда не видела? Он очень известен, классика ужасов… Венсан играл в нем… сына дьявола.
– Он говорил об этом фильме, сказал, что достать его невозможно и ему в нем лет семь…
– В любом прокате стоит.
Она заварила мне чай, набрала ванну; «спасибо, Анна, ты мой лучший друг; знаешь, я ведь тебе подарок привезла из Африки: такую классную ткань и ожерелье; только я не знаю, смогу ли теперь его забрать…» «не плачь, заяц, купишь мне в соседнем супермаркете что?нибудь к чаю»; но я выла и выла, в ванне, полной лавандовой пены, из меня выходили: кровь, злость, отчаяние, страх – все, что бродит по темным улицам.
– В нем живет его первая роль? Это же бред, Анна…
Утром я отправилась искать того священника, отца Валентина; «может, отоспишься? ты ужасно выглядишь»; но мне было все равно, как я выгляжу. Лишь бы это была я… В церкви шла служба, я спряталась на последнем ряду, кого?то отпевали; стояли родственники, все сплошь женщины, в черном, в вуалях с мушками и с перьями, будто начало века; гроб вынесли, все вышли, и служка, тонкий, изящный, как клевер, мальчик, начал гасить свечи; «скажите, отец Валентин здесь?» «да», – ответил мальчик и не удивился моему лицу, словно каждый день к ним приходили еле выжившие в катастрофах.
Отец Валентин не узнал меня:
– Да, чем могу помочь?
– Вы не узнаете меня?
– Нет, извините.
– Я девушка, с которой вы повенчали Венсана Винсента. Его вы, надеюсь, помните?
Он побледнел, сжал мне руку, точно поскользнулся, сел и посадил рядом на скамью.
– Боже. Это… это Дамиан сделал с вами?
– Да, отец Валентин.
– Это ужасно, – он сгорбился, схватился за спинку соседней скамьи. – Простите, мне плохо…
– Кому хуже, мне или вам, отец? Почему вы не сказали мне, почему не сказали: беги от него, он дьявол.
– Он… он давно пришел ко мне, просил помощи, он знал, что с ним… Я провел обряд изгнания, но это не помогло. Он оставлял у меня вещи, чтобы переодеться, и собаку.
– Вы знакомы и с тем и с другим?
– Да.
– И кто же вам больше нравится?
– Вы жестоки, потому что вы молодая.
– Потому что у меня разбито сердце. Почему вы не отговорили меня?
– Я увидел, что он счастлив… Он сказал мне, что полюбил вас с первого взгляда, вы смелая и чистая, и, наверное, это поможет. Дамиан не способен на любовь. Он тщеславен, любит вещи, но не людей.
– Но как же вы могли… Любовь – это же не аспирин. Вы чудовище, сродни Дамиану, – вырвала свою руку из его большой, худой и теплой, убежала; так я и не узнала, что за человек был этот отец Валентин, откуда он, какой священник, и как им стал, и что случилось с ним дальше; но церковь его была всегда открыта – это говорит о том, что он готов был ко всему: и к свету, и к мраку – настоящий человек…
Прошел почти месяц; я отлеживалась у Анны, Анна же набрала мне книг в библиотеке по списку; «тяжелые какие, – вся такая в мини?юбке, высоких сапогах, – а парней?то симпатичных в библиотеке нет»; я засмеялась, ойкнула, губа до сих пор болела, еще у меня треснул зуб, оказывается; если бы не боль, иногда не дававшая мне спать по ночам, как лунный свет кому?то, – то Венсана словно и не было в моей жизни. Я положила книгу на пузо, поставила рядом вазу с вафлями, в глубине квартиры зазвенел телефон. «Анна, возьми, мне лень»; она собиралась в ванную, потом на свидание, подошла голой, побледнела: «это он»; «кто?» «Венсан; возьмешь?» Я думала и думала, а она все держала трубку, высокая, красивая, потом топнула ногой: «мне холодно»; и я протянула руку за телефоном: а вдруг я больше никогда его не услышу… «Невероятно, он помнит, как меня зовут, он сказал: «здравствуй, Анна»», – ушла она в ванную потрясенная, все?таки он был главным героем, а она – эпизод…
– Привет.
– Привет.
– Это я, Венсан.
– Я знаю.
– Как твои дела?
– Учу экзамен.
– Тети?Пандорин?
– Да.
– Он очень сложный…
– Немного.
– Сложный. Я сижу в твоей комнате и читаю твои книги. Ты такая умная. В них столько всего.
– Приятно.
– Просто он не может зайти в твою комнату.
– Дамиан? Ты его видел?
– Да, сначала в этом черном зеркале, а потом в коридоре. Дамиан… Забавно. У него имя моей первой роли.
– Считается, от нее ты и сошел с ума.
– Я понял.
Потом молчали долго, а в трубке щелкало, словно мы были не в одном городе, а очень далеко друг от друга, три дня на поезде, и еще автобусом…
– Жозефина? Ты здесь?
– Да.
– Скажи… Ты ко мне не вернешься?
– Нет.
– Почему?
– Мне страшно.
– Мне тоже страшно. Но ведь ты любишь меня?
– Да, я очень сильно люблю тебя.
– Так почему же это не помогло?
– Я не врач и не священник. Я обыкновенный человек.
– Одни мои опекуны отдавали меня врачу. Он ничего не нашел. Сказал, что это они параноики. Они были очень верующие и увидели во мне дьявола. Врач сказал, что это их предубеждение из?за той роли… А священник… Я пришел к отцу Валентину, попросил помощи, все рассказал ему. И Дамиан пришел к нему, будто почувствовал… И он не помог. Ему не хотелось. Он радовался власти над нами. Дамиан нравился ему больше, чем я. С ним он вел долгие беседы о Боге и дьяволе. А я… я обыкновенный человек.
– Прости меня, Венсан. Но я не могу.
– Я понимаю тебя, милая. Но ведь ты любишь меня и всегда будешь любить?
– Да.
– Жозефина… а ты выйдешь еще потом замуж?
– Не знаю.
– Скажи «нет».
– Нет, не выйду.
– Жозефина, еще обещай, что будешь много путешествовать, тратить денег, поездишь по Африке на джипе, купишь книг, целую библиотеку, и драгоценностей. То, чего у нас не было.
– Обещаю.
– Ну ладно, пока.
– Прощай. Венсан.
– Прощай, Жозефина.
Утром Анна пошла брать газеты, потом на кухню, пить под них чай, и закричала; я подумала: мышь, одна у нас уже была; съела все крупы; мы ее поймали в клетку, пушистую, отнесли в зоомагазин; «ты чего орешь?» «нельзя, не смотри на это»; конечно, я выхватила из рук; там была фотография, а что на ней – и не поймешь сразу: Венсан выпрыгнул из окна. Огромные заголовки черным и красным, словно агитационные плакаты: мол, бросайте курить, бей буржуев. Ужасно. Это было окно моей комнаты. Всякие подробности: разбитое зеркало, разбитые вещи, одежда вся в краске… Мои родители мучили?мучили меня и бросили, потому что я молчала как партизан. Это была настоящая война, холодная и мировая. Кто я такая? Жена Венсана. Без детей, восемнадцать лет всего, а мне досталось огромное наследство. Я потратила его так, как обещала; сдала экзамены, окончила университет, получила свои кандидатскую и докторскую, побывала во всех странах по карте: на джипе, на яхте, на велосипеде; и у меня огромная библиотека, Вавилонская; с лабиринтом, витражами, как в книге Эко. А замуж я больше не вышла. Не потому, что обещала, а потому, что никто из парней мне так и не понравился. Венсан был само совершенство. А этот Дамиан… казалось, что Венсан придумал его сам в детстве, которое прошло очень одиноким и знаменитым, – чтобы было с кем болтать и тратить эти деньги. Каждую субботу я ходила на ужин к его последним опекунам, узнала, что их было почти тридцать – и никто?никто из взрослых не удосужился с ним поговорить; замечали какие?то странности, или что?то случалось, неприятное, как запах горелого, – все?таки Дамиан вылазил, как морщины; заминали, шептались и передавали по рукам. Гаспар Хаузер… Я собрала его детские вещи по всем, с кем он жил – «Вы его жена? О?о…» – хоккейные клюшки, коньки, клетчатые рубашки, белые свитера, джинсы с дырками, пальто и куртки, в карманах какие?то записки, фантики, скрепки, есть даже школьный дневник, в пору, когда он пытался учиться, и пара тетрадей по математике, с рисунками – острый профиль соседа; и множество детских фотографий, на одной он с черной собакой… Хранится это все у меня в коробках на антресолях; никогда не вытаскиваю, не плачу, просто положила лаванды, багульника и берегу – историю, как расписанный от руки антикварный елочный шар. Только ваша статья заставила меня расплакаться, тронула, как потерянная варежка; так не бывает, подумала я, кому?то он еще интересен; села и написала это длиннющее письмо. Удачи вам, молодой мой мальчик, пусть ваша жизнь будет необыкновенной. Жозефина Моммзен».
Артур уронил листы на стол, глаза нестерпимо болели, почерк у госпожи Моммзен тот еще, словно книга на восточном языке, который близок твоему, но о смысле трети слов приходится догадываться, фантазировать, перечитывать, как Павича. Сколько времени он здесь сидит, как в музее? Все ушли; наверное, по улицам бредет рассвет; «кофе по?венски, пожалуйста»; новая официантка, сменилась, волосы русые, завиваются, как виноград, мадонна Литта. В «Красной Мельне» все чашки из глины, пузатые, красные, представляется, из таких Тиль Уленшпигель и Ламме Гудзак пиво потягивали; здесь подают кофе; Артур греет о бока кружки замерзшие кончики пальцев, словно пришел с зимы. Но народу, оказывается, полно; задевают локтями, утащили из?за столика все стулья; день рождения чей?то, художники, в толстых свитерах, грубых джинсах, заляпанных красками; «я же не хожу с плакатами премьер, – думает раздраженно Артур, – или в толстовке с Расселом Кроу; тоже мне, пекарь белый, весь в муке, кочегар черный, весь в угле…» Письмо бурлило в нем, как океан, – хотелось расплескать, облить, поделиться, как хлебом. У стойки стоял Юрген, чужой совсем, оранжевые конверты «Кодака» рядом, черный свитер, перхоть на плечах, стакан с «Кровавой Мэри»; ждет заказ, в общем веселье не участвует, просто пришел поесть. «Привет, ты откуда?» «из Чечни, из Хорватии; пустоши, разрушенные земли; из Египта, не ходите, дети…» – обгорелый трогательно нос. Наконец сквозь общий ор и локти принесли заказ: отбивная с яичницей, картофельный салат; ест, пьет, как паровоз; Артур ковыряет «Цезарь»; «ты куда сейчас?» «домой, наверное, снять ботинки, поспать».
– У меня дома водка есть, «Мягков», красная, пошли пить, фильм ужасов посмотрим.
– Не, я только с дороги, и еще слышал, ты живешь с парнем, а я с пидорами в их доме не пью.
– Тупой ты. Юрген, я тебе не секс предлагаю, ты мне не нравишься; посмотри на себя, неряха; я хотел с тобой фильм ужасов посмотреть, тот, старый, «Голоден как волк», помнишь, мы разговаривали?
– А?а, черно?белый… Я засну; а в чем дело?
Артур показал письмо – уже смятое, как одежда из тонкой ткани, в которой проходили весь день, устали.
– Это от жены того актера, что сошел с ума и выбросился из окна; оказывается, окна ее комнаты; но все так сложно, так красиво, как вальсу учиться…
– Как она узнала о тебе, а ты о ней?
– Она написала мне в ответ на мою статью о нем.
– Круто; она старая, наверное; лыка вяжет?
– Вяжет. Крестиком вышивает почти… Она не актриса, не моделька… я вообще не задумывался никогда, кем могла бы быть его жена. Ее дед за историю Древнего Рима получил Нобелевскую премию. И она тоже историк, преподает где?то в университете; за тридевять земель. Я словно влюбился. Мне кажется, что я поднимусь сейчас по лестнице из «Красной Мельни» – и попаду не на улицу Святого Каролюса, с фонарями, тополями, «тойотами», а в какой?нибудь красный, с закатом, с каменной мостовой Лондон конца девятнадцатого века, и там по Уайтчепелу Джек Потрошитель бегает; или шагну со ступенек – и сразу в космос, во Вселенную, в звезды, упаду в невесомость, поминай как звали, «Аполлон?13»…
– Напишешь ей?
– Нет. Не знаю. Зачем? О, спасибо вам за письмо, за откровенность. Она не ждет от меня ответа. А мне сказать ей нечего. Я скучный. У меня скучная молодость.
– Ладно, тогда путешествуй и отправляй открытки из разных мест с видами соборов.
– Буду.
– Но теперь?то не скучная.
– Теперь нет. Чудесная история со мной приключилась, правда? Положу письмо в ящик стола, потом другими бумагами завалю, вырезками из журналов, забуду; а потом окажется, что она была самая главная – за всю жизнь.
New religion
«Белая женщина, похожая на лампу и луну одновременно, мы встретимся с ней в городе, полном серебряного дождя… каждый в этом городе богат, но не настолько, чтобы все проиграть в казино…» – это была последняя песня, которую Кай поставил в эфир в свою смену – на маленькой FM?радиостанции для большого ночного города из песни, из рекламы, из фильма вроде «Ворона» или «Город грехов»; Кай думал порой: это мир порождает песни или песни переделывают под себя мир? – постмодернизм, чудно это все; потянулся в кресле, спина хрустнула, как крекер. Матвей опаздывал, накидал на старый студийный черный пейджер кучу сообщений типа: «Извини, опоздаю, знаю, что б…ь, но она все никак не уходит, классный секс»; Кай смеялся, пил кофе – молотый «Якобс», в шкафчике красные чашки из глины и корица в пакетике; «Кай, а?а, я еще опаздываю, нет такси». Потом приехал – мокрый, красивый, густые широкие брови, карие глаза, румянец на все щеки, большой рот, руки тонкие и белые, совсем женские, бордовый свитер с горлом, темно?синие старые джинсы; «курить?»
…Радиостанция «Туман» – это старый маяк; огромный, кирпичный, несколько щелей?окон без стекол, с дивным видом на море и камни внизу: русалки, принцы, корабли, полные сокровищ, Айвазовский, О’Брайен, самоубийства, вечность – пока поднимаешься по тонкой черной металлической лестнице винтом на самый верх, алтарь света – стеклянный зеркальный фонарь для огня был цел, но не работал; вокруг поставили пульты, компьютеры, шкафчики с кофе и дисками, микрофоны, натянули провода, провели свет искусственный; Кай обожал это место – центр Вселенной, Темная Башня из Стивена Кинга. Курили в одно из окошек?бойниц; далеко – за камнями, за дорогой – огни самого странного города на свете, похожие на причудливое созвездие, зонтик Джона Нэша; на губы попадал соленый дождь. «Опять дождь?» «да, мать его за ногу, третью неделю, ничего себе, да? да еще ливень такой, за шиворот, до такси не дозвониться, вечер пятницы, пришлось торчать на улице, ловить попутку» «какая сюда попутка?» «не знаю, но дядя довез, полная машина вещей: книги, овсяное печенье, газеты, клетка с хомячком» «беглец?» «наверное».
Последние десять лет город?порт пустел; словно его должно было затопить, как Атлантиду; обезлюдели целые кварталы, микрорайоны; ветер нес по асфальту все еще выходившие газеты – две утренние и одну вечернюю, с расписанием кинотеатров и вечеринок в клубах; никто их не подбирал и не выбрасывал в мусорные баки, чтобы оправдать существование; ливневки полны старых осенних листьев – три осени, четыре, пять… Люди просто что?то чувствовали, желудком, позвонками, как Рыбы, собирали самое ценное – не обязательно драгоценности, чаще всего как раз последние газеты, книги, овсяное или шоколадное печенье, хомяков, собак и кошек, старые фильмы вроде «Короля?Рыбака» и «Отеля “Миллион Долларов”» – и снимались с места, точно в поисках золота, святого Грааля… «Ты тоже скоро уедешь?» – по диплому Матвей был переводчиком с испанского и португальского; рассказал, что до секса ему позвонили по межгороду, предложили место на южном судостроительном заводе. «Да, я думаю – да, это Коста?Рика, это сильнее меня» «Коста?Рика… Звучит вкусно, как маслины».
Кай же был никем – так, ночной диджей; всегда с собой носил в рюкзаке из черного бархата сборник поэтов?символистов, переплетенный в красный, и биографию Нерона в папиросной бумаге, ну и еще бутерброды с полукопченой колбасой; был женат на девушке неземной красоты, с неземным именем – Венера – и воспитывал с ней общего ребенка – мальчика Руди; Матвей балдел от его сходства с Каем, такая человеческая химия. Докурили, Кай надел куртку, поехал домой, у него была своя машина – узкая, черная, низкая, словно гондола, а салон маково?красный; Кай курил и курил, он любил «Честерфилд», – и слушал, что ставил Матвей: «ганзов», Metallica, саундтрек к «Угнать за шестьдесят секунд»; из?за дождя и ухабин на дороге до города иногда сбивалось на соседнюю частоту – «Радио?любовь», куда звонили всякие девчонки и беспрерывно хихикали; эмблемой этого радио было розовое сердечко в нотных волнах; но ребята там работали нормальные, самые обыкновенные, иногда они встречались и играли где?нибудь в центре в бильярд; в городе осталось всего две радиостанции, а раньше было двенадцать; когда было двенадцать – играли на звание «лучших» и на ящик темного пива, теперь – так, спросить, кто как собирается дальше жить… Кая единственного, кажется, все устраивало и ничто не беспокоило, он был влюблен, как в стихи Рембо и Гиппиус, в свой почти полностью обезлюдевший район; супермаркет работал по?прежнему – круглосуточно, автозаправка тоже, и кинотеатр «Сатурн» – в нем всегда крутили «Титаник»; Кай проехал мимо, вывеска мигала и шипела, словно в нее попала вода и замыкало, лица ДиКаприо и Уинслет то пропадали, то вновь появлялись, точно яркий, прерывистый от настойчивого стука в дверь сон: «не открою, меня нет, дайте досмотреть». Когда в город перестали приходить новые фильмы, хозяин кинотеатра начал крутить старые и выяснять, какое кино людям в таком странном состоянии духа – в состоянии призраков – нравится больше всего; даже смастерил ящичек для заявок и опросов; оказалось, что «Титаник» Камерона. Билеты и попкорн продавались в любое время суток: хозяин жил в кинотеатре, рядом с архивом пленок находилась полноценная квартирка с кухней, спальней, ванной; нужно только постучаться к нему днем, а ночью позвонить с улицы – как в обычный дом. Иногда Кай и Венера выбирались на сеанс, который шел в три часа ночи; Руди спал надежно, крепко, сопя в завал разноцветных плюшевых медведей вместо подушек; он обожал медведей: «убить медведя – это то же самое, что убить ребенка»; шептались и целовались на заднем ряду. Кай мечтал заняться там любовью, но Венера всегда переживала – в сотый раз; «помните, прекрасная Роза, что я говорил вам про шлюпки?» «Кай, не кощунствуй», – била по рукам, потом сжимала их в самых переживательных моментах, не отводила глаз от экрана, а Кай смотрел на ее профиль, утонченный, как знание французской истории, и не мог оторваться, и смотрел фильм с ее лица… Тормознул машину возле супермаркета; по стеклам салона текла вода, сверкающая, как елочная мишура, в свете фонарей и витрин; Кай подумал о старых клипах, о женщинах в парчовых платьях с огромным декольте, о «роллс?ройсах», обложке Pop Trash; решил купить что?нибудь сладкое. Внутри магазина все было желтое: прилавки, корзинки, передники девочек и пакеты для покупок – словно кто?то с ума сошел от расставания; из покупателей – только он и мужчина в рабочей брезентовой куртке, в корзинке – пачка памперсов, сигареты, чай, хлеб; бродит, как потерянный. Кай купил виноград и кофе; вспомнил, что дома кофе закончился, хотя обычно всякие мелочи вспоминала Венера: сахар, соль, пена для ванн; ну все, надо побыстрее, она, наверное, волнуется, злится; ненавидит быть одна; «ты где, Кай?» – трезвонила она на радио, пока опаздывал Матвей; «я приготовила свинину с красным перцем». К ней так хотелось; он ставил ее любимые вещи: «10 капель» «Танцев Минус», «Come Undone» Duran Duran, HIM и Фрэнка Синатру; «понравилось?» «да, спасибо, очень мило; а Руди в ванне плескается, налила ему в воду жасмина, а я в черном платье со стразами»; она всегда носила вечерние платья дома, по хозяйству, когда никуда не собиралась, не писала свой огромный католический роман за старинной машинкой, а просто готовила и любила их обоих – Кая и Руди…
Кай полюбил ее случайно, на вечеринке. У него уже была девушка – странная, увлекающаяся боевыми искусствами, йогой, восточными ароматами; они много ходили в походы, иногда разговаривали всю ночь вместо секса, но все равно были совсем разные: ей нравились сила и перемены, ему – покой и ночь. Вечеринка шла в клубе, он в нем еще не был ни разу: огромное пространство в высоту, тоже башня, несколько танцевальных этажей, сложный свет, светящиеся полы, металлические блестящие лестницы и голые татуированные парни и девушки в качестве «зажигалок» на этих лестницах; с потолка в эпицентр ночи обрушивалась вода, текла по металлическим конструкциям, сверкала в неоне, разгоряченные люди кричали от восторга. Клуб назывался «Депрессия», Кая познакомили с владельцем и управляющим – Дэймоном Сином Албарном, высоким плотным парнем с синими глазами и волосами, лицом невероятно классической, античной красоты, в ухе три сережки: серебряная, бриллиантовая, сапфировая. Дэймон нравился; от него пахло чем?то прохладным и ярким: белым перцем, морем, шалфеем; он был красиво одет – в темно?синий костюм и голубую рубашку с иероглифами, синий бархатный галстук, даже ботинки синие, замшевые; «да?да, можете изнасиловать мою бабушку и угнать мой джип; Кай? потрясное имя; вы его оправдываете? у вас ледяное сердце и злой нрав?»; и из всей компании Кай оказался единственным за столиком Дэймона Сина – на самом верхнем этаже клуба, между металлическими перилами и огромной черно?белой фотографией с войны: разбитое пулей стекло автомобиля, за ним, сквозь трещины, словно ледяной узор, лицо совсем девочки?девушки?югославки, медсестры, которой пуля попала в лоб. Каю принесли коктейль «Депрессия» – за счет заведения – что?то черное, с разноцветными льдинками; он прекрасно понял суть интереса Дэймона к нему: Син был известный гомосексуал, а Кай – хрупкий и изящный, с белой прозрачной кожей, черными волосами и черными глазами – по?настоящему черными, без зрачков, с великолепными по?восточному ресницами; лицо его казалось узким и странным – некрасивым, но захватывающим. «Инопланетный гость», – называли его в компании. Но за столиком Сина сидел кто?то еще: на белом пуфике лежала черная бархатная сумочка и стоял на краю еще один коктейль, наполовину полный, наполовину пустой, – «Кровавая Мэри»; Кай любил «Кровавую Мэри» и все ждал, кто же придет, кто тоже любит его коктейль. Пришла Венера. Син присвистнул: «как вы похожи… вы просто избранные…» – черные беззрачковые глаза, невесомость телосложения; только у Венеры волосы были золотые, не ослепительно?золотые, как у принцесс из сказок, а мерцающие, как у эльфов, завораживающие, с сотней оттенков серебра и алого, словно ранний утренний свет в маленькой комнате. Дэймон Син был лучшим другом Венеры, спросил: «вы теперь будете встречаться? вам надо сделать ребенка; он будет либо абсолютно как вы, инопланетянин, раса с Марса, либо обыкновенным, неинтересным человеком». Венера засмеялась, словно пробежалась тонкими ботинками по замерзшей в начале ноября лужице и пошли трещины; так она попала Каю в самое сердце, как в окно камнем с запиской. Он понял, что будет преследовать Венеру, мучить звонками, расспросами, цветами, услугами, полюбит все, что любит она. И все действительно оказалось сложно, так нестерпимо, так больно: девушка Кая не хотела расставаться, и Кай тоже не хотел, не знал, как обидеть, но Венера снилась по ночам, сводила с ума, как луна Калигулу, как Ли Бо, как приливы, – при случайных встречах на улицах, в клубе. Потом не захотела отношений Венера: она любила другого, другой ее не любил, но ей было все равно; Венера писала роман по ночам, роман все никак не заканчивался; клацала машинка, Венера слушала музыку и пила чай с целым букетом запахов – с гвоздикой, корицей, апельсином, яблоком, бергамотом. Узнала, что Кай работает на радио, спросила: могу я звонить иногда? Кай вцепился в воздух, как канатоходец: «конечно, Венера, что ты любишь?» – хотя знал уже все, все купил, все прослушал…
Он чувствовал себя персонажем из странного фильма с Эваном МакГрегором, в котором парень преследует девушку: сначала за деньги, потом – потому что не может уже жить по?иному, без нее, без ее жизни, и теряет свою, как рассеянный – постоянно что?то в транспорте: перчатки, документы, коньки, только что купленный журнал… «Могу сказать, где она живет», – проронил однажды Син; они продолжали общаться, Син присылал на радио приглашения в темно?синих неоновых конвертах; Кай всегда приходил; сидел за столиком Сина, пил «Кровавую Мэри», смотрел стриптиз; а иногда Син уводил его в свою квартиру – он жил в самом клубе, на цокольном этаже. Стены все в книжных полках – и только две свободных: на одной фотография Венеры, огромная, черно?белая; Венера так близко, что кажется обнаженной, незнакомой, по лицу ее течет вода; а на второй стене, напротив, фото Хоакина Феникса, в пальто, ветреный день; до безумия похож на нынешнего возлюбленного Сина, криминального репортера Петра Гурова, парня с огромными голубыми глазами, крупными, холодными, северными, почти неподвижными чертами лица, – даже невозможно сказать из?за этой неподвижности, льда, Ньюфаундленда, историй Джека Лондона про север: красивый Петр человек или, напротив, обыкновенный, заурядный; Кай видел его редко и таким усталым, что все не мог понять. Мебель в квартире была из цветного стекла, полы – теплые, паркетные, звуки клуба глухо шли сверху, словно бомбежка. Петр спал в одной из спален или мылся в ванной, Син мастерил кофе, крепкий, с вишневым и шоколадным ликерами, натирал миндаля, выдавливал сливки из баллончика, и они залезали с чашками в стеклянные кресла и разговаривали, вернее, говорил Син, а Кай слушал. Например, почему Син живет под землей? Потому что боится высоты. А высоты боится, потому что его сумасшедший папаша однажды на Новый год напился, сгреб всю семью в охапку – Сина, его мать и младшего брата, – вывел на балкон – девятый этаж, внизу одна из центральных улиц, тысяча машин в секунду, – и предложил всем дружно умереть, спрыгнув, – потому что жизнь все равно дерьмо… Син был похож на фильм «Правила виноделов», на Диккенса, все ужасно и безнадежно, инцест, кровавые раны, но все рассказано, как сказка о Спящей красавице.
Но когда Син предложил сказать адрес Венеры, они были не у него дома, а в кино – вышли на середине: фильм оказался ужасный, «Тринадцатый этаж»; они пошли и купили по бутылке вина – вместо пива, пиво они оба терпеть не могли, а водку было пить ни к чему; стояли у кинотеатра, под мигающей афишей, опять лил дождь; «дождь не может идти вечно», – сказал Кай, запрокинув голову, ловя языком разноцветные от неона капли; «что это за пошлятина?» «это из «Ворона»». Син назвал цену: поцелуй; Кай засмеялся, губы его были красными от вина, такой порочный и тонкий, как серебряный кинжал для вампира, как герой книжки Жана Жене. «Прекрати», – ударил по мокрой стене кулаком Син. Кай знал, что по?прежнему нравится Сину, ему было жаль, никакой жестокости, просто приглушенное тоскливое: «черт возьми, почему вечно так выходит». И он поцеловал Сина под разноцветным дождем, их губы пахли вишневым, густым, почти неподвижным, как хорошее варенье, вином. Син сказал адрес; Кай в ту же ночь нашел этот дом; потом проследил за Венерой, когда она шла с работы: у них с матерью был маленький семейный бизнес – книжный магазин; Син не обманул. Жила она в Северном микрорайоне, в сером, страшном – просто истории о концлагерях – небоскребе, двадцать восемь этажей; казалось – вся сотня, оттого что небоскреб стоял на пригорке; к нему с автострады, с улиц вели четыре лестницы – с разных концов света, как к восточному языческому храму. Венера жила на самой верхотуре, память обо всех художниках и музыкантах мира, – под крышей, ближе к Богу; лифт не доходил до ее этажа, останавливался на двадцать седьмом; желтый, прокопченный, как курица с лотка на улице: «куры гриль, подходи, кому куры гриль, сочные, перченые, ножки, крылышки, бедрышки»; весь в маркерных и карандашных надписях вселенского значения: «Если жить достаточно долго, вы станете объектом почитания – примерно таким же, как старое здание», «Потребность необычайного – может быть, самая сильная после сна, голода и любви»; каждый день афоризмы менялись – кто?то стирал часть, подписывал новые. После лифта нужно пройти пешком две лестницы, каждая в десять ступенек, такой «Маятник Фуко», цифры и символы. Кай думал: наверное, если все сложить, умножить на себя и возвести в квадрат, получится расстояние до Луны или до Венеры… На всех лестничных пролетах горели лампочки, и в доме работал телефон. Кроме Венеры, в доме жили еще ребята из одной рок?банды – пять человек; они занимали квартиру?дюплекс, жутко грязную, но стильную, всю в красных креслах кожаных, диван под Дали, в форме губ Мэй Уэст, необычные лампы. Остальные жители уехали, поддавшись чувству неминуемой катастрофы: наводнения, кражи, оскорбления в автобусе, грозы, землетрясения, ливни из лягушек. Все лестничные пролеты были забиты вещами: велосипедами, коробками с мандаринами и семейными фотоальбомами, игрушками, кухонной утварью, зимней одеждой, заготовками в трехлитровых банках. Когда Венере чего?то не хватало – специй, соли, терки для огурцов в салат с языком и соевым соусом по?китайски, салфеток, стирального порошка, домашних шлепанцев, – она просто спускалась вниз по лестницам и искала то, что нужно.
С ребятами из группы Кая познакомила Джастин – девушка его лучшего друга и сама лучший друг; у Кая не было никого роднее них: Люэс и Джастин. Джастин – культуролог, реставратор, в будни работает в музее, пахнет растворами, а по выходным – музыкант, скрипачка: играет в ирландском клубе по субботам и в кафе «Каверн», с рок?бандами, в воскресенье. Улицу, номер дома и этажа ребята выбрали из шляпы; барабанщик и бас?гитарист – симпатичные долговязые парни в джинсах, из рабочих кварталов, мечтавшие о славе, лимузинах и о девочках с грудью от пятого размера; клавишник, похожий на орхидею, – бывший актер, в один день он одевался девочкой, в другой – мальчиком, под настроение, кумиром его был Ник Роде из Duran Duran; а костяк группы составляли братья Фред и Вилли де Вильде – мегастильные парни: старший – лид?гитара, композитор и поэт, младший – вокалист?фронтмен. Они играли классную музыку – альтернативу с примесью симфонизма; и тексты у них были отличные, как куриные чизбургеры, – про кофе и сигареты, про самоубийства, про маньяка, сбежавшего из тюрьмы, красивого и молодого, как незабудка, – случай из газет. Они все время орали друг на друга и дрались. Кай крутил их записи на радио и слушал иногда в машине, удивился, узнав, что они местные. Играли они, типа, «работая» в одной кафешке в подвале, по средам и пятницам, а по воскресеньям – в том самом «Каверне», где к ним присоединялась Джастин – девушка со скрипкой, обалденно красивая, кареглазая, медо?медноволосая, как Афина Паллада.
Джастин была уже семь лет девушкой одного из диджеев «Радио?любовь» – Люэса. Люэс с Каем познакомились на совместных диджейских бильярдах, подружились мгновенно, оказались совсем одинаковыми: «совсем мы с тобой одинаковые, братишка», – «все люди одинаковые, все любят, когда им хорошо, ик». Рыжий, ослепительный, пожар в тайге, одежда от Беннетон, Люэс учился на психолога, работал еще в психбольнице. Кая Джастин и Люэс восхищали, как кого?нибудь картины Моне или собор в Кельне. Джастин познакомила Кая с группой, с братьями де Вильде, те постоянно устраивали у себя на двадцать втором этаже вечеринки, сразу его пригласили; Кай пошел с Люэсом и Джастин, условие вечеринки – «быть во всем красном»; в дверях людей встречала Венера, в пурпурном платье с вырезом и шлейфом, и пахло от нее чудесно – чем?то восточным, теплым, масло нероли и иланг?иланг; у Кая закружилась голова, как на корабле в шторм; «привет, а почему ты не в красном? с тебя штраф». Оказывается, она и являлась организатором всех вечеринок де Вильде, придумывала все условия и фишки, чтобы всегда было прикольно: например, в меню включить только сыр, зато ста видов, и оливки; или заставить все пять комнат де Вильде, в жизни жутко свинюшных, миллиардами крохотных синих, розовых и желтых свечек, превратив в сокровищницу из сказок про драконов. Кай действительно пришел не в красном, но с красной розой. «Здравствуй, Венера, это тебе». Венера розу не взяла. «Спасибо, Кай, какая красивая, мне? нет… она твое единственное красное, иначе я тебя правда выгоню; ломаешь тут голову, чем вас развлечь, а вы еще и не слушаетесь»; «не выгоняй меня, Венера, я буду слушаться, буду мазо», – Кай поцеловал ей руку, крошечную, узкую, как у подростка, со сбитыми ногтями от машинки; Венера выдернула руку и отвернулась с побледневшими губами; Кай все понял: не понравился, не хочет она его, тупо пафосный, – и ушел слушать последние хиты братьев и есть красные салаты, стараясь не попадаться ей на глаза. Вечеринка закончилась на рассвете. «Кай, ты где? Кай!» – кричали в захламленный подъезд Джастин и Люэс; «Ромео, любовник!»; а Кай стоял на самом последнем этаже; вот ее квартира, дверь открыта, сквозь щель пробивается розовый луч – можно войти, спрятаться среди мебели, готовить ей завтрак ночью, ужин, пока она на работе, прибираться, подшивать роман и деловые бумаги – а она будет думать, что у нее живет доброе и хозяйственное привидение… Но он просто воткнул розу в ручку двери и ушел, когда затихли все голоса внизу, а лифт зашумел наверх – это Венера поднималась к себе; а Кай с грохотом побежал по лестнице.
«Кай, куда ты делся тогда?» – спросил Люэс открыто; уронил карточный домик; «извините» «нет, все в порядке» – хотя на самом деле домик стоял уже год, и хозяева мечтали попасть в Книгу Гиннесса; Кай спустился в «Каверн», только со смены, опять дождь, куртка вся в серебристых брызгах, удивительный в этом городе был дождь: соленый, законам физики противоестественный, и сверкающий, как иней; заказал себе шоколадное капучино и ужин и увидел Люэса и Джастин, а они его; пересели, и Люэс спросил, а Кай задел чашку и разлил горячее, коричневое, чтобы не отвечать на вопрос; и Джастин все поняла про Кая: он влюбился в Венеру; Джастин все понимала про людей, другие так просто чувствуют запахи: о, это булочки с корицей… И в выходной повела по магазинам; «Люэс работает, а мне нужно так много; потащишь сумки?» «конечно» – хотя ошалел; она пришла рано, Кай еще спал, открыл в одном нижнем белье; позавтракали в «Красной Мельне» – стильном кафе для художников: кирпичные стены, камин, репродукции Тулуз?Лотрека на стенах; купили чайный сервиз – чайник и две кружки – глина, сверху шершавое покрытие цвета слоновой кости и рисунки коричневым и черным, как древние наскальные: человечки убивают кабана и танцуют, и еще потеки шоколадные, вроде закипело и вытекло; «это моему другу, Габриэлю ван Хельсингу; он необычный: из очень древнего рода, мистического, говорят, они убивают чудовищ типа вампиров, оборотней, ну и шпионством для католической церкви не брезгуют; он едет на войну сражаться»; потом одежда и шляпки; «как я тебе?» – синяя шляпка с вуалью, на осень; «ты похожа на Маргариту булгаковскую» «это хороший комплимент или сомнительный?»; и как бы ненароком, по пути, привела Кая в книжный магазин, познакомила с мамой Венеры. Магазин расположился в старинном, обшитом драгоценными, мореного дуба, панелями, купеческом когда?то доме; книги не помещались на полках, лежали стопками на полу до потолка, как древнегреческие колонны, в коробках не распакованными, просто подписанными: здесь то?то и то?то, Трейси Шевалье, Дэн Браун, Пэлем Грэнвил Вудхауз, Толкин – почерком Венеры; мама была продавцом, консультантом, а Венера занималась всеми делами: вела бухгалтерию, переговоры, ездила на закупки. Кай понравился маме Венеры, узкое его лицо напоминало Аэлиту, и мама тоже понравилась Каю – зеленоглазая и золотая – кожа, волосы, ресницы, такая, чуть увядшая Анжелика; видно, Венера бледностью в папу; и они сошлись на том, что он иногда будет помогать в магазине – разгружать и таскать коробки. «Мама, ты с ума сошла!» – кричала Венера в подсобке, которая служила и кабинетом, и спальней для мамы; «этот парень – маньяк, он каждый вечер мне розы в двери втыкает, а ты его еще и на работу берешь!» «что в нем плохого? он красив и надежен, с ним можно всю жизнь жить, а не со своими мечтами…» «вот и живи с ним!» – вылетала, как теннисный мяч, и хлопала дверью; Кай стоял на стремянке, устраивая поудобнее энциклопедии, мама Венеры смотрела на него снизу виновато, будто должна ему денег: «Кай, не сердись на нее, она просто молодая, и ее сердце цело». Кай уже и не знал, в кого он влюблен: в Венеру или в окружающее ее, в странный, как дождь, мирок, с Сином, его клубом, его прошлым; отец Сина в итоге зарезал всю семью – а Син спасся в ванной, сидел и читал Харуки Мураками, пока отец и полиция выбивали двери; книги, много книг, Венера отлично вела дела, Кай этого не ожидал, в магазине принимались заказы на любые вещи – от Барбары Кортланд до Серена Кьеркегора; «как ты думаешь, какую книгу люди заказывают чаще всего? закупаем сотни экземпляров, и все расходятся…» – «атлас дорог?»; засмеялась: «нет, “Маятник Фуко”».
В общем, она все?таки в него влюбилась. «Ты меня сломал». На самом деле у нее разбилось сердце. Человек, в которого она была страшно влюблена, про которого писала роман, уехал, улыбнувшись ей на прощание лазурно, подарив маленький молитвенник в сафьяновом старинном переплете; все, что было между ними, – один поцелуй; как у Сина с Каем; Венера рыдала в плечо Джастин, которая чувствовала, с каким другом беда, приехала с бутылкой вина, осталась на ночь; они позвонили пьяные Каю на радио, в эфир, попросили Сплина, «Мое сердце», и Кай подумал: когда она будет моей? А наутро Венера пришла к нему в гости – узнала у Сина за последнюю книгу Мураками адрес Кая; он открыл, как Джастин, в нижнем белье – спал после смены; «Венера? что ты…» «…здесь забыла? пришла в гости, нельзя?» «нельзя, я не приглашал». «Конец моей жизни, – испугалась тогда Венера, – если он разлюбит меня, Вселенная остановится». «Я пирог принесла», – в оправдание; это был вишневый венский из «Красной Мельни», там пекли свой хлеб, черный с орехами и специями, и потрясающие пироги. «Не хочет меня пускать, потому что у него бардак, как у всех парней»; но Кай пустил, поставил чайник: «я в ванную», а Венера была потрясена: порядок в квартире оказался идеальный. Квартира была очень светлая, вся в солнце, огромные окна от пола до потолка, просто стены из толстого, с руку, стекла; в спальне белый пушистый ковер на полу – мечта для усталых ног, кровать низкая, а белье голубое, шелковое, множество подушек и одеял – рекламная картинка; кухня тоже вся белая, голубая, клетчатые занавески в рюшах, множество цветов в голубых и белых горшках, картошка и лук в корзинках, бело?голубой стеклянный сервиз, плетеные стол и кресла, клетчатый пол, куча кухонных наворотов. Венере казалось, что она попала в домик на юге Франции, за окном шумит море. Кай вышел из душа, мокрые волосы, белый махровый халат, такие обычно красивые девушки носят; «я была не живая, я хочу его, хочу Кая, хочу парня»; но сидели они очень сдержанно, будто собирались подписывать договор между странами Антанты, пили чай с бергамотом, ели пирог…
«Зачем я все это вспоминаю? Будто с горы падаю, вся жизнь проносится перед глазами… и, увы, ничего интересного. Она пронеслась мгновенно, как и говорят: моя коллекция марок, как я расставлял по размеру мамины грабли – и за две секунды я понял, что моя жизнь скучна…» – сказал вслух Кай, поворачивая машину; остался квартал, Матвей поставил красивую, но тревожную «Your Woman». Надеюсь, сейчас не выскочит какой?нибудь сумасшедший на полной скорости из?за угла… Никто не выскочил. Кай припарковался, взял пакет с виноградом и кофе; дождь все еще лил; зашел в подъезд, стукнул железной дверью; если ею стукнуть, по всем квартирам слышно: кто?то пришел; у двери был сложный кодовый замок, который сломали еще до массового бегства; лампочка горела еле?еле, да к тому же мигала, словно в пространстве не хватало воздуха; у Кая даже заболели глаза. Лифт ехал с самого верха, невероятно медленно, точно в нем было что?то сломано, остановился и, дергая дверями, словно сомневаясь – а впускать ли Кая, вдруг вандал? – раскрылся. Надпись на стене была одна: «Поражение лучше ощущения упущенных возможностей». «Иди, Роланд, есть еще и другие миры, кроме этого», – подписал ниже Кай; карандаш он держал в кармане, любил рисовать на полях книг во время эфира; и лифт, заглатывая воздух, как пылесос, пополз обратно на самый верх, на двадцать седьмой.
«Сейчас выйду, поверну налево, поднимусь по лестнице; а помнишь, как втыкал ей в дверь розы? Ими, кажется, на площадке до сих пор пахнет; ровно сто тридцать две розы – четыре месяца и две недели; магия чисел, от которой никакого толку; ни будущего, ни настоящего; только прошлое; а прошлое у каждого свое, тайное, как фирменный рецепт; пытаться его раскрыть – не иметь своего…» – лифт остановился внезапно, дернувшись, свет в кабинке погас, юноша потерял равновесие и чуть не упал, врезался в стену; застрял, сломался, «Аполлон?13»? Но свет через мгновение вернулся, двери открылись. Кай выглянул из лифта, понял, что все не так, как перед взрывом на подлодке.
Лампочка на площадке горела ярко, с уличный фонарь; у одной двери стоял велосипед без колес, возле другой – ящик с картошкой. Больше никаких вещей. На щитке висело объявление: «График уборки: первая неделя – квартира № 105…» «Мяу», – сказал огромный пушистый рыжий кот, обтерся о ноги Кая, замурлыкал.
– Ты откуда? – Кай взял его на руки. В одной квартире громко играло радио: «Итак, к нам дозвонилась Алена… Алена, алло, слышите нас? Алена… Алена нас не слышит», в другой, видно, готовили поздний ужин, и на весь пролет пахло жареной картошкой с мясом. Кай постучался в квартиру с радио, его не услышали, тогда Кай позвонил. Дверь приоткрылась, выглянула толстая женщина в цветастом халате и в бигуди. – Ваш кот?
– Ой, да, Персик, иди сюда, ушел гулять, я уж думаю: куда запропастился? Обычно он царапается, а тут не слышно, дочка на радио звонит, – женщина улыбнулась огромно, взяла кота мыльными руками. – Спасибо вам большое, – и закрыла дверь.
– Не за что, – ответил Кай сам себе и пошел по лестнице вниз. На каждой площадке, как в южном порту, кипела жизнь. На двадцать втором тусовалась компания подростков – парни в плохих кожаных куртках пришли к девочке, она стояла у двери, тоже в цветастом халате, в тапочках, с голыми ногами, и все курили, замолчали, когда Кай прошел мимо них. «Что это?» – думал Кай; «другой мир? я ошибся измерением?»
Его машина стояла у подъезда. Дождя не было… не было совсем, точно его вообще не было уже весь сезон. Воздух полностью сухой и темный. Кай сел в машину – она, слава богу, не изменилась и по?прежнему принадлежала ему. Все было на месте, кроме самого места. Кай кинул пакет с виноградом и кофе на заднее сиденье, к рюкзаку, к Рембо и Нерону, оглянулся: выезд загораживали мусорные баки с номером дома. Откуда они взялись? Свалились с неба, как метеориты? Кай вышел, отодвинул их – они оказались пустыми, только пара пивных банок громыхала на дне, – выехал и остановился, потому что куда ехать – было ни хрена не понятно…
«Другой мир» – иного объяснения не было. Кай представлял их по?другому – как и все, не лучше или хуже обычного, а совсем по?иному. Например, волосы у людей сиреневые. Или воздух синий всегда, как в сумерки. И люди умеют читать мысли, угадывать желания, и не нужна им никакая цивилизация, потому что они и без того могут понимать друг друга. Ведь это конечный итог всех цивилизаций, изобретений: понимать, слышать, знать, в чем смысл жизни другого человека. Что делать? Изучать этот мир? Расположение фигур? Кай любил играть в шахматы: в гостиной у него стоял старинный шахматный столик, клетки и фигуры были черные и темно?желтые, словно пропитанные маслом, а ножки столика – в форме львиных лап; «какой раритет!» – сказала Венера, когда он провел ее по квартире; «восемнадцатый век», – ответил Кай, он обожал вещи; и на Новый год Венера подарила ему первый подарок – дорожные шахматы в коробке красного дерева, доска зеркальная, темные клетки – золотым напылением; а фигуры внутри, в черном бархате, каждая в своей нише, из белого матового и прозрачного – как чистый, для коктейлей лед – стекла; крошечные?крошечные, с детские пальцы; «девятнадцатый», – сказала Венера; «тоже раритет», – ответил Кай; он был в восторге, даже боялся такой большой, как от моря, восторг показывать. Шахматы Каю казались устройством Вселенной; он играл в них по своим правилам: король у него ходил как ферзь, то есть как хотел или как мог, смотря по обстоятельствам. Иногда Кай разыгрывал сражения – Ватерлоо или при Пуатье, а на ночь читал шахматные партии великих и учебники классической военной мысли; Венеру это изумляло: «а Джастин читает на ночь партитуры, боже, вы гении…» Стеклянные шахматы Кай всегда возил с собой – играть в пробках; сейчас он достал их, положил доску на колени, расставил крошечные фигуры медленно, перед боем, и смотрел, как фонари отражаются в зеркале доски; двери в другой мир? Многие мечтают уйти, будто что?то изменится, они станут лучше – рок?музыкантами, кинозвездами, писателями… Кай же хотел вернуться – к обычной жизни, как эмигрант. С шахматами к Каю вернулся разум: если устройство Вселенной – всего лишь шахматная партия, значит надо просто решить, как ходить… Понятно, что этот мир такой же, – нужно выяснить, что в нем такое же, что совпадает с его, с миром Кая, который его устраивал. Надо найти… Венеру?
Кай испугался. Ведь это просто – подняться на двадцать восьмой этаж. А если… если ее нет в этом мире? Однажды Венера одолжила Джастин свою печатную машинку, на месяц где?то, и прожила его в предурном настроении; даже пыталась писать свой роман руками – почерк у нее был витиеватый, как «Опасные связи», – на дивной бумаге лавандового цвета, для заказов; наконец Джастин позвонила, сказала: «возьми, спасибо, или, хочешь, я привезу», но Венера поехала сама. «Мы пьем белое испанское вино, очень смешное, из тетрапака, как молоко, и смотрим по телевизору “Звездные войны”», – «новые, старые?» – «старые», – «тогда здорово, завидую». Кай тогда чуть?чуть приболел, его заменил Матвей; Кай лежал на узком французском диване дома, в пледе цвета индиго, в толстых полосатых носках, чашка чая с медом и мелко нарезанным белым наливом, огромная раковина?ночник, и читал «Темную Башню», часть под названием «Пустоши», навеяно Элиотом. Он еще не переехал к Венере, ее квартира оказалась хаосом – из книг, бумаг, дорогих сердцу мелочей; Кая она ужасала, как некоторые серии X?files. Потом Венера позвонила еще раз, она шла по улице и несла машинку в специальном черном кофре, маленьком, как коробочка конфет Nestle, и подумала смешное: вот в этом мире она несет в кофре портативную печатную машинку, а в другом, как знать, может быть, маленькую, но очень мощную бомбу… «Я сейчас приеду; ты как? будешь рад? я такая уматная, Джеймсобондиха, на шпильках и в узкой черной юбке от Isabel De Pedro». Это была классная машинка, очень маленькая, перламутровая, со стразами, просто искусство, вещь, которая держит мир, – Кай усмехнулся – как его шахматы, как подсвечник в виде синей розы; пусть из пластмассы, такой скромный, старый, но очень?очень важный, без него мир утратит целый кусок, его сожрут лангольеры; но пока подсвечник цел, лангольеры не пробьются; и Кай подумал: вот черт, может быть, в мире действительно тысячи миров – не Вселенных, с экзотичными инопланетянами со ста ногами вместо наших двух и с интеллектом размером с ядерный реактор, а намного обыденнее – как вариантов жизни. В одном мире твое любимое кафе называется «Мулин Руж», в другом – «Красная Мельня», вот и вся разница; а бывает, что в одном мире ты опоздаешь на автобус, и последствия хуже некуда: ты уволен, депрессии; на втором, следующем уровне тебе просто вкатают выговор, но потом ты сам уволишься, потому что поймешь, что работа тебя эта достала, с планерками в девять утра, значит, вставать в семь, а все лучшие фильмы по телевизору – ночью; в третьем варианте жизни, еще выше к крыше, а значит, к лучшему, тебе не говорят ни слова, потому что никто не заметил, с утра выбило пробки, полетел Интернет, и ты, расслабленный после стресса, делаешь научное открытие, получаешь нобелевку к ста годам… Под эти мысли, как под колыбельную, гипноз, раскачивающийся медальон, Кай заснул, уютно, точно в теплой воде, и ему приснилась целая куча снов: он маленький мальчик, в варежках и куртке, резиновых сапожках, идет по затопленным улицам какого?то незнакомого северного городка; зима, удивительный свет – розовый, нежно?желтый, словно все время рассвет; потом заледенелый пляж, он разговаривает с девушкой с синими волосами, и потом башня в поле огромных красных роз; и Кай – святой, совсем молодой человек, в темно?коричневой сутане с капюшоном; очень мягкая, роскошная на ощупь ткань, все шелка, атласы и меха в мире – ничто, жалкое подражание, платоновская тень; и он стоит перед этой башней, уверенный и спокойный, будто у него ключ от всех дверей…
«Миры, тысячи миров – и я попал не в свой?»
А вдруг в этом мире есть и второй Кай? Он тоже работает на радио? Ездит на красивой машине, любит красивую женщину и у него красивый сын? А вдруг он женат на Джастин? Есть ли Джастин в этом мире? Или Люэс? Или Син? С кого начинать? Но даже отсутствие себя Кай пережил бы, отсутствие и присутствие, но не отсутствие Венеры. Такой мир Каю не нужен. Мир без Венеры. Он будет искать ее. Он?то уже в этом мире есть…
Кай оставил машину на случай, если правила движения и расположение улиц в этом мире отличаются от ему известных, просто пошел, куда получится. «С фонарями у них здесь напряг, ногу сломать можно; они, наверное, и ломают; или режут друг друга почем зря, грабят и прочее, а потом ходят в маленький приход и грехи замаливают», – бормотал Кай, спускаясь по ступенькам; лестницы, что вели к дому, были те же самые, а вот недалеко оказалась автобусная остановка, которой в мире Кая не было. На остановке стояли люди и одна машина такси, черная, с желтыми шашечками, поверх которых – черный силуэт летучей мыши. И надпись «Темный легион» красным.
– Привет, – сказал Кай, нагнулся к окну, шофер его открыл, – в городе есть кафе под названием «Каверн»? Или «Красная Мельня»?
– Садись, – сказал шофер; он был молодой, в черном, с золотой сережкой в ухе, такой цыганистый. Кай сел на заднее сиденье. – Радио оставить?
– Да, – и парень сорвался с места сразу в скорость «Формулы», в стекло ударились камешки. По радио играли HIM, «Кладбище разбитых сердец»; Каю стало легче: по крайней мере, музыка в этом мире такая же. – Что за радио?
– «Европа Плюс».
– А радио «Туман» у вас есть?
– Нет.
– Черт, – «тогда чем же я занимаюсь в этом мире… официантом работаю в «Красной Мельне», наверное…» – А «Радио?любовь»?
– «Love Radio», что ли?
– Ну что ж, похоже, уже легче… А куда мы едем? – «хоть бы и деньги у нас оказались одинаковыми».
– В «Мулин Руж».
– Это что, Париж?
– Нет, не «Мулен», а «Мулин», город?то у нас мудацкий, провинциальный, вот и «и». Типа чтобы не платить по суду, – шофер фыркнул, – будто кто узнает.
– Так это кабаре?
– Нет, просто кафешка круглосуточная в центре, в нее кто только не ходит. А ты турист?
– Почти. Давно здесь жил, уже не помню, что, как и где…
– «Давно» – это в детстве или месяц назад? – парень повернул внезапно на тротуар, чтобы объехать старый муниципальный автобус, а потом пошел по встречной, обгоняя поток машин, будто пассажир опаздывал на самолет. Кай никуда не опаздывал, вцепился в черный бархатный чехол, затошнило, парень явно был сумасшедшим из Люка Бессона. По радио началась песенка «Don’t Let Me Be Misunderstood» Santa Esmeralda – невеста в зимнем саду дерется с японкой; шофер сделал погромче; а еще в салоне орала связь с диспетчерской и с другими таксистами: «Антон, ты где?» – «я на Гоголя, с джипом тут на обгон идем», – «дебил, а вдруг бандиты?» – «да ладно, оторвался уже; Слава, а ты знаешь, что такое кайрофобия?» – «а ты гей?» – «ну четы все в абсурд, я же любя…» – «увидимся – разберемся»; «люди, я на Карла Маркса, застрял в пробке, от Музкомедии до самого памятника партизанам»; в лицо неслись огни города – центр был полон сказочных цветных реклам, у Кая голова шла кругом, Лас?Вегас какой?то. Город был и похож, и не похож – словно отражение в луже, фильм?нуар; у главного героя амнезия, а блондинка в белом свитере говорит, что она его жена, и улыбается загадочно; убийство Монро и Кеннеди…
И только деньги во всех мирах одинаковые, подумал Кай, не пахнут, и только в самых чистых, близких к небу, расположенных на этажах, где лампа маяка, свет, – там деньги еще настоящее золото и серебро и драгоценные камни; миры, где еще что?то ценится. Шофер сказал: «ну, давай, здесь неплохо, давай, возьми визитку, позвонишь, если надо будет что?то найти»; на визитке опять черная мышь и красным потекшим: «Темный легион»; жуть, подумал Кай, мир дьявола; и пошел в «Мулин Руж». Кафе расположилось в подвале старинного дома, конечно, бывшего купеческого; хозяина во время революции вместе со всей семьей, горничной, кормилицей младшенького и старым полуглухим дворецким расстреляли вот у этой стены, где сейчас дверь в бильярдную; зал в сигаретном дыму; часы красного дерева, вроде Биг?Бена из «Левиафана» Акунина, громоздкие, резные, бесполезные; и репродукции Тулуз?Лотрека на стенах. Кай оценил – он любил Тулуз?Лотрека, как всех несчастных: котят, несостоявшихся самоубийц, увядшие выброшенные цветы, стихи бесталанные. «Мне кофе, капучино шоколадное, если есть»; девушка кивнула, у нее чуть?чуть в уголке губ размазалась помада, ярко?красная, Кай подумал о Николь Кидман, похожа, только эта девушка была живая, как огонь; повернулся посмотреть на людей: кафе было полно народу, запахов, играла громко музыка – то же радио, что и у таксиста «Темного легиона»; «Мой друг никогда не грустит…» от Би?2; а рядом, почти касаясь локтем, сидел Люэс…
Умру – подумал Кай. Такое потрясение он испытал лишь однажды; когда Венера обняла его сзади внезапно; он стоял у окна, был поздний вечер: верх вечера был уже черный, а низ еще синий – словно простое прекрасное платье, роскошь которого – в ткани, в шелке, в этих изысканных китайских переливах; краски только натуральные, звучат, как названия опер, абстрактно. Кай смотрел на город с высоты двадцать восьмого этажа, ни о чем не думал, он пришел к Венере вернуть книги, которые взял почитать – себе и Матвею; пили шоколад и ели шоколадный пирог по?американски, разговаривали; «ну, я пойду», – «работа?» – «нет, просто пойду», – «я сейчас…»; убежала в спальню, словно что?то подарить хотела, спрятала в нижнем белье, – Джастин сказала, что Венера там прячет подарки; он стоял у окна; город внизу был прекрасен, как блюз; и тут Венера вернулась, неслышно, как кошка, как ночь, темнота, все женское, и обняла, немного напряженно, – ей пришлось встать на цыпочки, маленькая принцесса, регтайм лондонских туманов, – и у Кая остановилось дыхание, как от холодной воды. Она его полюбила. Потом расстегнула ему пуговицы на рубашке – белой, свежей, пахнущей хризантемами в дождь, уронила на ковер, утянула в синеву, и они занимались любовью на ковре, огромном черном пространстве, как в фильме «Вечное сияние чистого разума», когда ледяное озеро – лучшее ложе; Кай боялся, что Венера вот?вот исчезнет, но она не исчезала, она была в темноте рядом, смеялась каким?то нежным смехом, легким, щекотным, как перья, и у Кая волосы на голове шевелились от счастья и в мозгу играла трэвисовская «Love Will Come Through». У них все получилось с первого раза, Кай о таком и не мечтал, созданы друг для друга – белый хлеб и масло, лосось и батон; «что?» – «лосось и батон; раввин Тук сказал деве Мэриан и Робину Гуду, что они созданы друг для друга, как лосось и батон», – «я думала, там был католический монах», – «это пародия Мела Брукса, фильм моего детства, ничего святого»; а ведь думал, будет мучительно, долго, еще лет пять, еще тысяча восемьсот и одна роза, а теперь эти пять лет – подарок от смерти, дополнительные к отпущенному сроку; и теперь Кай понял: получится – найти их всех, всю колоду, выиграть партию, вернуться к Венере, наконец?то поужинать с ней и Руди. Люэс сидел рядом, живой, ослепительный, в оранжевой толстовке с капюшоном, в темно?синих джинсах, на левом колене – дырка, не дизайнерская, а настоящая, от падения, кроссовки пыльные, сбитые, как после долгого пути; Люэс пил пиво из высокого бокала, голову подпирал рукой, слипшиеся рыжие волосы висели между пальцев, под ногтями грязь. «Грязь с пляжа, видимо, его там держали некоторое время…» Кай засмеялся тихо, рассматривая Люэса, как экспонат в музее. Весь Лувр за пять минут тридцать восемь секунд… В этом мире Люэс был усталым и явно несколько недель жил без цивилизации: без шампуней из керамидов и экстракта ромашки, без гелей для душа с оливковым и прочими маслами и даже без самого дешевого стирального порошка…
– Привет, – сказал Кай ему, толкнул в локоть. – Ты чего, спишь? – локоть Люэса поехал по стойке, угрожая его чашке капучино.
– Нет, – проснулся мгновенно Люэс, заморгал выгоревшими ресницами; как всегда, в мире Кая – осень, в мире Люэса – вечное лето. Обгорелый нос, веснушки – одуванчик. Оранжевый портрет с крапинками.
– Ты кто?
– А ты?
– Я Кай. Знаешь меня?
– Нет, – сказал Люэс. – Слушай, мне влом знакомиться…
– Друзей много? Не запомнишь?
– Нет, просто… фу… я в таком свинском состоянии, что могу обидеть.
– Зачем тогда в такое место пришел? – Кай показал на соседа Люэса с другой стороны, кабана?дальнобойщика в клетчатой рубашке, образ просто из сериала: обрез на сиденье, малолетняя проститутка спит сзади, перевоспитывается, – вот если б его обидели, уронили его чашку кофе…
– Я… я, – и вдруг Люэс рассказал фантастическую историю: трое друзей решили пожить в лесу, потому что их бросили девушки, сразу троих, одновременно, – Люэса, Каролюса и Марка Аврелия; Марк Аврелий вспомнил о даче заброшенной, родительской, на берегу реки; «куда лучше, чем пить месяц, правда?»; там они реально прожили несколько недель: рыбачили, курили солому, смотрели в звездное небо, – а потом я сбежал, я предатель, – пробормотал Люэс, – я ужасно устал и сбежал, смылся…
– А почему не мыться сразу? – Кай восхищался собственной прозорливостью: «я Марло, я Холмс, я Фандорин, я Дюпен». – Шампунь там, брижка?стрижка…
– Я сразу к ней пошел, – глухо сказал Люэс.
– К Джастин?
– Откуда ты знаешь?! – крикнул Люэс, и в кафе на мгновение стало тихо. Где?то в казино выпало красное, и человек выиграл у жизни еще пару минут, можно еще ставить, заказывать мартини, за углом его застрелят позже. Где?то пошел снег, человек вышел вынести мусор, увидел небесную красоту, поставил ведро на землю и замер, пожалел, что не помнит стихов. Потом люди в кафе опять заговорили, но уже тише, словно объявили войну где?то рядом с их страной, совсем близко, – а вдруг перекинется? вдруг оккупация? Люэс сполз со стула и пошел, пошатываясь, – будто давление, кровь из носа, не выспался, экзамен учил, все равно сдал на «два», – ища руками выход. Кай заплатил девушке за свое капучино и за его пиво, побежал за ним. Обнял за плечо, вывел на воздух.
– Тебя куда?
– Она сказала мне «нет», Кай, она сказала, что не любит, не верит мне, не хочет больше видеть… – Люэс был совсем не тяжелым, а как тот рыжий крупный кот из подъезда, теплый, даже горячий, температурный, лихорадочный, хна, хинин и хвоя, волосы его размазались по каевской щеке; «ну вот, – подумал Кай, – просто «Горбатая гора» какая?то, «Апельсин на завтрак»; что же мне с ним делать? грустного Люэса я еще не видел никогда… и надо же, он запомнил мое имя».
– Утешься тем, что в другом мире вы с ней вместе. Протрезвеешь, помоешься, сколотишь рок?банду и напишешь песню под названием «Жаль, что ты не со мной»…
– Кай, я не утешаюсь. Я хочу в этом…
– Куда тебя везти? – Кай искал своего таксиста. Вдруг он его Вергилий в «том мире – в котором, как уже понял Кай, мечтать безнадежно и еще лучше не ходить одному по ночам». Машин стояло много, но его таксиста не видать. Каю понравилась одна машина – черная, хромированная, с круглыми формами, словно из фильмов про мафию в Великую депрессию.
– Привет, – сказал Кай в ее приоткрытое окно. В машине сидел и читал толстую книгу в твердой обложке красивый молодой парень в шоферской форме – Кай подумал, что напоролся, наверное, на ожидающего своего хозяина?миллионера?эгоцентрика, из О’Генри. Парень поднял от книги глаза, Кай увидел, что они черные, как у него; мрачные, готические, без дна и жизни, словно озера из Эдгара По. Лицо у парня было белое, как фарфоровая тарелка. Брови и губы казались нарисованными – монохром, японская живопись, черное и розовое.
– Я вас не повезу, – сказал парень тихо.
– Почему? – спросил Кай. – Что?то не так? Два молодых человека: один пьяный и хорошенький, второй – трезвый и хорошенький… Приставать не будем, не ограбим, просим только довезти до места… где ты живешь, ирод, в каком месте?
«Ирод» застонал в ответ, будто Кай его пытал на дыбе: имена, имена, кто еще хотел отравить матушку?государыню…
– Я просто не таксист, – сказал парень.
– У вас на крыше шашечки и фонарик желтый.
Парень сжал губы плотно; Кай подумал, что с ним что?то не так, будто убийца наемный, ждет, когда заказ выйдет из «Мулин Руж»; и вдруг с заднего сиденья наклонилась девушка невероятной красоты, Мадонна. Офелия, Лилит, Настасья Филипповна, обдала Кая густым липким банным запахом жасмина. «Где?то в мире есть жаркое лето, – подумал Кай, – и в нем цветут сады: персики, вишни, груши; стоит дом из розового кирпича; а я живу на севере…»
– Он возит нас, малыш, понимаешь? – зеленые глаза, настоящая ведьма, хвойный лес в грозу; блестящие, рыжие волосы по пояс; она была в одном нижнем белье – профессиональном – красно?черном, атласно?кожаном: подвязки, высокие сапоги, колготки в сеточку, корсет и огромный железный крест между грудей. А между ног зажат хлыст. Губы и ногти были вишневыми. Кай отпрянул, как от неожиданного отражения. – Фирма «Вавилон», круглосуточно к вашим услугам.
– Извините.
– Ничего. А ты красивый, прямо как наш Кристиан; а я думала, что красивые люди – редкость, мутация, – парень в шоферской форме поморщился, будто она не в его машине, а на свидании и сказала пошлость. Она же засмеялась. «Это у них давно, – вдруг пришло в голову Каю. – Любовь и ненависть; они не просто вместе сидят часами в машине… они молчат и живут этим молчанием, ожиданием, когда она уйдет и вернется», – и пошел от машины с Люэсом под мышкой, словно с чемоданом, полным вещей, – и по городу не погуляешь, сиди и жди поезда…
– Эй, – окликнул его в спину Кристиан, – вам далеко?
– Не знаю. Люэс, нам далеко?
– Я пока стою, клиент заказал на десять, могу довезти, если недалеко… – девушка молча кивнула, улыбнулась, помада прилипла к ее передним зубам, казалось, она укусила кого?то, и Кай понял, кто захотел их довезти. Она же пинком ботфорта открыла дверь.
– Давай своего друга сюда, не бойся, ничего с ним не случится, я понимаю – здесь замешана несчастная любовь, девушки это уважают, – говорила плохо, с шелухой, как полагается таким девушкам – верить в гадания, слушать дешевую музыку; но как она двигалась, смотрела в окно, на Кристиана, улыбалась – герцогиня, сбежавшая из дворца, «Мой личный штат Айдахо», французский язык и верховая езда – любимые предметы; Кай испугался ее, как вампира, сел рядом с Люэсом, тряхнул его опять, отвлекаясь от чужой истории, вспоминая свою.
– Люэс, скажи адрес, – Люэс открыл глаза, увидел три лица над собой, решил, что это сон, розыгрыш, Фрейд, назвал улицу и дом. И снова уснул. Адрес был простой, таксист тронул в этот раз аккуратно, не спеша, словно в городе везде стояли гибэдэдэшники. Кай обнял Люэса, как плюшевого медвежонка, и смотрел на город, полный пьяных. Потом что?то стукнуло его по ноге, потом еще раз, – он посмотрел вниз: по полу салона катались маленькие стеклянные шарики. Это было таинственно, как идти по темным комнатам с горящей свечой, и чарующе, как сказка про Щелкунчика, но Кай не стал спрашивать, зачем они, что значат, – Кристиан и девушка молчали, и это была единственная радость в их жизни. По радио тихо играли Pulp.
Денег Кристиан не взял. Просто остановился: «здесь».
– Пока, – сказала девушка. Смотрела, как они вышли из машины, дошли до подъезда, Кай еще раз безжалостно растряс Люэса на номер квартиры. Потом тронула шофера краем хлыста, и они уехали, будто и не было их вовсе, приснились они. Ненастоящие – кино, ночной старый клип по MTV. Этаж пятый, квартира тридцать девять. Лифта нет. На первом и четвертом этажах горел свет; Кай шел и слушал сердце Люэса. Дом был старый?престарый, бывшая общага, судя по всему; стены все переломаны, как кости, и не срастаются. Масса дверей, в самых неожиданных местах, но на замок от этого дом похожим не становился. Где?то капала батарея, где?то играла музыка. Этот мир полон жизни и шума. Дверь нужная оказалась железной, но крашенной под дерево – весело, с дырочками, кольцами времени. А звонок – птичья трель. Стильно, подумал Кай, а что там, за дверью? темный лес, полный хрустов и запахов, из «Братьев Гримм»? В той жизни Люэс и Джастин жили в двухэтажной «сталинке» с эркером и пузатым белым гипсовым балконом, увитым плющом, место для игр разума; а комнаты были полны старинной мебели – «склад, – говорила Джастин, – и сплошные натюрморты»; в комнате восемь кресел, и все из разных эпох; а сейчас долго никто не открывал, Кай еще раз позвонил. Наконец дверь залязгала с той стороны замком, и открыла Джастин – настоящая, та самая, точь?в?точь, в огромном белом полотенце на голове, розовом махровом халате, который она придерживала на груди, чтобы не распахнулся, не свалился; но Кая она не узнала, а Люэса уже не любила.
– Здрасте, – сказал Кай. – Этого молодого человека вы признаете? – и тряхнул Люэса, тот спал крепко, как в комедиях: проходит весь фильм, все хохочут, подрисовывают усы, выдают за мертвеца, продают за границу, а потом он в конце просыпается и выдает: «и где я нахожусь?» – хохот, титры.
– Да, только он здесь больше не живет, – она была все та же – Мадонна Боттичелли, ямочка на нижней губе, горбинка на носу, золотые глаза.
– Ну, я тогда не знаю, куда его, – сказал Кай. – Выбросить рука не поднимается.
– А вы кто?
– Познакомились в баре. Меня зовут Кай. Разве мы не знакомы? Мне кажется, мы где?то с вами виделись. Вы ведь Джастин?
– Да, но я вас не знаю.
– Точно? Подумайте… для меня это важно.
Джастин подумала, потом покачала головой:
– Я бы вас запомнила. Я рисую и работаю в газете. У меня хорошая память на лица. Я даже всех актеров запоминаю. Могу вспомнить сразу, кто в каком фильме играл и кого – злодея, священника, детектива… А у вас такое необычное лицо, – и покраснела, отступила в глубь крошечной прихожей. – Ну, проходите же, положим его на диван. Ох… он никогда не уйдет.
– Как там, в «Назад в будущее»: сэто будьба…
Кай занес Люэса; «не разувайтесь, у меня все равно на днях генеральная уборка»; прошел крошечный коридор: стены в плакатах, из ванной шло тепло и хвойно?грейпфрутовый запах – значит, они ее из ванны вытащили. В квартире была всего лишь одна комната: диван, обитый вишневым бархатом, как театральный, простые книжные полки, стол с компьютером, гитара, мольберт, скрипка, несколько картин, занавески из красного бисера. Люэс лег на диван и сразу повернулся к стене, знакомо подтащил самую большую подушку; «Джастин», – пробормотал во сне; Джастин вздохнула, пошла в ванную спускать воду. Кай смотрел на плакаты – все с ее концертов, она играла с еще какой?то девушкой, а вовсе не с парнями, как в его мире. Картины казались вырванными из книг иллюстрациями; Кай подумал, что, наверное, даже что?то читал: двое сидят за кухонным столом и разговаривают – ночное окно во всем спящем доме, на третьей табуретке кошка; парень в телефонной будке, дождь, он ждет ответа, приложил к запотевшему стеклу ладонь; девушка висит в воздухе, над ночным городом, на ней белое полупрозрачное платье, и она тянет за собой юношу в черном сюртуке, синих джинсах – он летать не умеет, но очень хочет быть с девушкой, встал на самые цыпочки; и фотография какой?то группы. Типичный брит?поп: четыре мальчика в свитерах, глаза молодые и усталые, серые с синим, и лохмы; такие обыкновенные парни с улицы. Под каждым – автограф. Углы у плаката были потрепанные, и Кай подумал, что это, наверное, любимая с детства группа Джастин: она ездила на их концерт отчаянно далеко и теперь этот плакат всегда с ней…
– Это Travis, – сказала Джастин, – я их обожаю. Назову в их честь ребенка. Поставить чай?
Она переоделась в старые растянутые джинсы, темно?синие, на малиновых подтяжках, и в зеленый вязаный свитер; намотала волосы на мягкие плоские розовые бигуди. Свитер Кай помнил – она носила его в депрессию; он с длинными рукавами, широкий в талии; Джастин садилась в кресло, натягивала свитер на ноги и смотрела в окно, на тучи, на ночь, и лицо у нее было как луна, с тончайшими переливами настроения, мыслей, света, – можно смотреть, в свою очередь, на Джастин и улыбаться ее легкой улыбке, хмуриться ее нахмуренным бровям; и все это так тонко, как прикосновение пера… Кай кивнул; она поставила в коридорчике чай – на компактной двухконфорочной плите; чайник быстро закипел, загудел, как паровоз из песни Oasis; Джастин достала из шкафчика, обклеенного смешными вырезками из газет, журналов, составленными в случайные комиксы, две чашки; Люэс не проснулся даже на чайник, и Кай подумал, что парень, наверное, несколько суток без сна: прошел весь лес, весь город, а все?таки настоял на своем – спит на диване у любимой… Чашки Джастин Кай уже видел: она их купила в тот день, когда познакомила его с мамой Венеры; шершавое напыление цвета слоновой кости, черной тушью наскальные рисунки: человечки убивают мамонта – на одной чашке, кабана – на другой и танцуют победный танец; и еще потеки темно?коричневой эмали, будто шоколад выплеснулся кипящий; а заварку она налила из такого же, наскально?шоколадного чайника – с ручкой не сбоку, как у всех заварников, а сверху, как у ведра, из ивняка.
– Подарок Габриэлю ван Хельсингу, – сказал Кай; Джастин вздрогнула; будто хлопнула дверь, а человек думал, что один; обернулась на Кая, и он увидел, что она его боится, как дурного предсказания от гадалки.
– Откуда вы знаете Габриэля?
– Да не знаю я Габриэля, я просто знаю о нем.
– Откуда? Вы читаете мысли?
Кай удивился.
– Нет.
– У меня был знакомый, который читал мысли, странный мальчик?актер, очень красивый человек, такие настоящие, синие глаза, как в книжках пишут: сапфиры, фиалки в прозрачном ручье; он умер в прошлом году, – она налила кипяток, руки у нее дрожали, как у застенчивого, вынужденного вслух прочитать толпе заметку из газеты о повышении тарифов, – Оливер Рафаэль… однажды я сидела за столом у него в гостях и не знала, положил ли он мне сахара в чай, все думала, а он как крикнет из соседней комнаты: «да, положил, две ложки, как ты любишь!» – и засмеялась тихо; лицо же ее оставалось напряженным, словно вернулась домой с работы, а дома куча дел: погладить, вынести мусор, приготовить ужин, позвонить больной маме… – Откуда вы знаете о подарке?
– Вы мне не поверите.
– Поверю, ведь о подарке никто не знает, даже сам Габриэль; у меня целый стол подарков Габриэлю, но ни один я не подарила, и этот тоже; он так и уехал, даже не знал, что я… и, может быть, я его больше никогда не увижу, – она охнула от боли, как от внезапной желудочной, сползла на пол и там зарыдала, давясь, закрывая рот, чтобы никто не услышал: родители, старший брат; привычка с детства; Кай сел рядом с ней, обнял ее, она была тяжелая, теплая, как кот, как Люэс; Джастин уткнулась, спряталась ему в подмышку, словно они и в этом мире знакомы уже сто лет, и ждали, когда это пройдет, как обычно ждут дождя – хоть бы никогда не заканчивался…
– Так вы кто? – спросила она потом шепотом, сморкаясь в салфетку, открыла ящик стола, не вставая с пола; квартира ее была маленькой, как мышиная норка. – Чай остыл, подогреть?
– Я из другого мира, параллельного вашему; уф, ну и бред, извините. Да, давайте подогреем.
– Из будущего, что ли?
– Нет, просто параллельного, – Кай сначала почему?то рассказал о вечеринке у группы братьев де Вильде, потом о магазине мамы Венеры, потом о городе – как из него уходят люди, словно река мелеет; Джастин слушала внимательно, будто в мире скоро не будет книг, и надо их запоминать, и вот сейчас ей читают на запоминание Шекспира или самого Брэдбери; чай они подогрели, Джастин вытащила печенье – в виде ракушек, хрустящие, желтые, внутри вместо жемчуга – черничный джем, и шоколадку – черную, жирную, бельгийскую, в грубой серой бумаге, для ценителей.
– Венера – кто это? – и Кай понял, что она не просто верит, она понимает – как всегда, чудесная Джастин, лучший друг на свете…
– Девушка, которую я люблю, – и Кай рассказал о ночи, когда родился их мальчик, Руди, – в настоящий снежный ураган; словно мир сопротивлялся Руди, словно Руди – будущий великий Темный; они еле?еле дождались скорой; на дорогах были пробки; и Венера держала Кая за руку и пела тихо одну и ту же песенку: «Летит Жозефина в крылатой машине»; и совсем не кричала, не сжимала до крови, просто бесконечные остановки, удары ветра в стены машины и тихий голос; у Кая кружилась голова: Венера рожает их ребенка; год назад он и вообразить себе такого не мог – лишь бы услышать ее голос в трубке телефона: «а, Кай, привет, тут Джастин попросила Elastica, можно? мы наглые, наверное, прости, с нас хорошее вино…»; а потом ее увезли в больницу, он думал, ему не хватит пачки «Честерфилда»; но медсестра вышла буквально через минуту и сказала, улыбаясь: «у вас сын»; и его пустили к ним – к ним: Венера лежала в своей одежде, ее даже переодеть не успели, только простынь накинули; ни крови, ни запаха лекарств, а только ее запах – нероли, иланг?иланг – и что?то маленькое; «это оно?» «ага»; и они начали тихо смеяться и трогать Руди за лапки.
– А утром мир был белый?белый, снега намело до третьего этажа, Венера поднесла Руди к окну и сказала: «смотри, как красиво, правда, Руди? еще никто не приходил в такой чистый мир»; и мы назвали его Руди – «Ледяная Дева» Андерсена, – Кай задохнулся, ужас: «а вдруг я их больше не увижу?» – забился в нем со скоростью сто ударов в секунду. Джастин поймала его за руку, будто он собирался спрыгнуть: «все в порядке, слышишь, Кай, ведь меня ты нашел, и ее найдешь или вернешься к ней»; и Кай почувствовал: невероятно, он в другом мире, но Джастин ему верит, чужая, другая Джастин, которая рассталась с Люэсом и любит Габриэля, и играет в девчачьем бэнде, – и Кай увидел, как миры переливаются во Вселенной: синим, черным, розовым; и переплетаются друг с другом, и ступени тянутся, как нити, и двери открываются от одного ключа – от любви, и зажигается фонарь на вершине Темной Башни, будто кто?то решил при его свете почитать хорошую книгу на ночь – «Маятник Фуко», атлас дорог…
– Расскажи, какая она? Красивая, странная?
– Она… она любит старинные платья. Длинные, с фижмами, шлейфами, кринолинами, жабо и прочими немыслимыми в эпоху Леви?Стросса вещами. Ей шила их с детства мама на каждый праздник – Рождество, день рождения; потом она сама научилась – и ходит в них по дому как ни в чем не бывало: моет в них посуду, полы, поет, печатает свой роман… задирает босые ноги и пишет, а со стула свисают складки из парчи… Однажды она нашла в одном из брошенных домов целый шкаф платьев разных эпох: Марии Антуанетты, мадам Рекамье, Маргариты Валуа; и все ее размера, будто в доме жила ее сестра?близнец, странный был дом: красный кирпич, витражи с изображением змеи, на полу – узоры и надписи на латыни, все в плюще; мы даже думали переехать туда, но Руди там не понравилось – вот он у нас точно умеет мысли читать: он начал дико реагировать на шумы и шорохи, цепляться за нас, за одежду; мы подумали: ну его, этот дом, особняк Красной Розы; и только платья забрали и несколько книг…
– А о чем ее роман?
– Ох… Она называет его католическим. Кажется, он даже посвящен Габриэлю, – не «кажется», Кай знал это точно. Венера роман не показывала, только читала куски, смеялась, сердилась, прерывала на полуслове, поправляла карандашом, скребла ногтями в голове; Кай даже и не слушал, знал, что она не ждет критики, а хочет, чтобы он не почувствовал себя лишним; и он просто любовался ее босой ногой, выглядывающей из?под платья, расшитого золотом кружевного подола, нервными, тонкими, с постоянными жестами, как у глухих, руками, подвижным, как облака, лицом – словно на небо смотришь и никуда не спешишь; но однажды она была в ванной; стояла осень; ветер с холодеющего моря хлопнул по балконной двери, распахнул ее, пронесся по комнате; и листы полетели, Кай стал их ловить, дурацки растопырив пальцы, нечаянно на что?то наступал, нечаянно что?то читал; было хорошо, правда, – она могла бы стать знаменитым писателем, модным, богемным, а потом, когда забудут и появится совсем другой стиль, – коллекционным; и вот – прочитал: «Габриэлю ван Хельсингу, который об этом романе никогда не узнает»; в этом мире Габриэля любит Джастин, покупает ему подарки, которых он никогда не увидит: вазу из глины, всю поцарапанную, с ручками в виде чемоданных, такая, под старину, дико стильная вещь; старинную карту с аукциона, в золоченой раме – первая Америка; рубашки: одна с комиксами «Город грехов», другая льняная, нити прямо серые, и виды Санкт?Петербурга – словно коричневой пастелью; перетасовка. Там об одном мужском монастыре, вернее, обители, где живут совсем молодые ребята: они должны решить, хотят ли посвятить свою жизнь церкви или чему?то глобально другому. Монастырь – старинный замок находится в суперживописном месте: горы, хвойные леса – с одной стороны, белый пляж и синее море – с другой. Кто?то из ребят занимается восточными единоборствами: выходит на рассвете в море, молится Христу и заодно тренируется в журавлиной технике; кто?то – выращивает розы, прямо разводит, великолепные, огромные, самых разных цветов и сочетании, и дарит каждому на день рождения свою: красную махровую, желтую янтарную, с прозрачными почти лепестками, белую, с легким розовым кантом, еле заметным, будто кто?то поцеловал и оставил след своих губ. Кто?то пишет музыку, кто?то гимны, есть еще пара парней, которые занимаются фехтованием на всевозможном оружии: палках, мечах, шпагах; их зовут Роб Томас и Женя Даркин, они потом станут крестоносцами, или мальтийскими рыцарями, или ливонцами, – в общем, какой?то военный воинствующий орден; Венера мешает культуры как хочет, совсем как в шейкере; но получается не безобразно и безответственно, а совершенно фантастически, притом что я не люблю в прозе фантастику, мои любимые писатели Эмиль Золя и Драйзер, – Кай засмеялся тихо, будто уже за полночь и есть соседняя комната, где родители сердятся, а они с Джастин подростки, сидят на полу и шепчутся о фильмах с ДиКаприо и переустройстве мира, не в силах расстаться, увлечены, влюблены. – Главного героя зовут Изерли; вот ему становиться монахом, священником или рыцарем?храмовником совсем не хотелось; в церковь его отдали, вернее, церкви его отдали родители – вроде как он у них появился до брака, и вина не их, а его; или они ее так искупают и ведут далее супердобродетельный образ жизни; короче, жестокость. В монастыре Изерли помогает управляющему, завхозу, и понимает, что хотел бы заниматься этим всю жизнь: варить варенья, смотреть за огородом, ездить за покупками… Мне нравится, как он любит спускаться в погреб за банкой сливового варенья, именно сливового, он такой живой сразу, даже снился мне с этой банкой, серьезный, глаза цвета ириса… А потом Изерли едет за покупками – они приобретают все в супермаркете, в ближайшем маленьком городке – и видит там девушку: она раскладывает по полкам мыло или петрушку, не знаю, не помню уже; такая, в желтом фартучке; у нас есть рядом супермаркет, там все желтое… И они влюбляются друг в друга, причем зовут ее похоже – Изобель; Изерли приезжает к ней однажды ночью, в дождь, ее отец и старший брат играют в бильярд где?то в городе, в кабаке, такое городское мужское развлечение, а они разговаривают на кухне, пьют чай, – «ох, чай», – спохватилась Джанни, налила кипятку, чай оказался восхитительным, крепким, вишневым. – Классное чтиво на самом деле, особенно когда дождь или снег, даже лучше Гарри Поттера…
– А как она пишет?
Много сравнений, иногда сбивающих с толку, а иногда очень удачных, ходишь и повторяешь; и потом уже по?другому не мыслишь, думаешь: вот эта вещь похожа на эту… как лоскутное одеяло. Она пишет, будто шьет лоскутное одеяло.
– Звучит замечательно. Все ведьмы мечтают о лоскутном одеяле. Вам везет. Я бы хотела познакомиться с ней, – сказала Джастин искренне, – а как мы дружили? Болтали по телефону?
– Не только; ездили все дружно на пикники, у нас есть корзина для пикников, с синими салфетками, посудой, термосом, а у вас – маленьким холодильник и барбекюшница «Тефаль»; а еще мы бегали по магазинам, ночевали друг у друга, пили вино по поводу и без повода, фотографировались, гуляли с Руди, обменивались книгами и фильмами, ходили в кафе…
– Здорово, в этом мире таких друзей ужасно не хватает; оттуда сюда можно письма писать или позвонить? Господи, простите, я чушь несу, вы хотите есть? у меня в холодильнике в прихожей холодец, мама готовила, приезжала несколько дней назад, из свиных ножек, с чесноком; у меня мама повар, можете доверять; и суп, и шоколадный торт, хотите? а сколько времени? – оказалось, что ей надо бежать – концерт в клубе, – в ванную одеваться, снимать бигуди; вышла в джинсах, на которых был странный рисунок – отпечаток шин, словно грузовик проехал, в высоких сапогах ковбойских, в коричневой водолазке и коричнево?зеленом пиджаке, глаза ярко накрасила, сверкающие коричневые тени, блеск для губ тоже коричневый.
– Поедемте со мной в клуб, Кай, куда вы сейчас пойдете? А утром вернемся ко мне, что?нибудь придумаем, закажем круассанов и пиццы, и вы дорассказали бы роман, чем все закончилось или продолжилось у Изерли и Изобель, – смутилась, Кай тоже, будто внезапно выиграли на двоих большой приз: незнакомцы, делить, знакомиться.
– Нет, я, пожалуй, пойду, да нам бы и Люэс помешал, стал бы предъявлять на вас претензии, права…
– Да, о черт, утром будет сцена «Молилась ли ты на ночь…». Наплевать. Поедемте со мной в клуб? Послушаете, как я играю, правда; я опаздываю, а?а…
– У меня есть карточка такси, вызвать?
– Да, – Кай взял ее сотовый телефон, маленькую вишневую «раскладушку», вызвал «Темный легион». Водитель его сразу узнал: «а, турист, здарова» – и приехал через пять минут; «тихая ночь, по телику чемпионат мира по футболу», – объяснил; Джастин залезла в такси: «а вы?» Кай колебался секунду: «ну ладно», залез рядом, испугался ее потерять, ниточку, синюю стрелку, хлебные крошки.
– А что за клуб?
– Не знаю. Какой?то новый. «Сплетня»; странное название, да? Мы раньше играли в «Пещере», как Битлз, там все стены раскрашены под паутину, но его выкупили, все здание, будут сносить; жалко, девятнадцатый век; но кто?то решил, что все?таки не памятник. А «Сплетня» вся неоновая; не знаю, мне кажется, мы не ее формат – скрипка, флейта и бас?гитара, а там стойка и полы стеклянные, рыбы в них плавают золотые и красные, на стены проецируются фильмы Хьюза и Уайлдера, и еще стриптиз всех видов; но нас пригласил сам владелец – такой молодой парень, чудной, молчаливый, сказал, что слышал нас в «Пещере» и мы ему понравились…
– А как зовут? – спросил Кай, хотя уже понял – как в детективе: слишком много улик.
– Дэймон Джеймс Албарн. У него даже визитка специально для неонового света, прозрачная, как стеклянная, черная с белым текстом, вот выпендреж…
«Крутое место», – сказал таксист, когда подъехали; черное тонированное стекло и металл – конструкция типа башни, и розовым, как клубничная жвачка: «Сплетня»; на парковке стояли лимузины и гоночные модели. «Спасибо», – Кай расплатился, Джастин рассердилась, засовала в ладонь деньги, Кай сжал пальцы и рассмеялся: «Джастин, это несерьезно». Они вновь были знакомы сто лет; ох, здорово; его не оставляло ощущение чуда, неожиданного подарка от неожиданного человека. Охранники сразу провели их в костюмерную; там уже сидели девушки из группы, тоже одетые в коричневое и зеленое; как ирландцы, подумал Кай; заговорили на неведомом языке, обсуждая звук и репертуар; «я пойду в зал?» «только не теряйтесь»; точно, сплошное стекло и металл и стриптиз на сцене – садомазо, но изящное: три парня, две девушки, уже трудно разобрать, кто кого, только в парчовых масках и кирзовых сапогах. Людей было много, и в зале стояли тропики; Кай вспотел, пока добрался до стойки. «Кофе, капучино шоколадное, можно?»
– Только эспрессо, по?венски и по?ирландски, с виски и сливками, из?за музыкантов, будете?
– Буду, – подумал опять о Джастин; они вышли на сцену через минуту; сцена изменилась, свет сделали мягким, словно от свечей, все развернулись и стали слушать; играли они чудесно, как на Рождество: «Ирландский король пошел на войну, взял войско большое, сто бочек вина, переплыл синее море, а на том берегу его ждал большой английский туман»; «ваш кофе»; Кай улыбнулся, он был почти счастлив. «Но туман не беда, он привык побеждать…» Туман… Черт.
– С вами радиостанция «Туман», сто семь и шесть эфэм… сейчас мы послушаем «Точку Росы», а потом последняя вещь Travis, а потом Placebo, старенькое «Every me, every you», так что не в ваших интересах нас покидать… мы соблюдаем и вызываем ваш интерес, мы ваши адвокаты, любовники и антидепрессанты…
В туалете тоже все было из стекла. Кай узнал – декорации из «Ромео + Джульетта» База Лурмана: одна стена – аквариум. Он уткнулся горячим лбом в прохладное подсвеченное стекло. Экстаз прошел, уступив место отчаянию. Его мир настиг его и сбил с ног – просто «Ветер в ивах», когда дом звал Крота; господи, что же делать? как вернуться? Ни Джастин, ни Люэс не знают, как ходить королю. Стучаться лбом, думать?думать?думать. Может, поискать себя? Привет, Кай, это я, чем занимаешься? чем живешь? А Венера, Кай, Венера с тобой? Ведь ты жить без нее не можешь – это та самая, любовь до гроба, любовь как смысл жизни; а не секс в большом городе. Кай в поисках Герды. Кай открыл глаза: на него смотрела огромная черная рыба с синими плавниками; а потом рыба отплыла, и Кай увидел Сина. Тот стоял по ту сторону стекла, отражался и множился, бледный, черноволосый, синеглазый, под глазами синяки, будто тушь размазанная, в ухе одна сережка – из почерненного серебра, крошечный череп. Боже, какой он другой – будто Гамлет, безнадежно, бессмысленно, его отец только что убил его мать и брата, Шекспир наоборот, наизнанку, подумал Кай. Син смотрел на него сквозь стекло, и Кай узнал взгляд – голодный, страстный, как темно?синий, фиолетовый цвет; и Кай принял решение: он улыбнулся Сину порочно и медленно поцеловал стекло; вышел из туалета – стремительно, не потерять, вдруг Син приведет его к Венере? и они столкнулись в коридоре, схватились, вцепились друг в друга, Кай почувствовал его большое теплое тело, опять кот с площадки чужого мира; о боже, это не игра, они все живые…
– Кто ты? – спросил Син в ухо горячим шепотом, ветром в саванне. – У тебя за спиной два человека: один красивый, другой страшный.
– Это Рембо и Нерон, мои книги, я всегда таскаю их в рюкзаке, так что мне, наверное, их дали в качестве ангела и демона. А ты видишь такое?
– Иногда, – Син отпустил Кая, вдруг внезапно ушел в темноту; у Кая разболелась шея от поцелуя и жара и грудь от переживаний.
– Син, где ты? – закричал, стукнул по стеклу кулаком, рыбы, словно подглядывавшие за ними, мелкие, золотые, как обручальные кольца, рассыпались, а рядом появился голый молодой человек, татуировки ползли по его рукам и спине, как вьющиеся растения, протянул Каю поднос, на котором лежала записка: «черное такси»; «спасибо»; парень кивнул, и Кай побежал по лестницам наверх, в гримерку, к Джастин, – попрощаться. Она настраивала скрипку, прижалась к ней щекой, трогала струны и слушала, как терапевт в стетофонендоскоп – сердце.
– Джастин, мне нужно бежать, Джастин, милая, спасибо за все, – Джастин изумилась, опустила скрипку, в которой еще звенела нота, такой странный долгий звук: не деревянный, не конского волоса, а будто Джастин поймала сигнал из космоса – о том, что других миров не существует…
– Куда, Кай? Вы уверены? – будто он простой искатель сокровищ, а не возлюбленной. Потом встала и обняла его, скрипка коснулась бедра Кая; обняла так по?русски, словно больше никогда не увидит его; «надеюсь, Джастин, что мы увидимся и ты не вспомнишь о боли, которую причинил тебе Габриэль, а у Венеры уже все зажило, как от… пенициллина, лейкопластыря, меда с молоком»; обхватила его за шею и поцеловала. – У вас все получится, – прошептала она в самое ухо предсказание?благословение, – вы как Габриэль, как принц из сказки, из страны Менильен, в поисках идеальной принцессы, пройдете сквозь миры, как через пешеходный переход, но, если не получится, возвращайтесь, у нас будут круассаны и пицца и, может быть, что?то еще; когда я открыла дверь, то подумала: какой красивый парень, я хочу испытать это потрясение еще раз, знать, что есть не только Габриэль; но у вас получится, я знаю, я вам верю, и передавайте ей привет – длинный?предлинный поцелуй…
Кай шел и думал: чудеса… Несколько минут ему было тепло и сладко, как после чашки шоколадного капучино; «найти «Мулин Руж», заказать еще раз, на этот раз допить»; а потом увидел черное такси. Это был Кристиан. Рыжей девушки в машине не было, но пахло ее духами; Кай открыл рот, но Кристиан прикоснулся к своему пальцем в черной шоферской перчатке; Кай кивнул, молча сел опять сзади, и опять стеклянные шарики катались и стукались об его ботинки; Кай думал о предметах: может, все дело не в людях, может, стоит найти дверь, которая приведет его обратно – на площадку; Кай знал, как она должна выглядеть: приоткрытая и розовый свет рассвета уже ложится на пол; и он с красной розой в руке; момент, когда он выбрал: просто весь мир или только Венера… Или это нечто иное?
– Кристиан, если б ты хотел попасть в другой мир, какой предмет ты бы выбрал для этого?
– Как в «Гарри Поттере»: коснулся – и ты в другом месте?
– Ну да… Только это очень важное для тебя место, странное, может, необъяснимое, отсчет времени, тебе отпущенного, а не чемпионат мира по футболу.
Кристиан засмеялся:
– Стеклянный шар. Знаешь, такие, рождественские, там домик или мельница; и если встряхнуть, пойдет снег.
– Ну, это классика.
– А зачем изобретать велосипед? Или какая?нибудь картина…
– Погоди, дай?ка я угадаю: «Мона Лиза»?
Кристиан опять засмеялся:
– Нет, я люблю «Наполеона на Аркольском мосту» Гро, странная картина, такая темная, и его лицо из этой темноты – неба, камзола… – Кристиан замолчал, Кай подумал: скоро приедем. Хоть бы в городе пошел дождь… ему бы пошло.
– Кристиан, в этом городе бывает дождь?
– Сегодня обещали, но нету почему?то; приехали, – и остановился у тротуара. Кай думал, что он привезет его к дому Сина, но машина стояла напротив витрин огромного ночного супермаркета. А у витрины стоял спиной высокий, рослый парень, руки в карманах брюк, классный черный замшевый пиджак; парень обернулся – Син. Кай вылез из машины; «пока, Кристиан, удачи… счастья в личной жизни» «пока, Кай».
– Ты знаешь Кристиана?
– А ты видишь Нерона и Рембо…
– Я вижу иногда еще катастрофы и аварии. Самолеты, машины. У меня был знакомый, который вообще однажды в ад попал, – они шли вдоль витрины, в которой чего только не было; Кай подумал, будто мир этот демонстрирует сам себя, что в нем есть хорошего: красивая мебель, красивая одежда, стекло и фарфор, цветы и украшения; вроде предлагает: «оставайся, Кай». – Нам нужно вино, – объяснил Син, – ты пьешь вино? или пиво? или водку?
– Не, вино.
– Красное?
– А ты?
– Красное, – они шли и шли, а где?то далеко играла музыка – такую ставят в кино, чтобы описать Париж побыстрее, Кай даже узнал: саундтрек к «Амели», когда Мэтью Кассовиц бежит по стрелкам; кто?то поставил в машине; и Каю еще сильнее захотелось домой; как она там, без него; это она зовет, вальсом из «Амели», ждет у окна, Ярославна, смотрит на гаснущий город и думает, почему он так долго: сломалась машина, сломалось что?то на радио? Руди в ванной – неземной ребенок, Иной, нулевой волшебник; его можно спокойно оставлять одного: он закрывает двери, не подходя к ним; он вообще только научился ходить, сидел утром на горшке и вдруг встал и пошел, смешной и неуклюжий, а они сидели за столом и смотрели молча, очарованно и благоговейно, как войско смотрит на небо, где перед боем внезапно появляется в облаках лик Мадонны, а потом завизжали, закружили Руди, и погода была ослепительно?солнечная, и они позвонили Люэсу и Джастин, и поехали на пикник… – Суэйд попал в ад совершенно случайно; у него не задался день с утра, и он решил вернуться домой, приготовить вкусное и просто читать, чтобы день прошел мимо, а дома на полу стояло зеркало без рамы: ее заказали и еще не сделали; и Суэйд наклонился неловко и напоролся боком на угол, и упал, истекая кровью, и вдруг провалился в это зеркало; оказалось, по ту сторону зеркал – ад. Знаешь, на что похож ад? На стеклянный дворец с полом в черно?белую клетку.
– Шахматы.
– Да, везде эти чертовы вечные символы. И Суэйд шел по аду, а сопровождал его Ницше.
– Бог умер. Ницше. Ницше умер, Бог. Живописно же твой друг был пьян – или просто накурился?
– Ничего подобного, Суэйд употребляет только кефир и йогурт; он как?то попал на экскурсию в Музей гигиены и с тех пор комично всего боится… Он запомнил, что люди, потакающие своим слабостям, легкомысленные, в аду превращаются в бабочек, которые летят на огонь в камине в одной большой адской гостиной, а люди равнодушные вынуждены вечно смотреть на чужое счастье из?за стекла; вот как мы с тобой сейчас идем вдоль витрин…
– Вещи – это счастье?
– Да, порой. Когда нет дома, больно смотреть на красиво расставленную мебель: вот спальня, голландский нежно?голубой бумажный торшер на тумбочке, я бы такой купил, а вот кухня – на столе даже приборы все, и салфетки, и цветы свежие в вазе…
– Нет, неправда.
– В твоей жизни неправда.
– Да, я, как улитка, ношу дом с собой – набор шахмат и две книги. А что еще было в аду?
– Там был сатана, он вылечил Суэйда и отправил его назад… Вот вино, – они остановились напротив витрины, оформленной под фламандскую картину шестнадцатого века: безумные натюрморты, краски, блики, цвета, густые, как горячий шоколад; Кай обожал их: соломенные корзины, клетчатые скатерти, глиняные кружки и кувшины, пузатые стеклянные бокалы с кусочком лимона на краю. Они выбрали огромную темно?зеленую бутыль в мешковине с сургучом, что?то сладкое, молдавское, домашнее; зашли в магазин сквозь раздвигающиеся двери; магазин был разделен на отделы; «нам «Долю ангела», два литра; знаешь, что такое доля ангела?» «часть вина, испаряющаяся, пока оно бродит… это я в одном романе прочитал…» – он запнулся, чуть не сказал: «в романе жены», но не сказал. «Амели» все еще играла на улице, самые титры, когда Одри Тату и Мэтью Кассовиц едут на мотороллере. Они открыли вино – у Сина с собой оказался нож, складной, со множеством лезвий и с ручкой из серебра и кости; видимо, дежурный подарок вроде малахитовых пепельниц или ручки «Паркер»; отпили, Кай глотнул и подавился, закашлялся, Син огрел его по спине.
– Ты чего, вино же классное: улей и сад.
– Нечаянно, – вино было то же самое – вишневое варенье, что они пили вместо кино, в дождь.
– Обожаю круглосуточные супермаркеты и круглосуточные книжные магазины. Мне кажется, это места, из которых можно попасть в другие миры, такая глючная роскошь и тишина, скопления вещей, – Кай обернулся на супермаркет, на сияющие витрины. Нет, это не его путь. – Меня зовут Дэймон, а тебя?
– Кай.
– Кай? Потрясное имя. Ты его оправдываешь? У тебя ледяное сердце и злой нрав? Я… не люблю злых людей. Может, и полюблю потом, но не сейчас. Еще с год…
– Ладно, – Кай вытер запотевший лоб; душно, в небе скапливались тучи; сказал, как заправский гомо, профессионал, по клубам снимающийся, красивый тонкий мальчик, роза и лезвие ножа. Буду добрым, подам кофе в постель. – Дождь скоро. Может, пойдем куда? В кино?
– Нет, там одна дрянь.
– «Титаник»?
– Нет. «Титаник» я люблю, плачу в конце всегда, а в кинотеатрах «Мне не больно» и «Тройной форсаж».
– Да, гнусь, – Кай и не слышал о таких фильмах, – тогда…
– К тебе?
Ко мне? Но я человек у витрины, весь мой дом с собой – шахматы и две книги… О, Син. Бедный человек. У него еще не появилось спасительного подземелья в клубе, а может, и не появится; у него какая?нибудь комната в гостинице или все та же квартира… отмытая, отбеленная, задизайнированная, джинсовый диван какой?нибудь, стулья из светлого шведского дерева, пахнущие смолой, и на стенах принты… ванная, выложенная итальянской мозаикой, под Помпеи, в которой он читал Харуки Мураками, про девушку в открытой машине, слушающую Duran Duran.
– Ко мне никак, я живу с родителями, – быстро проговорил Кай. Свалился с луны, столь же невероятно. Син ничего не ответил; они шли и шли, просто молчали, потом Син стал рассказывать еще какие?то вещи про друзей: кто чем занимается, как они сделали клуб, какие вечеринки готовят, но имени Венеры он не произносил. «В книжный?» Кай увидел витрины книжного. В одной сидел в кресле восковый Джойс и писал что?то, лист бумаги на коленях, рядом трость, плащ и потертая шляпа, а в другой витрине, словно из колоды карт, из книг была построена башня. Они положили бутылку в шкафчик и побрели, размахивая ключом с номерком, среди полок. Продавец молча выглянул из подсобки, зевнул: «помочь?» – «не, спите, все равно много не унесем, извините наш трехкрейцеровый юмор».
– Ты что любишь?
– Реалистов, натуралистов, стихи Рембо, Аполлинера и Гиппиус, и что?нибудь веселое – «Тайный дневник Адриана Моула» Сью Таунсенд, и про море – Мелвилла, О’Брайена.
– Это неестественно – быть таким сформированным. У тебя, небось, еще семья есть: ребенок, любимый человек? – Кай улыбнулся, этот Син был совсем другим – проницательным и жадным, робким и резким, словно подросток, умеющий виртуозно играть на пианино.
– Да, что?то такое… только в другом мире. Трехгрошовый юмор.
Син отвернулся и пошел вдоль полок, проводя по корешкам рукой, словно выберет на ощупь, как фрукт – на вкус, на запах; он умеет так читать, сквозь картон и ценники, и нравятся ему книги новые, небольшие, лакированные, фантастика, Азимов и Желязны, или современные, эксцентричные, Питер Хёг, например, или то, что любят все: японская проза, детективы про тамплиеров и прочие католические загадки. Или совсем уж детские, добрые, сказки. Туве Янссон про муми?троллей. Сент?Экзюпери ему не подойдет, и Достоевский тоже. Син шел и шел; и остановился. Точно. «Смилла и ее чувство снега». Кай не читал и половины из того, что называла Венера, но нахватался названий и имен и привык, что она книгами описывала людей; «ему нравится исключительно Павич, изысканный, но немудрый» – и, значит, человек такой: зеленый, бархатный, с бахромой, изысканный, но как?то привычно, устоявшееся представление об изысканности, как глянцевый журнал; детское черное и белое, золотое и серебряное. Сама она любила Андерсена и Александра Грина, Достоевского, «Преступление и наказание» – «потому что Раскольников красивый», Гофмана и Диккенса.
– А ты – ничего не выберешь? – сонный продавец вышел из подсобки, пробил чек, дал Сину под книгу коричневый бумажный пакет с символикой магазина, раньше такие давали в зеленных лавках; Кай восхитился: надо предложить Венере.
Ты же угадал – у меня все есть, – и они вытащили вино и вновь вышли в ночь. Кай уже понял, что Венеры Син не знает. Или Венера занимается не книгами. Вином? Одеждой? Прокатом маскарадных костюмов? Кай еле поспевал за Сином – тот был выше и сильнее; иногда он внезапно тормозил возле очередной витрины, или кафе, или ночной сценки: старичок, не бомж, просто бедный, ищет бутылки в бачке, – и Кай налетал на него. «Красиво, правда? Ах, я хотел бы все вещи на свете» «ты лопнешь» «знаю»; в другом магазине они купили еще корзинку деликатесов: паштет из гусиной печенки, с грибами и сливками, сыр с плесенью, язык, яблоки и клубнику; в одной витрине висели гирляндами сотни телевизоров, крошечные и огромные, и все крутили музыкальный канал – концерт, сине?красные лица, и Кай узнал братьев – Фреда и Вилли де Вильде, остановился; «моя любимая группа, – сказал Син в спину, – впрочем, их все любят, это массовый психоз»; в ночном кафе – там играла тоже скрипка, какая?то девушка?еврейка, – они выпили кофе: Син – глясе, Кай – свое шоколадное капучино; а старичку у мусорки Син дал денег.
– Дэймон, а куда мы идем? У нас есть цель?
– Мы идем ко мне, – скучным голосом ответил Син, – ты же сказал, что дома у тебя нет…
«Я сказал совсем другое», – хотел поправить Кай, и еще хотел спросить, каждую ли ночь Син бродит по городу, ищет впечатлений, будто собирается писать роман, часть II, эпизод 15 «Улисса», или умереть; но они вдруг пришли – Кай ахнул: это был дом Венеры – высотка в двадцать восемь этажей, с четырьмя лестницами: север, запад, юг и восток.
– Ты здесь живешь? – он был потрясен, точно море расступилось перед ним. Син кивнул. Они вошли в лифт, дверь медленно и бесшумно закрылась за ними – новая пружина. Кто?то стер в лифте про поражение, зато наклеил картинку из жвачки «Терминатор?2»: мальчик и Шварценеггер едут на мотоцикле. Лифт доехал до двадцать седьмого, остановился – спокойно, размеренно, старый добрый лифт; «если он пойдет на двадцать восьмой… я умру? спрыгну с балкона, подорву психику Сина навсегда, он начнет видеть мертвых, как мальчик в «Шестом чувстве»…» – но Син достал ключи и открыл дверь на двадцать седьмом, соседнюю с рыжим котом. Включил свет. Кай не ошибся насчет дизайнерства: квартира оказалась как из журнала. «Сделайте мне вот так», – сказал Син когда?то; «Идеи вашего дома», приложение к ELLE. Вся в зеркалах прихожая, уводящая в полный блестящего синего коридор, в комнату с закрытым плотными занавесками окном, пол из мрамора, потолок словно прозрачный – ночное небо, идеальное по созвездиям; темно?синий кожаный диван, перламутровое кресло, изогнутое, столик из синего стекла и в вазе – темно?синяя стеклянная роза.
– А где ты спишь?
– В клубе, на диване днем, в фойе. Гардеробщица приносит мне в термосе какао.
– Правда?
– Правда.
– А это все зачем?
– Ее не покупали. Все знали.
– О чем?
– Ты же знаешь.
– Я не вижу прошлого и призраков.
– Да ладно, из газет. Это было год назад. Нет, не из газет, – Син нахмурился, сел на пол, у дивана, – но я знаю, что ты знаешь.
Кай тоже сел на пол, думал, он холодный, как мороженое, но мрамор оказался теплым, словно нагретым на солнце: Равенна, огромные розы, красные, махровые, разморенные жарой бабочки на них, сбитое золото на плитах, пыль и запустение…
– Ну, расскажи.
– Ты что, с ума сошел? Я же буду страдать.
– Ты и так страдаешь. Небось сидел гордый, неприступный, недоступный, такой юный, загадочный, как космос, как чувство снега и полнолуния, и психологу ничего не поведал. А каждую ночь, целый год рассказываешь кому?нибудь – бродяге, официанту в ночном кафе, продавцу в магазине…
Син сжал пальцы, вдавил в ладони, будто мог их спрятать там, как в варежки.
– Я не виноват. Я не могу, вдруг однажды это превратится в слова, уйдет – а оно не превращается, не уходит… Я и кричал, и писал на бумаге и сжигал, и рвал на клочки, и разговаривал с водой – ох, как больно, Кай. Это хуже любви – убийство хуже любви.
Кай сел и слушал. Син рассказывал привычно, как шел сегодня – привычно, зная, где какой поворот, как таксист едет, разговаривает с пассажиром, слушает музыку, берет деньги, видит пешеходов и постовых; в ином мире Каю эту историю рассказывала Венера – коротко: ну, вот такое дело, он не живет на высоте, не живет в квартирах вообще, а Харуки Мураками любит по?прежнему. Син говорил совсем по?другому – медленно, как закрывалась дверь в подъезде за ними, как ехал лифт, несломанный, размеренно; так рассказывают у костра, ритуально, для новичка: все уже знают историю и следят, как бы рассказывающий не сбился, не рассказал другими словами, не упустил ни одной детали.
– Круто, – сказал он, когда Син закончил. – А теперь расскажи настоящую историю. Как все было на самом деле.
– Я не вру.
– Я знаю. Но было как?то… по?другому… ты рассказываешь, как триллер, как старый фильм типа «Омена», а это жизнь… Дэймон, Син, друг мой.
Он впервые назвал его другом. Взял его за руку. Син дрожал. Губы у него тряслись, словно на холоде. Как мой Руди, подумал Кай, когда мы пришли в тот странный дом с витражами и змеями на гербах, с кучей книг и платьев, Венера хотела там остаться, а Руди испугался. Точно что?то увидел, точно дом сказал ему: я не для маленьких мальчиков, скажи это родителям. Пусть везут тебя за город, где цветы. А у Сина цветок – из стекла, синяя роза, синих роз не бывает.
– …я сидел и читал, я правда читал, я помню каждое слово, я не знаю почему, словно эту книгу мне нужно было запомнить, рассказать потом под запись, а потом наступила тишина – так тихо?тихо, не слышно ни шагов, ничего; я всем говорю, что он орал и ломал мне дверь, но ничего не было: он просто стоял под дверью и слушал меня, а я слушал его; еще чуть?чуть – и я бы вышел, и мы бы сели пить чай, потому что я тоже плохой; он знал; и только потом, когда нам начала полиция ломать Дверь входную, железную, распиливать и кричать на него, он забился, заорал тоже, заколотил в мою дверь… полотенца дрожали, одно упало, я поднял и вытер себе лоб, мне стало жарко, ванная такая маленькая, я бы вышел только потому, что у меня уже начинался приступ клаустрофобии…
Сина вырвало: «извини, о боже»; Кай взял его за лицо и посмотрел в глаза – синие, прекрасные.
– Син, ты теперь сильнее всех. Сильнее темноты, города, газет, этой квартиры. Люби парней, спи в клубе, делай, что хочешь. Теперь тебе не страшно. Ты живой. Понимаешь? Нам кажется часто, что мы умерли, что нам ничего не нужно, мы живем как автомат с кофе: ну, есть у меня внутри только эспрессо и двойной со сливками – что я сделаю? Я же не мастер. Я не Бог. Что есть, то есть; большего не дано. Дано, Син, тебе дана жизнь, это дар сродни дарам волхвов; цени, иначе скажут: ах, уже не надо, не ценишь; и убьют, Син, накажут, отправят в другой мир и лишат всего.
Я не знаю, за что я попал сюда, наверное, чтобы просто помочь тебе, но я подумаю: что не так во мне? Может, я просто слишком счастлив, самодоволен, а в жизни нужно немного боли, страха… Чтобы не растерять лучших качеств – смелости, гордости, радости, нежности; каждый день доказывать, что ты достоин даров… Может, я перестал подавать ей в постель чай с целым букетом запахов: гвоздикой, корицей, апельсином, яблоком, бергамотом; перестал переживать каждое ее слово, движение, как великолепное новое впечатление, как от прогулки по новому городу; перестал думать, как она прекрасна, перестал помогать на кухне, когда она делает салат; это так разрушает – думать, что все есть…
– … Я уберу, – сказал потом Кай, – где у тебя тряпочка?
– Думаешь, у меня есть тряпочка, – засмеялся сквозь слезы Син. – Я белоручка. На кухне есть какие?то губки. Для посуды. Прости, я просто встать не могу, у меня ноги не идут. А ты еще чаю поставь, ладно?
Кай включил свет в кухне. Кухня была красивая: стол и стулья – легкие, белые, на столе тарелки на кружевных салфетках; шкафчики тоже белые, дверцы из стекла с серебряной резьбой; и белая и серебристая посуда; и чайник, и холодильник, и тостер, и плита – белоснежные, крутые, немецкие. Какие тут губки – тут никто не жил, не готовил никогда; да, Син уничтожил квартиру по максимуму. Кай завернул за холодильник к раковине и оцепенел, будто его укусила пестрая змея и яд подействовал мгновенно. Стена между холодильником и раковиной осталась старой: коричнево?бежевые обои проступали между картинками, распечатанными на черно?белом принтере, на листах формата А4; какие?то уже пожелтели, выгорели, скотч посерел. Много?много фотографий – маяков…
Маяк, радиостанция «Туман», откуда начался путь. Когда город строили, этот маяк там уже был – и уже был старым. Именно по нему нашли хорошее место для города – о, как давно это случилось; Кай любил историю, Венера любила книги, поэтому они знали про маяк. Маяк остался от какого?то прежнего города, названия которого не найти, а теперь их город гибнет, зарастает, гаснет, люди уходят, а маяк остается, и, быть может, здесь через тысячу лет построят еще один новый город. В сильный шторм, когда волны разбивались прямо о стекло студии, они в эфире ловили странные сигналы азбукой Морзе – рваные слова; словно с кораблей, которых уже нет; отразились от чего?то зеркального в космосе. А еще есть Темная Башня, в которой соединяются все миры; можно найти ее и посмотреть, на каком ты этаже, и что?нибудь исправить, как починить кран, – если твой мир сломался и движется в никуда. Правда, при условии, что ты чист душой и умеешь стрелять не рукой, а сердцем. Один этаж за другим, лифт или лестница, библиотека или ванная, но все миры друг за другом, словно тонкие переливы цвета, – поэтому?то есть несколько Джастин, Люэсов, Синов… Каев? Венер? Если вернуться на маяк, на радиостанцию, – вдруг там ответ? Вдруг там дверь? Предмет, который держит миры, лежит – незаметный для всех… Кай налил воды в чайник, включил его, взял губку, набрал в глубокую тарелку воды и вернулся. Хотя ему хотелось бежать – быстрее, быстрее; там внизу машина, а ночь уже заканчивается, и, если наступит рассвет, вдруг окажется поздно – как для вампира? Син лежал на диване и дремал; Кай вытер лужу, отнес опять все на кухню, остановился у стены: здесь был и Александрийский маяк, копия с древней гравюры, и сахалинские – почти полная коллекция, и декоративные европейские, и северные, источенные ледяным морем, больше похожие на крепости, и городские, которые превратили в рестораны; только маяка из города Кая не было.
– Син, чай пить… – Син встал неохотно, будто Кай разбудил его в середине интересного сна, полного приключений: веревочные лестницы, парусные корабли, драгоценности, – мне нужно спросить тебя про маяки. Это твои картинки в кухне?
– Да, я оставил, я люблю маяки. Я все покупаю – принты от IKEA, игрушки, модели, фотографии… но все в клубе, а это так, я еще маленький был, мне мама на работе, в Интернете, искала, и распечатывала, и дарила каждый вечер новый… я так радовался.
– А у вас в городе есть маяк?
– Да, целых два; один маленький, на косе в море, красный, он для кораблей; и еще второй, на вершине горы, – о, он недавно сломался, его чинят, но вряд ли сделают: дорого; он такой красивый, разноцветный, в дождь было сказочно… А что?
– А радиостанции ни на одном нет?
– Нет.
Что же делать? Кай сел на пол. Син лег на подушку, смотрел беспокойно, вдруг вздрогнул – на кухне засвистел чайник.
– Вспомнил, есть еще один, – крикнул Каю на кухню, и у Кая дрогнули руки, он чуть не пролил кипяток. – Но он далеко, за городом, по трассе междугородней и в лес сворачивать, туда никто не ездит, все заросло. Он прямо старый, полуразрушенный. И с моря не подберешься: там скала и прямо глубина страшная, камни торчат острые. Я с корабля видел… Ты куда? – Кай выбежал из кухни, схватился за ручку двери, потянул на себя, не поддалась, где тут замок? – Ты не останешься со мной? Что там, на маяке?
– Не могу, – сказал Кай, – я не могу сказать, я сам не знаю. Но мне нужно туда, хотя бы туда, потому что больше надежды никакой, а до рассвета полчаса.
– За полчаса – только на машине. Я подвезу.
– Нет, у меня своя, здесь, у подъезда.
Син посмотрел в его безумное бледное лицо, открыл резко дверь:
– Ну, пока.
– Прости, – Кай обернулся у порога. – Боишься оставаться?
– Нет, я же взрослый, – Син улыбнулся, а делал он это чудесно, он был очень красивым. – У меня есть горячий чай и новая книга. Ты прав, я жив, и этому надо радоваться. Я вообще радостный человек. И это всего лишь квартира, что теперь поделаешь. В квартирах привидения не живут, не развернешься.
– Мы увидимся, – шагнул и поцеловал его в щеку, Син коснулся щеки, будто кожа стала новой, излечился от проказы, как в Средние века от прикосновения короля; а Кай уже побежал, в лифт, вниз, из подъезда, машина на месте. И шахматы, и книги. И пахло слабо виноградом. Кай включил радио – что будет? ерунда? или что?то значимое, знакомое? Играл Моби, «Every you end», это было знакомое; «надеюсь, дорога тоже»; Кай вывел машину из города на трассу – все пока одинаково; пошел на предпоследней – ветер разбивал о стекло белых, словно напудренных, мотыльков. Он помнил поворот – они так ехали на работу, но здесь, Син был прав, все заросло; и машина застряла, забуксовала, потом двинулась еле?еле, ветки царапали бока. Бесполезно. Кай вылез, тяжело дыша, будто не ехал, бежал всю дорогу; достал рюкзак, погладил машину по боку и пошел вперед, сквозь кустарник. Ему казалось, что придется идти целую вечность: на машине дорога до маяка, по нормальной гравийке, занимала пятнадцать минут, а здесь, по этому лесу Спящей красавицы, – как минимум ползти до одиннадцати утра. Но на обрыв он вышел резко и за те же пятнадцать минут; весь ободранный, по щеке сочилась кровь. Маяк стоял во всей красе – огромный, обвалившийся со стороны моря, черный, Кай почувствовал пропасть под ногами – «глубина страшная и острые камни» – и запах моря, соленый, холодный, Ледяная Дева только и ждет на дне; Кай уцепился за ветку, поймал равновесие, подождал, пока глаза привыкнут к этой темноте, не лесной, и пошел, осторожно, как канатоходец над площадью Звезды.
Предмет – это сам маяк? Кай ободрал все ладони, пока добрался и спрыгнул на камень. Маяк был высоким, как настоящая башня; с моря рванул ветер, точно желая сбить Кая с ног. Под ногами захрустели давно битые бутылки. Когда?то сюда, видимо, ездили молодожены – пить шампанское, повязывать ленточки, фотографироваться на фоне. И внутри все, наверное, исписано: «Вася плюс Катя», никаких тебе афоризмов. Башни уже больше не держат мир, их не атакуют, не осаждают, за ними не прячутся – это просто развалины. Кай прикоснулся к черному камню – голос времени был тихим?тихим, маяк казался таким старым, что не помнил, как его зовут. Лестница и верхняя площадка еще целы. Кай почувствовал себя героем из братства кольца: разжечь костер, чтобы увидели в горах, прислали войско в помощь – противостоять тьме. Он медленно?медленно поднимался по железной лестнице, она дрожала и скрипела, перила были грязными, заплесневелыми, мрак стоял полнейший – словно рассвет отменили, поменяли меридианы, и теперь здесь полгода ночь. На площадке ветер гонял мусор – и качал фонарь, разбитый временем. Маяк был давно мертв. Кай снял фонарь с площадки, собрал в ее центр мусор – засохшие ветки, какие?то сырые картонки, занесенные ветром, как в другие края заносит диковинные растения, – и попытался поджечь; но огонь гас от ветра, сырого и соленого, как в рыболовецкой деревне; тогда Кай достал книги, кинул – и Нерон вспыхнул, как деревянный дом, Рембо же загорался медленно, словно разговаривая с огнем. Кай хотел пошевелить веткой, и вдруг костер полыхнул, Кай отпрыгнул, а костер оживал, разрастался, поднялся ввысь, будто жертвенный, и в море пошел луч, огромный, ясный, белоснежный; и Кай увидел в нем – корабли, сверкающие, разноцветные, разные: фрегаты и каравеллы, броненосцы и лайнеры; а потом луч ушел в самое небо; и небо открылось, тучи скручивались, как молоко в горячем чае, заалело, словно огромная роза расцвела в небе, растеклась кровью; вдруг хлынул ослепительный свет – и Кай увидел ангелов с мечами, в сверкающих доспехах, с крыльями величиной с город; а город под небом золотым состарился, разрушился и зарос ветвями – все в секунды; маяк дрожал под ногами Кая, и рос?рос в вышину, и стал огромной башней, упирающейся в облака – белые, голубые, серые; они проносились над башней, над городом, над лицом Кая с головокружительной скоростью. У подножия башни расцвело поле красных роз – и у края поля Кай заметил молодого человека в сутане, смотревшего вверх без страха; а башня все росла, и шел дождь, и шел град, и снег огромными хлопьями, и палило солнце, и луна меняла свой облик, и летели птицы, и город вновь поднялся – небоскребы, улицы, машины; потом опять на землю упала ночь – а город сверкал, как капля росы, как новогодняя гирлянда, и маяк поднимался в высоту, и огонь на его площадке превратился в звезду – первую утреннюю, Энджи. И Кай увидел в ней, как в хрустальном шаре, тысячи миров – они были словно разные комнаты, и кто?то шел по лесенке с лампой и искал свой. А потом звезда разрослась до Вселенной, Кай увидел, как в ней трепещут миры, уже не комнаты, а розовые, лазоревые, изумрудные галактики, и медленно плывут, томно рыбки в аквариуме; Кай шагнул, протянул руку к Земле, звезда вспыхнула, и свет ударил Кая в грудь, в самое сердце, разорвал пополам, и все закружилось – в огромной разноцветной воронке, Кай полетел по камням, упал, ударился об острый и потерял сознание…
Пейджер пищал и пищал, прыгал по столу; Кай поднял голову – тяжелую, расколотую, словно с похмелья; руки были исцарапаны, на щеке и виске саднило, коснулся – кровь; взял пейджер; «Кай, ты где? в туалете? спишь? В эфире тишина. Я еду, и вдруг тишина», – надрывался Матвей. Кай кинулся к компьютеру – так и есть: девяносто секунд простоя, катастрофа, взрыв на кондитерской фабрике; поставил «Новые люди» Сплина. Все было на месте, и все по?старому: в черном бархатном рюкзаке – целые Нерон и томик символистов, и бутерброд с полукопченой колбасой; Кай достал его и жадно съел; на клавиатуре – полупустая пачка красного «Честерфилда». Тут приехал Матвей; «что?то случилось?» – «блин, просто вышел на море посмотреть, не рассчитал», – «башку снимут», – «ага», – «покурим?» Они вышли на лестницу; курили в одно из окошек?бойниц; далеко – за камнями, за дорогой – огни самого странного города на свете, похожие на причудливую неоновую рекламу, ром и кока?кола; на губы попадал соленый дождь. «Опять дождь?» – «да, мать его за ногу, третью неделю, ничего себе, да? да еще ливень такой, за шиворот, до такси не дозвониться, вечер пятницы, пришлось торчать на солнце, ловить попутку», – «какая сюда попутка?» – «не знаю, но дядя довез, полная машина вещей: книги, овсяное печенье, газеты, клетка с хомячком», – «беглец?» – «наверное».
Потом Кай надел куртку, вышел из маяка, машина – узкая, черная, низкая, словно гондола, а салон маково?красный, стояла у самой двери; Как погладил ее и поехал, курил и курил, он любил «Честерфилд», – и слушал, что ставил Матвей: «ганзов», Metallica, саундтрек к «Угнать за шестьдесят секунд»; из?за дождя и ухабин на дороге до города иногда сбивалось на соседнюю частоту – «Радио?любовь», куда звонили всякие девчонки и беспрерывно хихикали; все было так, как надо. Сердце Кая билось, словно он опаздывал. Вот кинотеатр – только «Титаник», сеанс в три часа ночи, свет над афишей гас из?за дождя, опять загорался, и лица ДиКаприо и Уинслет словно подмигивали Каю: «ты выиграл свой счастливый билет».
Тормознул возле супермаркета, купил кофе и виноград; и немного постоял под дождем – соленым, сладким; он боялся ехать домой, боялся позвонить, хотя прошел сквозь миры, потерял те накопленные, сбереженные годы?розы ударом света в сердце, увидел Темную Башню, а мало кто выживает после этого – тогда уходит в пустыню, становится святым; Кай стоял и мок, до самой кожи, все насквозь: куртка, футболка, трусы; потом поехал. Дом стоял, как еще одна башня, – и горело только одно окно наверху. Дверь грохнула; в лифте оказалась надпись: «У Бретта глаза цвета ветра»; Кай ровно доехал и остановился на двадцать седьмом, вышел; площадка полна вещей: велосипед, мешки с обувью, осеннее пальто, корзина с хрусталем… Кай поднялся по ступенькам – и толкнул дверь, как Гладиатор, в тот мир, синюю, сияющую, и увидел прихожую, в которой стоял открытый, сохнущий зонтик; а на полочке для обуви лежал пакет новых книг, и где?то в комнатах пело радио – что?то битловское, прекрасное, раннее; и в ванне плескалась вода; и шумел чайник.
– Кай, это ты? – крикнула она звонко, сквозь радио. – Мы в ванной, иди к нам, у нас тепло и пахнет жасмином.
Кай привалился к косяку двери, потому что на секунду разорванное, отданное сердце напомнило о себе – от счастья заныло, как в непогоду раненая рука; а потом он забыл и Темную Башню, и звезду Энджи – он дома, он дома.
Save a prayer
Однажды класс Макса вывезли на экскурсию в один из самых знаменитых мировых музеев, что находился всего лишь в соседнем городе, готическом, полном католических церквей и ранней весны; голые узловатые ветви и черные вороны на них, словно из фильма «Омен»: что ты сделал для дьявола; но даже родители большинства детей в музее и в городе никогда не бывали и не собирались: а что там делать? Там же нет шахт… Автобус шел долго?долго, все заснули, все проснулись, наелись всякой детской дряни: чипсов со вкусом икры, кириешек с запахом бекона и чеснока, шоколадных батончиков – нуга, карамель и фундук; кого?то даже начало тошнить, и еще два раза остановились в туалет: мальчики направо, девочки налево; и только потом приехали. «Дети, не разбегайтесь», – пронзительный в весеннем холоде голос учительницы, просто как телевизор, когда спать хочется, с ток?шоу; а потом был музей – много?много картин, статуй, оружия, дети никак не понимали, несмотря на все усилия экскурсовода, что тут клевого. И только Максу все нравилось – город, полный ворон и католических церквей; и «Омен» он обожал; и был католиком; а в его городке только приход в трех километрах и лишь по воскресеньям, с бабушкой на старом белом кадиллаке; про многие картины он знал из книг; а потом он вдруг увидел Рене Дюрана де Моранжа, одного из основателей своего рода, героя битвы при Креси, в момент самого боя: Рене обернулся, призывая солдат идти за собой, лицо его, на фоне тумана, пыли, флага, – яркое, словно удар молнией, фамильные серые глаза сверкают, светлые волосы рвет ветер, щека рассечена, кровь стекает к губе и ниже – на почерневшие в бою доспехи, а в руке у Рене тяжелый меч, огромный, как каменный мост, с гербом и инициалами; Макс знал, какой он тяжелый, у них в семье этот меч сохранился, несмотря на все смены династий и революции, вместе с библиотекой и портретной галереей. Этой картины Макс никогда не видел, дома в галерее висел приблизительный портрет Рене – черно?белый, из какого?то фрагмента книги по истории, написанной после битвы, примерно два года спустя. Макс оглянулся – его восторга никто не заметил, класс уже ушел далеко вперед, во фламандские залы, а Макс все никак не мог заставить себя сдвинуться с места; картина его заворожила, точно цыганка; люди стали натыкаться на стоящего в благоговении мальчика, стали тоже смотреть на картину: ага, рыцарь, окровавленный, но рвется в бой, кто художник? Гм… неизвестный какой?то, датирована концом восемнадцатого века, видно, кто?то из романтиков вдохновился; гм… время?время, смотреть дальше, за билет уплачено, а еще два этажа… гм… отойди, мальчик, мешаешь проходу. И бежали дальше – к Рафаэлю и прерафаэлитам, к наброскам Леонардо и Сальвадора, к импрессионистам и модернистам; а Макс так и простоял возле картины всю экскурсию, его насилу отыскали служители вместе с учительницей. «Пока, Рене…»
– Бабушка, а ты знаешь, что в городе, в музее, есть портрет Рене Дюран де Моранжа? – они ужинали, бабушка сидела у камина в своем любимом кресле – огромном, белом, мягком, как снежная гора, ноги на скамеечке из красного дерева, на коленях одновременно кот, книга и чашка с какао.
– Конечно. Мы даже пытались ее купить с Евгением, – то есть с дедушкой Макса, – но нам отказали: мол, народное наследие, музей не торгуется…
– В смысле они заломили цену?
– Невероятную. Как на сахар во Вторую мировую. Спекулянты. Картина даже четверти суммы не стоит. На нее даже никто не смотрит в этом музее. Художник неизвестен – какое же это народное достояние? Если бы это был Делакруа хотя бы… – бабушка фыркнула в чашку. Романтиков она не ценила. Вот Вермеер… Максу тоже стало жалко, что музей не продал картины – и что бабушка с дедушкой не купили, не постояли до конца за свое наследие. Макс бы сейчас ходил в портретную галерею и смотрел на Рене, набирался сил и вдохновения, и жизнь не казалась бы такой невыносимой.
Когда?то у Дюранов де Моранжа было все: богатство, и власть, и слава, и милость королей. Потом случилась революция; они воевали на стороне монархии и спасались в других странах, где тоже случались революции и где Моранжа опять выступали на стороне монархии; пока прапрадед и прапрабабушка Макса не уехали в страну, где монархии не было никогда, а только демократия и деньги; деньги, по счастью, у них водились; Дюранам разрешили построить замок на вершине горы – точь?в?точь по планам их родного, но разрушенного; милая причуда, загородное поместье: черный камень, красный кирпич, гаргульи под окнами, колонны, арки; огромный сад, множество лестниц, башни и залы, в которых никто не танцевал; камины, которые никто не разжигал; огромная иллюзия, сказка, замок для двоих. Правда, инженеры осмелились на новшества, канализацию например. Дюраны не возражали. У подножия горы через несколько лет вырос поселок – недалеко нашли золото. Золото закончилось, нашли уголь, провели железную дорогу; поселок рос и превратился в небольшой городок. Замок возвышался над городком, как феодальный, со старинного часослова. Прадед – Ги Дюран – обожал охоту; вокруг замка стоял лес Спящей красавицы, диких зверей там водилось много, поэтому замок стал его постоянным местом жительства. И пришлось покровительствовать городку – прадед дал денег на капитальный ремонт школы и детского отделения в больнице. Дедушка и бабушка Макса – двоюродные брат и сестра, Евгений и Мария Евгения, – родились и выросли уже в замке. В часовне замка они и повенчались. В замке у них появились дети: Макс, не сам Макс, а его дядя, и мама Макса – Марианна.
На роды акушерку и врача вызывали из городка. Часто в городок спускались слуги – за покупками и на танцы, да и дети прислуги учились в городской школе. Но сами Дюраны в городке почти не бывали. Дюраны де Моранжа были красивыми и надменными. В городке шептались, что и сумасшедшими к тому же, – еще бы, столько веков не работать, а лишь воевать, развлекаться и жениться только друг на дружке. Они словно жили в своем измерении, где ценности были другие и грехи другие; они маги, колдуны, а правила смертных – не для них, не по размеру. Макс, который дядя, и его сестра Марианна учились в дорогой частной школе, а потом в дорогом университете; Марианна – на искусствоведа, Макс – на математика; слухи о них ходили по всему студенческому городку. О том, что они любовники, хоть и брат с сестрой, «Мечтатели»; одна половина университета, женская, была влюблена в Макса, другая, мужская, – в Марианну, но они встречались только друг с другом, друг с другом ходили в кино, в кафе, в клубы, носили одну одежду и сидели в библиотеке рядом. И за руки держались. Гадость…
А после университета случилась трагедия – Макс разбирал ружье; он, как его дедушка, любил охоту; ружье было новое, тугое и выстрелило ему прямо в лицо – прекрасное, тонкое, белое, светившееся в темноте, словно перламутр. В соседней комнате был знакомый Макса, он собирал рюкзаки, вбежал, перекрестился и держал дверь, чтобы мать Макса не увидела этого ужаса багровых рек. От горя по сыну через год скончался отец Макса – что?то с сердцем, а еще через год случилась совершенно странная история – словно из Диккенса или Бальзака. Марианна куда?то уехала, потом за ней последовала ее мать, но вскоре вернулась; да не одна, а со свертком, коляской, роскошными игрушками; в свертке лежал Макс, названный в честь дяди. А Марианна так и не вернулась.
Первое воспоминание Макса – это зеркало и свечи возле него, оплывающие, бледно?желтые. Макс не удивлялся воспоминанию: в замке был газ, а потом и электричество, но бабушка предпочитала свечи и камин. В этом было что?то театральное, Максу казалось, он живет в Шекспире, только действие еще не началось. Второе воспоминание – бабушкина собака, белая, кудрявая болонка по кличке Герда, настоящее чудо с розовым бантом, пахнущая чудесно жасмином и шоколадом – от бабушки. Макс помнил, как они бегали по газону: лето, все вокруг в цветах, садовник так старался, посадил цветы в форме герба Дюранов, а они с Гердой разрушили всю красоту. Потом Макс – правда, сначала получив от бабушки подзатыльник, а рука у нее была тяжелая, в перчатке и кольцах, – извинился перед садовником, помог высадить заново все цветы, но они не взошли уже… Третье – балдахин над кроватью. У Макса не было отца и матери, он сразу спал один; бабушка читала на ночь молитву с ним и немножко сказки, а потом гасила свет и уходила; и Макс оставался один в огромной кровати – огромной, как поле битвы, как поле, полное васильков, среди сотни подушек, атласных одеял, в роскошной французской пижаме, лежал и смотрел в балдахин: тяжелый красный бархат, золотые кисти, мерцавшие, как чьи?то глаза, в темноте; и сочинял: стихи, истории, сам для себя, чтобы не бояться темноты, огромной жизни за стенами замка, – прекрасные, как звон колокольчиков; маленький наследник Тутти, ребенок королевских кровей. «Ты – Дюран де Моранжа, – отвечала бабушка на все его попытки капризничать, – а не какой?то пролетарский пащенок; веди себя соответственно». Макс вел: боялся плакать, терпел молча боль, ел аккуратно, рано научился ходить, рисовать и читать. И вдруг шок – бабушка отдала его в школу в городке. Сказала: «собирайся»; а Макс рисовал одну из своих фантазий – человечка с ножницами вместо рук; но все оставил, оделся – голубая рубашка, синий комбинезончик с красной бархатной машинкой на нагрудном кармашке, крошечные синие кроссовки; бабушка была вся в белом, в перчатках, в шляпе кружевной, жемчужное ожерелье в пять рядов; они сели в бабушкин коллекционный «кадиллак», ажурные черные ворота с гербом Дюранов скрипнули, отворились – и они спустились с горы. «Бабушка, а мы куда?» – до этого Макс был в городке только раз – в супермаркете с кухаркой; он не бегал там, как все дети, в поисках сладкого и яркого, а жался к юбке: мир напугал его своими размерами, а ведь это был всего лишь супермаркет… «В школу, Макс, тебе пора в школу осенью». Макс знал, что такое школа, но так же, как про любовь, – из книг.
– Возьмете моего внука в свою школу, Лиза? – бабушка вошла в кабинет директора школы, ведя Макса перед собой, как щит; школа была маленькая, секретаря не имелось, можно просто спросить у вахтера: «директор у себя?» – и постучаться. Директор читала утреннюю газету, опустила ее, изумилась.
– Он же кроха совсем, сколько ему?
– Шесть будет в феврале.
– Сейчас детей отдают в семь, а то и в восемь.
– Это от лени. Ленивы родители, и дети их вырастают ленивыми. А Максу нечего дома сидеть. Он умеет читать и писать, считает до ста. Что с ним дальше делать – я не знаю.
Директор поманила Макса, Макс посмотрел на бабушку, та кивнула: «можно», и Макс подошел. Директор школы ему понравилась. И школа понравилась. Они были простыми и светлыми, как время после обеда. Директор дала ему страницу из газеты: «прочитай?ка»; Макс взял и начал читать, как учила его бабушка, – с запятыми; он даже понял, про что был текст: немецкий канцлер приехал в гости к президенту, президент показал канцлеру свою коллекцию новогодних открыток. «Хорошо, очень хорошо», – еще раз изумилась директор, подняла очки на лоб. «А вы уверены, что Максу Дюрану будет хорошо в нашей школе?» и это был вопрос с подвохом. «Почему Макса Дюрана отдают в простую школу?» – вот как он выглядел бы слева направо. Бабушка поняла, улыбнулась незнакомо, недоступно, как кинозвезда за стеклом лимузина; сказала, что все продумала и решила: мол, не могут же Дюраны де Моранжа всю жизнь восседать на вершине горы. Ответ тоже был двойной, загадка?метафора: дождь – это парень с длинными ногами; с двойным дном, как старинная шкатулка, тайные письма, измена королю, измена мужу. «Он не совсем Дюран де Моранжа, так что ему можно и даже нужно», – вот что было на дне; портрет с синими глазами, который не попадет в галерею, а только в медальон…
Первого сентября Макс и вправду оказался самым маленьким, самым младшим. С собой он взял в карман маленький стеклянный шарик, одну из множества игрушек – как амулет: «защити, спаси, сохрани»; в руках держал букет роскошных розовых роз – для учительницы. «Статуэтка дрезденского фарфора», – сказала одна учительница другой; Макс был совершенно нереальным: персонаж из Голливуда, маленький лорд, экранизация, палимпсест, костюмчик черного бархата, белая рубашка с серебристым воротником и бабочка. «Максимилиан Дюран де Моранжа»; «здесь», – ответил Макс, поднял руку даже; в классе захихикали. «Максимилиан… не имя, а целая миля». Учительница подумала: бедный мальчик, тяжело ему придется; что за женщина эта Мария Евгения Дюран де Моранжа, без сердца, что ли, как можно отдавать его в обычную школу? Он здесь будет одинок, как на острове; конечно, он найдет себе занятие, нырять за жемчугом, и станет самым богатым человеком на земле; только жемчуг стоит не дороже песка, если у тебя нет друга… В столовой Макс в ужасе смотрел на манную кашу, расползшуюся по тарелке бесформенным пятном, как обычно обозначают на картах захваченные врагами территории; потом перекрестился слева направо и пробормотал короткую, как лесенка на крыльцо, молитву: «Благослови. Господи, нас и дары Твои, от которых вкушать будем через Христа, Господа нашего, аминь»; абсолютно бессмысленную, как мечты на ночь: вот, стану знаменитым писателем, полюбит меня кинозвезда; хотя кашу есть не собирался; «ты что, в Бога веришь?» – спросил мальчик рядом; он был большим, толстым, непобедимым и пользовался этим, у кого?то уже отобрал мелочь, его начали бояться; родители к тому же ужасно его одели – на вырост, в бесформенное; зато у него очень красивые карие глаза, как у овчарок, яркие, словно с отражением костра. «Не знаю», – честно ответил Макс; пока он больше верил в привидений, в сказки Гофмана, в ясновидение; «мои родители не верят в Бога, особенно отец, когда напьется», – сказал мальчик. «Оу…» – Макс не знал, что ответить, чем помочь, – ему показалось, что мальчик попросил о помощи. «Никто не верит в Бога», – сказал другой мальчик; Макс посмотрел на него – и мальчик поразил его своей красотой, словно кинул чем?то тяжелым, острым, копьем, и попал, сшиб с коня, средневековый турнир: черные волосы, белая кожа, розовые губы, синие глаза; одет он был странно – в черный балахон с капюшоном и с бахромой, рваные джинсы в пятнах масляной краски; «мне отец сказал, что Бог есть, но никто в Него не верит: сложно; ведь есть телевизор, есть пип?шоу, есть журналы, есть плакаты и фильмы, а Бога не видно, поэтому верить в Него сложно». Макс ничего не смог ответить, ведь у него не было отца. Кашу он не съел. О том, что он затеял богословский спор в столовой, директору было доложено одной внимательной учительницей. «Недремлющее око, Большой брат», – пробормотал Макс, когда его привели к директору.
– Макс… я знаю, что вы католики с бабушкой…
– Все Дюраны де Моранжа – католики, – сказал Макс, и в голосе его звучало: неужели в этом мире можно быть кем?то еще, кроме Моранжа и католиком? Не брезгливость и не презрение, а легкое удивление, как у белых при виде индейцев. – Мы даже сражались в крестовых походах и становились инквизиторами, – и улыбнулся зловеще, будто сам лично шел в походы и инквизицию. Директор засмеялась про себя – чудно, он ей нравился, словно мимолетный запах духов в толпе, удачных, нежных, сладких, компот из бергамота и розы.
– Макс, другие люди – не католики, они смущаются, когда при них читают молитвы или крестятся; это в столь публичном месте, как школа, пожалуй, даже неприлично. Вот в католической школе это было бы в порядке вещей, даже в распорядке, но здесь… обычная школа… понимаешь?
Макс не понял; в его годы мир на обычное и необычное не подразделяют; но сделал вид, что понял: да?да, он так больше не будет. Креститься в школе нельзя. Вот можно и нельзя – это знакомо; можно в его мире: молоко и апельсиновый сок в неограниченных количествах, бродить по замку, читать любые книги; нельзя: в них рисовать, потому что большинству – от ста лет, нельзя есть руками, нельзя еще пока пить вино. И еще нельзя спрашивать о маме и папе. Нет, «нельзя» все?таки больше, чем «можно».
Однажды Макс взял и спросил: «а где мои мама и папа?» Это было сразу после поездки в супермаркет; кухарка тогда еще погладила его по светлой голове, пушистой, как клубок ангорской шерсти, сказала жалостливо: «бедняжка, эх, нету у тебя мамы, а папа умер», когда он сжал ее коленки от ужаса перед огромным?огромным миром, полным овощей и консервных банок, и сказал, как в мультике: «мама». Вечером, за ужином, Макс и спросил; на ужин подавали салат из курицы, шампиньонов, оливок и зелени, томатный суп?пюре с гренками, фрукты и яблочный пай; если не было гостей, они обедали в маленькой столовой – она, конечно, все равно была огромной: здоровенный камин из камня, просто настоящий очаг; можно прятать Санта?Клаусов и жарить кабана; кованые решетки на окнах стрелами, из красных плиток пол, из мореного дуба стол и стулья с высокими резными спинками и подлокотниками; Макс на одном конце, бабушка на другом; между ними канделябры – и каждым можно убить человека – железные русалки и корабли; в замке было пятнадцать человек прислуги – кто?то все время стоял за спиной; Макс вздрогнул, когда поставили тарелку с сырами и фруктами, и спросил. Бабушка не испугалась – не подавилась, не подпрыгнула, не уронила вилку или салфетку, – а взяла спокойно грушу и ответила, что мама есть, конечно, просто она сейчас путешествует, но когда?нибудь обязательно приедет навестить своего Макса. И вообще, она мерзкая эгоистка, ей ее собственная жизнь намного интереснее, чем ребенок. Макс кивнул, словно объяснение получилось абсолютно толковым, из геометрии, с доказательством на полторы страницы. «А папа?» – продолжил он дальше, тоже взял грушу; они будто не фрукты ели, а играли в покер: осталось двое игроков, элитный закрытый клуб, где ставки – бюджет маленькой страны, все молчат кругом, затаили дыхание, даже тапер не играет, ждет, и сигарный дым – туман… «Папа умер, это правда?» Бабушка удивилась. Ей казалось, что правда – вот она, на кончиках пальцев, яркая, как красный цвет, ее знает весь свет; но, оказывается безумная сплетня об инцесте – Макс и Марианна – победила. «Пусть будет так; да, умер, – сказала бабушка, – он на небесах, он у самого Бога и молится там за Макса каждый день». И довольно засмеялась собственной шутке, игре слов, игре в бисер, кроссворду, шараде – про себя.
О том, что его укоряли за молитву перед едой, Макс рассказал, и бабушка неожиданно для себя самой резко, с разгона разозлилась, сказала много слов про невежество и неуважение; Макс пообещал молиться, несмотря на запрет. Но не молился. Он не любил молитву перед едой: в маленькой столовой напротив его места, над камином, висело распятие, старинное, времен Столетней войны, его могли касаться уста самого Рене Дюрана де Моранжа; ценность вещи была запредельная, но Макс распятие ненавидел – оно казалось страшным. Лицо Христа все в слезах, руки и ноги в крови – «редкая выразительность, тонкая работа», – написано в энциклопедиях, а Макс не мог смотреть на «это» и есть. Врач из городка при одной Максовой простуде заметил, что мальчик что?то уж очень худой, скулы как лезвия, «на ребрах можно вальс играть, как на ксилофоне», – сказал мимоходом жене, так и пошла сплетня, что Дюраны разоряются. Макс тем временем пользовался тем, что болен, ел только то, что ему нравилось: соленую селедку в растительном масле с паприкой, черный хлеб с орехами, блины с грибами в сливках; и все это за книгой; и на кухне, где тепло, даже жарко; тут же чайник, можно подлить кипятку; а кухарка, и дворецкий, и горничные совсем не обращают на него внимания, ругаются, и смеются, и подпевают, делают громче радио, «Belle» из мюзикла «Нотр?Дам де Пари», а если заметят – научат что?нибудь готовить: «Цезарь» или маринованную утку с дыней; так и повелось – Макс читает за едой. Тогда он чуть?чуть поправился, округлился, бабушка поняла, что его уже не отучить: ее сын, муж, отец тоже читали за едой, видно, это очередное загадочное, в генах… А о распятии бабушка даже не думала. Дюраны де Моранжа были слугами господними, религия не подлежала обсуждению: каждый день месса, в воскресенье – две, причастие, исповедь, Розарий три раза в день, часослов всегда под рукой. О Боге на кухне или у камина не беседовали, за Бога воевали, Богу молились, в Бога верили. Все остальное – блажь и небыль. Макс это усвоил, как правила этикета, как рецепт карпаччо, как грамоту и счет.
Читать Макс любил больше Бога. Он знал это о себе, но никому не говорил, да и кому скажешь – священнику, что ли: «Вы знаете, я боюсь Бога, Бог меня пугает, это из?за распятия у нас в маленькой столовой, наверное; от мук Господа я в ужасе; какой смысл был в этом ритуале? Искупление грехов человеческих? Но зачем было эти грехи расставлять, как ловушку? Начиная с яблока… Это какая?то хитрая шахматная партия, в которой Бог всегда выигрывает: сначала делает нас грешными, потом этот грех искупает Христос, которого мы же и распяли – и опять проиграли…» Макс не чувствовал себя плохим от этих мыслей, он просто знал, что мысли эти бессмысленны, потому что Бог действительно всегда выигрывает: Макс подумает?подумает, а потом умрет, а Бог будет всегда… И говорил священнику всякую чушь, из?за которой переживал: книги захватывают его, околдовывают, уносят в странные миры, и сам он иногда пишет нечто, о дьяволе, луне и окнах, а еще он наорал на одну горничную, и еще надерзил бабушке и учительнице по математике, и не помог садовнику, хотя из окна видел, как тот постарел и как ему тяжело с газоном… Священник слушал и думал, что это самый странный мальчик на свете; Евгения Дюран де Моранжа в первую же встречу рассказала ему, кто отец Макса. Пришла к нему на чай. Священник приехал издалека, из жаркой страны, где змеи и СПИД; мерз здесь немилосердно; Евгения показалась ему ослепительной: в его стране женщины сплошь маленькие и смуглые до черноты, и старели они быстро – после рождения первого ребенка; а Евгения была как дорогой букет от модного молодого флориста, что расспрашивает о человеке, которому дарят цветы, и только потом фантазирует. Она принесла торт, небольшой, творожный, с персиками и киви, и чай, горький «Даржилинг», и священник был благодарен, потому что ничего еще не успел купить: ни кофе, ни чая. Его вызвали очень быстро: без священника осталась красивая церковь, маленькая, изящная, из черного камня, словно языческая, ее проектировал известный в те времена архитектор, поэтому сейчас это памятник, сто один год, много туристов; предыдущий священник срочно уехал: он был хорошим хирургом, началась война, и его назначили в один военный госпиталь – лечить тела и души заодно. Отец Алехандро даже видел его фотографию: очень молодой, очень красивый человек, синие глаза, в толпе такого не потеряешь; Евгения успокоила отца, сказала мимоходом, что прихожане очень довольны, что священник сменился, потому отец Артур был… гм… слишком молод, и это сбивало с толку. Потом рассказала всю историю до конца; после ее ухода отец Алехандро почувствовал себя пьяным. А вот теперь Макс ходит к нему на занятия и на исповедь, и растет – быстрее, чем города, и не верит в Бога, что символично. Макс этого не говорит открыто, ему это кажется нехорошим, преходящим, но это чувствуется: он объективен и насмешлив, и верит в себя, и наверняка однажды уйдет из дома, из замка Дюранов де Моранжа, – и не обернется…
А пока еще Макс верит в Бога. Странная это была вера – разговор с самим собой. «Привет, привет, как Твои дела? Будет прогноз на сегодня? Пусть случится хороший день… Знаешь, кого мне жалко больше всего на свете? Собак; вот если бы Ты пожалел всех собак на свете, дал им сегодня вкусный кусок – было бы здорово. А Ты сидишь себе в крепости из слоновой кости и пишешь роман… нет, братец, это не жизнь…» Макс тоже писал – много, немного, в зависимости от настроения и времени, но его стол набивался бумагами. Жизнь его была как часы, старинные, отстающие всего лишь на минуту раз в год – перед следующим; подъем, молитва в часовне с бабушкой, потом завтрак, потом в школу, потом из школы – домой, в замок, обед, уроки, потом он просто читал – в библиотеке или в саду; садовник уже совсем состарился, бабушка отпустила его домой, в городок, дала пенсию; Макс иногда стриг газон, сажал цветы, но помогало мало, сад зарастал, и Макс сочинял про него истории, сад превращается в лес, в его центре стоит замок прекрасной, но жестокой королевы; чтобы жить вечно, она убивает девочек из городка у подножия замка; по миру бродят два брата – собиратели сказок, и однажды они приходят в этот городок, где их просят помочь понять, почему несколько веков подряд их дети исчезают в лесу… От садовника остался велосипед, Макс научился на нем кататься – на школьном стадионе, на футбольном поле; они с бабушкой ходили туда вечерами, когда в городке все ужинали; Макс разгонял велосипед, запрыгивал, ехал чуть?чуть и падал, на песок и траву, бабушка не охала, не бежала спасать, а просто наблюдала и улыбалась; она брала с собой складной стульчик, как у художников на пленэре, сидела и читала – что?нибудь легкое; она любила журналы: они и еще рукоделие заваливали ее комнату, как листва – осенний парк; Макс из журналов вырезал рецепты. Секрет равновесия – Макс разгадал его, как математическую задачу, квадратное уравнение, загадку о слове «вечность», – быстро, как и все; он любил знания, как другие люди любят башни, или лестницы, или розы, или снег ночью, и катался виртуозно, будто играл на пианино, с одной рукой, без рук, думая о своем, вокруг футбольного поля по треснувшему, как в фильмах?катастрофах, асфальту; и казалось, от мыслей за его спиной тянулся сверкающий серебристый космический след. Он рос, и бабушка смотрела, как он становился своеобразно красивым, будто время года. Волосы странного цвета – пепельные с золотом, словно он прожил много лет в темноте, Гаспар Хаузер, и они выцвели, а теперь на солнце набирают блеск; странные серые глаза, бесцветные, бледные, незрячие, – людям от них становилось неуютно, будто они забыли что?то важное из мелочей; но когда Макс злился или радовался, они сверкали, как жидкий металл, становилось жарко, словно у Макса было два облика: один для обычной жизни и один для страсти.
Но однажды в жизни случились перемены. Бабушка получила письмо – это все, что удалось Максу узнать. Он пришел со школы, а все слуги стояли в прихожей замка – огромной зале, возле камина, и держали в руках конверты. «Что?то случилось?» Оказалось, бабушка получила утром письмо, прочитала, долго сидела в своей комнате, а потом пришла на кухню и попросила всех уйти: выдала всем денег больше положенного раза в три и написала хорошие рекомендации – хоть в «Метрополе» служить. Но уходить никто не хотел: во?первых, случилось все слишком быстро, и всюду оставались дела, во?вторых, в городке не так?то много работы. Макс поднялся наверх, в крыло, где комнаты бабушки, на второй этаж, где спальня; постучался. Бабушка чем?то громыхнула, но не ответила. Макс улыбнулся. Бабушка порой – просто матушка Ветровоск из Терри Пратчетта: разговаривает афоризмами и добирается до самой сути вещей, но сама по сути – обычная одинокая старая женщина, которая все проблемы в мире решает сладким крепким чаем, «Голд Цейлоном» или «Даржилингом».
– Бабушка, чай пить.
Тишина. Макс стал думать, что сделал бы он, получив письмо, от которого захотелось уволить всех слуг. Да, попил бы чаю. Макс постучал еще раз. Бабушка открыла так резко, что облокотившийся на дверь Макс чуть не свалился внутрь, как с обрыва.
– Что?
– Чай.
– Не хочу. Ты иди, пей, и поешь заодно, вон какой худущий; в городе все говорят, что я тебя не кормлю, нечем, мол…
– Это ерунда.
– Я знаю. Но неужели я не могу побыть одна? Что за неуважение, Макс?
– Прости, бабушка.
Макс спустился к слугам, извинился и еще раз извинился за то, что приказ бабушки остается в силе. Люди уходили два?три дня. Замок был их жизнью, и им казалось, что вся их жизнь закончилась: что им делать в городке, не знающем силы очарования Средневековья, свечей и каминов, портретов на стене, о которых известно все: что и кого любил, сколько убил людей и скольких спас; словно самим спастись из замка Дракулы, а потом, оказывается, и рассказать больше из жизни нечего; и все время будешь мыслями возвращаться – какие там были коридоры, шторы тяжелые на окнах и узор на раме пыльного зеркала; а потом в замке настала тишина – на кухне, в саду, в маленьких комнатах; в больших она уже жила давно, материальная, в облике молодого человека с бледным, тонким, как шелк, лицом, светлыми волосами и то черными, то зелеными глазами – в зависимости от возраста луны. Макс согрел чаю, расставил все красиво на серебряном подносе: масло, сливки, клубничный джем, две чашки, графин с холодной водой – бабушка обычно разбавляла чай; сервиз Макс выбрал серебряный, английский, девятнадцатого века; старшая горничная отдала ему ключи от всех дверей, и Макс обнаружил комнату с посудой: только теперь он понял, как богаты были Дюраны де Моранжа и сколько лет их роду – по тысячам одних только ложек; нашел среди богемского стекла, веджвудского фарфора, чеканного золота бокал тринадцатого века, и словно током ударило от такой древней вещи. Макс отнес бокал в свою комнату, поставил его на стол, чтобы тот всегда был перед глазами. Бокал почти черный, Макс поскреб ногтем – да, серебро, очень простой сплав; и узор; Макс потом нашел в книгах в библиотеке, как чистить серебро, и бокал показал, что на нем: сражающийся с драконом святой Георгий с одной стороны, и казалось, что дракон на этой картинке побеждает, а с другой – герб Дюранов: меч на фоне полной луны, обвитый в нижней части увядшей розой – ее поместил на герб один из Дюранов де Моранжа, у которого умерла от родов молодая жена королевских кровей; род де Моранжа тогда чуть не прервался, но ребенок чудом остался жив, вырос и прожил сложную, страшную и прекрасную жизнь: Жан?Кристоф де Моранжа стал великим ученым, лекарем, провидцем, о нем упоминается во многих средневековых летописях и хрониках…
Бабушка опять открыла не сразу – Макс подумал: одевается, умывается, бабушка никогда никому не покажет, что плакала; так же, как и он; потом открыла – выглядела она прекрасно, в белом атласном пеньюаре, длинном, со шлейфом; Дюраны де Моранжа, словно вампиры, застревают в каком?то времени и все под него переделывают: бабушка – Мария?Антуанетта, гражданка Капет, нечто нежное, трепетное, избалованное, хрустально?снежно?стальное, благоухающее.
– Я испек шоколадные круассаны.
Бабушка помогла ему внести и расположить поднос. Спальня, как всегда, была завалена журналами и рукоделием – бабушка вязала крючком и вышивала бисером; в вазе стояли увядшие цветы. Надо поменять – подумал Макс и вдруг понял, что его ожидает: весь замок на нем; вспомнил одну книжку: маленькая ферма на краю земли, у маленького мальчика увезли маму рожать, отчим сломал ногу на охоте – поскользнулся пьяный на болоте, и все хозяйство осталось на мальчике; мальчика звали Норман, серьезный и темноволосый, ему всего десять лет, но он все делает: встает в пять утра, носит воду, кормит скотину, уходит в школу, готовит обед, делает уроки, прибирается везде и мечтает о том, как женится на одной кинозвезде; и автор добр к Норману: мальчик вырастает и действительно на ней женится; Макс в детстве любил эту книжку, даже спал с ней одно время, хранил под подушкой, она была вместо Бога, как всегда книги – утешение и поддержка, «будь честным всегда»; ее написал молодой очень парень, подросток, англичанин, Кайл Маклахлан, из его книг Макс нашел только эту повесть и еще одну – «Любовь и немного дерьма», про любовь; а больше ничего, хотя искал, как принц Золушку, даже писал письма в букинистические магазины и книжные клубы… Они стали пить чай, Макс налил в свой сливок, бабушка – холодной воды, похвалила круассаны: «у Наташи научился?» Наташа была ушедшая повариха. «И вправду, зачем платить деньги слугам, когда есть внук?» – и засмеялась. Что случилось – не объяснила, письмо или что?то другое, но Макс понял: бабушка больше не выйдет из своих комнат – и теперь ему жить одному.
Он стал жить один. Просыпался раньше, умывался холодной водой, шел в часовню, читал там быстро Розарий; зимой в часовне было нестерпимо холодно, Макс надевал свитер и куртку и все равно еле шевелил пальцами; потом шел на кухню, разжигал огонь в печке, грелся, готовил что?нибудь: омлет с помидорами и луком, кровяную колбасу, греческий салат; завтракал сам, ставил поднос под дверь бабушке, бежал в свою комнату, одевался, закрывал дверь замка, открывал ворота замка, выводил велосипед, закрывал ворота, садился на велосипед и съезжал с горы; знал, что бабушка проснулась и смотрит ему вслед из окна, слегка отодвинув занавеску; в школе он почти ни с кем не общался, сидел за партой один, шел сквозь толпу в пустоте, вакууме, словно по красной дорожке, усыпанной розами, – люди бессознательно расступались, освобождая ему дорогу, место, хотя «де Моранжа» его никто не называл, звали просто: «Макс Дюран»; Макса это имя смешило – звучало коротко и решительно, как имя настоящего санкюлота или парня из армии Наполеона, полной противоположности де Моранжа. Учился он не хорошо и не плохо, хотя был гением, вундеркиндом; играл в замке сам с собой в шахматы, читал партитуры Баха и Канта в оригинале, нарочно делал в примерах ошибки и нарочно не поднимал руку, чтобы не выделяться еще и в учебе, а то возненавидят, убьют, на вилы поднимут, пусть лучше вообще не помнят, что он есть и кто он. Одного имени де Моранжа хватало, чтобы стать отверженным; наверное, так же странно быть сыном известного преступника – серийного убийцы или грабителя банков, размышлял Макс. После уроков он на велосипеде же ездил за покупками; в магазине он повторял: «Я никто, я дерево» – и сливался, соединялся с окружающими, серыми, усталыми, семья, работа, будто и у него то же самое, а не замок; серые глаза, серые волосы, одежда самая простая. Одежду Максу и бабушке присылали по каталогам из Европы: на самом деле она была дорогая, дороже всего магазина, в котором стоял в очереди Макс, но бабушка так и не влюбила его в яркое; в парчу, в шелк, в атлас, в бархат, в расшитое и вышитое, в кружева – что любила сама; Макс носил светлые рубашки поверх слегка потертых джинсов, футболки с номером Бэкхема, свитера блеклые, теплые, тонкие, с длинными рукавами, которые то подворачивал до локтя, то натягивал до кончиков пальцев; стоял в очереди, слушал разговоры, мысли, смотрел на людей, отводя глаза сразу же, как только пытались посмотреть и послушать его; и знал, что может быть другим, ослепительным, как солнце: стоит ему захотеть – и развернутся крылья, а магазин пронзит радуга… Потом Макс рулил домой, на гору; и готовил обед; готовить ему нравилось, он всегда что?нибудь придумывал: клубничный суп, гренки с кинзой, салат из рыбы, моцареллы и авокадо, жареное мясо с мангово?ежевичным соусом. Оформлял все как полагается: салфетки, вилки, стекло и серебро; относил поднос наверх бабушке; она и вправду не выходила из своей комнаты, и даже священник, отец Алехандро, ее не разубедил, приезжал к ней два раза в неделю, исповедовать и причастить; после причастия оставался попить чаю; Макс тогда готовил еще бутерброды – в форме кораблей или цветов; пек кексы – много?много изюма и сверху шоколад; потом шел вниз, обедал сам, потом опять поднимался, забирал поднос, мыл посуду, пел, потом шел по замку или в сад – убрать пыль, подстричь газон, пропылесосить кресла, проветрить, а то уже сто лет в этой комнате никто не бывал; Максу нравилось бродить по замку: он открывал новые острова и континенты, бильярдные и гостиные, будуары и столовые; замок был бесконечен, как фантазия, у него имелись свои секреты: тайные комнаты, неожиданные лестницы, лабиринты, зеркала?обманки, портреты с глазками, подземный ход – Макс нашел его в кухонном очаге и вышел в сад, на калитку, скрытую за розовыми кустами. Но больше всего Макс любил библиотеку и портретную галерею – о каждом портрете он находил книгу и писал что?нибудь в дневник. Потом он перестал ходить по замку – сам не знал почему – устал; и перестал открывать и прибираться; зажил в трех комнатах: в спальне, кухне и библиотеке; стал тосковать, мечтать о вдохновении и опять разговаривать с Богом – по?настоящему, жалуясь, что его не слышат и не хотят помочь.
Конец ознакомительного фрагмента — скачать книгу легально
Библиотека электронных книг "Семь Книг" - admin@7books.ru