
Фармацевт (Родриго Кортес)
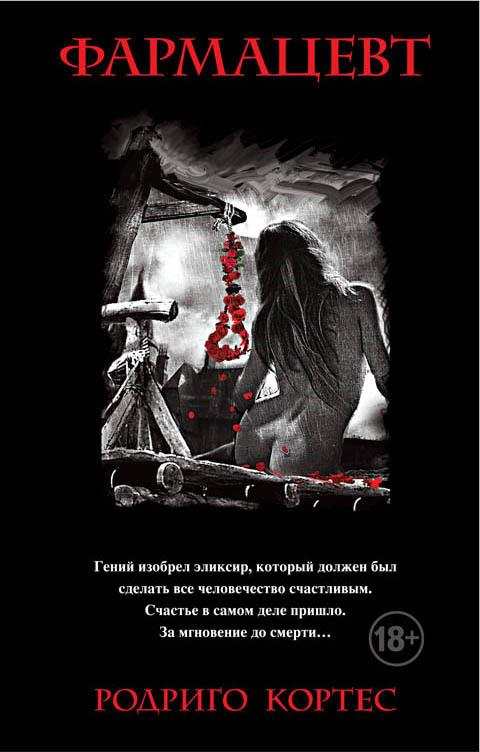
Родриго Кортес
Фармацевт
Цветы зла. Триллеры о гениальных маньяках Средневековья
Пролог
Граф Уильям Стэнфорд чуть сжал колени, подал тело вперёд, переводя Джесси с размашистой рыси в уверенный тяжёлый галоп. Необходимости давать рыжей трёхлетке со звёздочкой во лбу шпоры не было: кобыла понимала малейшее движение всадника.
За спиной полковник Стэнфорд услышал мощный ритмичный рокот множества копыт – самую лучшую музыку, какую он знал, – музыку кавалерийской атаки. Гром копыт отражался от скальных стен долины, подхватывался горным эхом, достигал могучего крещендо.
Пора!
Привычным движением граф Уильям чуть отвёл назад и вбок опущенную правую руку, крепче сжал эфес длинного палаша. Яростное афганское солнце мгновенными брызгами посыпалось со светлой стали клинка. Фигуры пуштунов словно бы даже не приближались, а просто росли на глазах. Вот осталось не более пятидесяти… сорока… двадцати ярдов!..
«Побегут? – ещё успел подумать Стэнфорд, прежде чем врубиться в ряды врага. – Нет. Эти не побегут!»
Прав оказался полковник Стэнфорд, знал, с кем сражается. Не побежали.
Двух первых афганцев Джесси просто стоптала с разгона копытами, только кости захрустели. Вот ещё двое разлетаются в стороны под ударом живого тарана.
А теперь пора приниматься за дело всаднику!
Широкая отмашка палашом справа налево, через шею лошади! Обезглавленный труп валится под копыта коней, скачущих за Джесси, а Стэнфорд даёт обратную отмашку. Кончик клинка вспарывает шею афганца, рыжий бок кобылы становится ярко?алым. Ещё удар! И ещё! Джесси прыгает вбок, ступает по чему?то мягкому, спотыкается, но выравнивается. Она уже вся забрызгана кровью, в крови и высокие кавалерийские сапоги графа.
Уильям Стэнфорд знал: в такой вот бешеной рубке кое?кто из его конников начисто теряет рассудок, пьянеет от крови и смерти. Самому полковнику это свойственно не было, он просто превращался в машину убийства, чудовищную в своей холодной эффективности.
Сзади и с боков слышались жуткие звуки боя: выстрелы пуштунских ружей, свист стали, ржание и храп коней, звериный вой раненых, хруст костей под лошадиными копытами.
Вот ещё один пуштун возник прямо перед оскаленной мордой Джесси, даже попытался схватить кобылу под уздцы, остановить прорыв полковника Стэнфорда вперёд. Зря он это сделал!
Граф ударил пуштуна сверху наискось хорошим классическим синистром, а резкий прыжок Джесси позволил легче вырвать палаш из черепа врага. Вот так, и никак иначе! Вовсе не слишком трудно, если знаешь, как это делается…
…Да, конечно, полковники кавалерии Её Величества королевы редко сами ведут в бой своих молодцов. Но тут был особый случай!
Йоркширские стрелки с тяжёлыми боями отступали к индийской границе от самого Анджуманского перевала. Англичане были предельно измотаны, в отряде чуть ли не половина – ранены. И вот, когда избавление было совсем близко, когда до спасительного Белуджистана осталось не более двух дневных переходов, йоркширских пехотинцев угораздило попасть в ловушку. Они сунулись в долину какой?то крохотной, пересыхающей летом речушки и были заблокированы с обоих концов отрядами повстанцев Мехмед?Шаха. Долина тянулась миль на пять с юго?востока на северо?запад. Как обычно, южные склоны обрывались круто, почти отвесно, а северные взбегали на плоскогорье полого. На южные склоны англичанам, тем более с обозом и ранеными, не подняться. Попробовать уйти на север? Но именно оттуда йоркширцы и отступали с боями. Один вход в проклятую долину. Один выход. И оба закрыты пуштунами Мехмеда. Мешок.
Англичанам пришлось совсем худо. Боеприпасы и продовольствие подходили к концу, почти не осталось питьевой воды, медикаментов… Просматривалась лишь одна печальная перспектива: броситься в последнюю, отчаянную схватку, на прорыв, и поголовно полечь. Потому как о возможности сдачи в плен никто из йоркширских стрелков даже не задумывался – всем было известно, что вытворяют афганцы с пленными англичанами.
Но тут угодившим в капкан йоркширцам повезло. Двое из них сумели незаметно прокрасться мимо афганцев, выбраться на южную сторону плато. Нет, они не бросили своих товарищей, они безумно рисковали не ради спасения собственных шкур. Они просто выполнили приказ своего командира: попытаться выбраться из ловушки и привести помощь. Через сутки два оборванных, предельно усталых и голодных пехотинца наткнулись на походную колонну кавалерийского полка, которым командовал граф Уильям Стэнфорд.
Надо сказать, что сам полковник Стэнфорд был родом из восточного Йоркшира. Узнав о том, в какое положение попали его соотечественники и земляки, он не колебался ни секунды. К чести графа Уильяма: погибай в проклятой долине любая другая английская часть, он принял бы точно такое же решение…
Только вот приказа на деблокирование йоркширцев у Стэнфорда не было, а связываться с командованием – терять драгоценное время! Некого будет спасать по приказу, останутся одни трупы. Полковник взял всю ответственность на себя. Его кавалеристы единогласно и безоговорочно поддержали своего командира, Стэнфорда в полку очень и очень уважали – так, что пошли бы за полковником хоть в преисподнюю. То?то был бы сюрприз для Вельзевула!
И: «За мною, по три, рысью ма?арш!» – походная колонна кавалерийского полка, изогнувшись, как змея, повернула к югу и двинулась в направлении окаянной долины. Триста пятьдесят отборных кавалеристов.
Но в сложившейся ситуации граф Уильям Стэнфорд счёл своим долгом лично возглавить атаку.
Даже на разведку не оставалось времени, удар надо было наносить с марша. Посовещавшись с двумя йоркширцами, Стэнфорд решил бить по группировке, блокировавшей юго?восточную горловину. Он очень надеялся на внезапность и на то, что стрелки, догадавшись о неожиданной помощи, сами из последних сил навалятся на пуштунов со стороны долины. Была у полковника ещё одна надежда, правда, слабая…
Уильям Стэнфорд гордился своим полком. Он – не без основания! – считал, что после Ватерлоо британская тяжёлая кавалерия не имеет равных в мире. Атака такой кавалерии, её таранный сокрушающий удар – очень страшная вещь! Если пехота морально слаба, если пехотинцы струсят, если хотя бы четверть из них ударится в бегство, то получится настоящая бойня, тут врага не спасает и пятикратный численный перевес.
Если бы афганцы, поняв, что неожиданно оказались между молотом и наковальней, дрогнули! Вот тогда кавалеристы графа Стэнфорда попросту порубили бы их в капусту. Но…
Но Стэнфорд помнил, что имеет дело с афганцами. В 1838 году, сорок лет тому назад, когда в родовом гнезде графов Стэнфордов маленький Билли только появился на свет, англичане уже пытались присоединить Афганистан к своим владениям в Индии, чтобы затем использовать как плацдарм для продвижения в Среднюю Азию. И обломали зубы! Из страны пришлось уйти, хорошо ещё, что не с позором.
…Нет, вторая надежда полковника Стэнфорда не оправдалась. Пуштунские повстанцы Мехмед?Шаха не дрогнули, рубки бегущих не получилось. Афганцы дрались яростно и отважно. Косой клин тяжёлой британской конницы с трудом вспарывал плотную массу афганской пехоты.
И всё же вспарывал! Стэнфорд, опытный вояка, великолепно чувствующий ход боя на подсознательном уровне, понимал: ещё чуть?чуть, ещё одно усилие – и победа, его парни прорвутся к йоркширцам. Тогда врагу несдобровать, помощь с той, противоположной горловины ущелья попросту опоздает!
Он снова и снова опускал палаш, нанося смертельные, неотразимые удары. Направо. Теперь – налево. Крест?накрест, склонившись над головой Джесси. Замахнуться, привстать на стременах, ударить, снова замахнуться…
Уильям был отличным наездником, умел слиться с лошадью в единое целое, стать кентавром. Сейчас он бросил узду, освободив левую руку, удерживался в седле, лишь сильно сжимая ногами бока Джесси и предельно напрягая мышцы брюшного пресса. Левой же рукой полковник выдернул из седельной кобуры двуствольный кавалерийский «Дерринджер».
Выстрел в упор! И ещё выстрел, вниз, прямо в чьё?то лицо, заросшее густой чёрной бородищей. Кобыла встала на дыбы, замолотила передними копытами, проламывая черепа пуштунских дакайтов.
Вот так?то, тысяча чертей и шайтанов Хуррума!
Но стрелять умеют не только англичане, тем более что в ближнем бою особой меткости не требуется, тут всё решает хладнокровие и везение. Даже качество оружия не так уж важно…
Круглая свинцовая пуля, раздробившая левую ключицу полковника Стэнфорда, была выпущена из старинного гладкоствольного ружья с ещё кремнёвым курком. Достойно удивления, как такое древнее оружие вообще смогло выстрелить!
Однако смогло…
Удар чуть не выбил графа из седла, пистолет вывалился из его руки, но сознания Уильям не потерял. Вот только удача решительно отвернулась от него, потому что в следующую секунду ещё одна пуштунская пуля досталась Джесси. Рыжей кобыле, любимице графа, угодило точно в белую звёздочку, в середину лба. Лошади начисто снесло череп, а пуля, правда потеряв убойную силу, ударила полковника в грудь.
Если бы не эта, вторая пуля! Граф Уильям Стэнфорд недаром слыл отличным наездником и опытным боевым кавалеристом. Может быть, несмотря на адскую боль в перебитой ключице, он успел бы спрыгнуть с крупа заваливающейся на бок Джесси, сработали бы вбитые в подкорку рефлексы… Но шок от двух попаданий подряд оказался слишком тяжёл даже для него.
Стэнфорд не успел.
Они упали вместе, лошадь и всадник. Всей тяжестью своего мёртвого тела Джесси обрушилась на правую ногу хозяина. Захрустела, ломаясь, бедренная кость, тело полковника насквозь прошила немыслимая, нечеловеческая боль, перед глазами вспыхнули громадные багровые звёзды. Граф Уильям Стэнфорд, командир полка тяжёлой кавалерии Её Величества императрицы Индии и королевы Великобритании, лишился чувств.
Высоко над долиной, в холодных ветрах, дующих с обледенелых вершин Гиндукуша, кружили белоголовые сипы с голыми шеями и зоркими глазами.
Чуяли стервятники – будет им сегодня богатая пожива…
Глава 1
Погода портилась, становилось ветрено и холодно. Ветер шелестел опавшими листьями, посвистывал в кронах облетевших деревьев. Порывами налетал мелкий дождь, временами переходящий в снежную крупку; на востоке, над морем исполинской горной грядой громоздились тяжёлые свинцовые тучи. Солнце, изредка проглядывающее сквозь разрывы облаков, клонилось к закату.
Очень неуютно на прибрежных равнинах Йоркшира в середине ноября!
Но в камине весело потрескивали осиновые полешки, над старинным дубовым столом покачивалась керосиновая лампа с оранжевым абажуром, а на столе стояла бутылка хорошего шотландского виски и тарелка с копчёной грудинкой.
Стэнфорд?холл, двухэтажный особняк отставного полковника, графа Уильяма Стэнфорда, был выстроен почти два с половиной века тому назад, сразу после падения лорда?протектора, Оливера Кромвеля. От суровых северных ветров Стэнфорд?холл прикрывала гряда невысоких холмов, а к востоку миль на пять, до самого мыса Фламборо?Хед и посёлка с тем же названием тянулась унылая равнина, полого спускающаяся к морю.
Сегодня задувало с востока. В такие дни воздух наполнялся запахом соли и водорослей, а из окон кабинета можно было расслышать рокот далёкого, ленивого прибоя, ропот холодных волн Северного моря, набегающих на пустынные песчаные берега.
– Да, дружище, вот так всё оно и было… – задумчиво произнёс Уильям Стэнфорд. – Который же раз я рассказываю вам об этом, Генри? Как бы не в сотый… Подливайте себе виски, Генри. Виски у меня хорош.
Граф Стэнфорд грустно улыбнулся. Он выглядел старше своих пятидесяти лет, короткие тёмно?каштановые волосы обильно припорошила седина, лицо изрезали морщины. Серые, цвета пасмурного йоркширского неба глаза печально смотрели на собеседника из?под густых, чуть нахмуренных бровей. Безупречная линия подбородка, гордая посадка головы, словом, всё в его внешности говорило о том, что это натура волевая, человек умный и сильный. И в то же время внимательный наблюдатель не мог не заметить: отставной полковник Уильям Стэнфорд очень устал, он страдает, он несчастен, и хотя не сломался пока, но предел прочности уже близок.
– И всё же вы победили тогда, десять лет назад, – задумчиво произнёс Генри Лайонелл, сидящий за столом напротив хозяина кабинета. – Победили, Уильям! Пусть вы заплатили за победу страшную цену, но Провидение уберегло вас от смерти.
Генри Лайонелл, преуспевающий адвокат и чуть ли не единственный близкий приятель Уильяма Стэнфорда, выглядел куда моложе графа, хоть они были ровесниками. Крупный, даже, пожалуй, тучный, с густой гривой соломенных волос и короткой шкиперской бородой, он немного напоминал скандинава. В отличие от Стэнфорда, в котором за милю чувствовался аристократ, в Лайонелле сквозило что?то простонародное. Люди, плохо знавшие Генри, порой принимали его за человека недалёкого, чуть ли не тупицу. Но они жестоко ошибались!
Генри думал медленно и тяжело, зато основательно. Стоило лишь дать Лайонеллу время, чтобы упорядочить свои мысли, стоило не настаивать на быстрых ответах, на скором решении, и он мог удивить кого угодно взвешенностью и математической точностью мышления. А ещё Генри был в высокой степени свойственен основательный, добросовестный, хоть несколько тяжеловатый здравый смысл. Кроме того, он обладал богатейшим житейским опытом и умел быть на редкость упорным и настойчивым в достижении цели. Если сравнивать людей с военными кораблями, то Лайонелл напоминал не фрегат, а мощный, пусть неповоротливый, дредноут.
– Провидение? – горько рассмеялся Стэнфорд. – О да! Всевышний милостиво сохранил мне жизнь. Я даже хожу на двух ногах, не так ли, Генри?!
Граф поднялся из?за стола и, тяжело прихрамывая на правую ногу, болезненно морщась, подошёл к окну, забарабанил пальцами по стеклу. На Стэнфорде были надеты свободные домашние штаны из тонкой оленьей кожи и синяя фланелевая рубашка, её цвет подчёркивал нездоровую бледность лица.
– Что до нашей победы… Нет, я не про ту стычку, я про всю кампанию. Победа была бездарно профукана политиканами из Сент?Джемсского кабинета! Министра по делам колоний за Гандамакский договор следовало бы повесить на фонаре! А на соседнем – милорда графа Биконсфильда, вашего обожаемого Беджамина Дизраэли.
– Дался вам милорд Биконсфильд! Он хороший, честный человек. Опытный политик… – неуверенно промямлил Генри Лайонелл.
Графа перекосило, как от острого приступа зубной боли.
– Ну нельзя же нести такую густопсовую чушь! – со страданием в голосе сказал он. – Это называется катахрезой. Противоречием в определении. Сухая вода. Людоед?вегетарианец. Честный политик. Я скорее в эльфов и фей поверю, чем в такое чудо природы. Неумеха он, ваш Дизраэли. Да к тому же жулик, который водит королеву за нос. Я бы ему не то что поста премьера, я бы ему скотный двор мести не доверил.
– Уильям! Как вы можете!..
– Я пятьдесят лет как Уильям. Но, в конце?то концов, вы правы. Я?то наверняка не политик. Для этого занятия мне не хватит подлости. Я солдат.
Лицо Стэнфорда побледнело ещё сильнее, и он с волчьей тоской в голосе добавил:
– Был солдатом. Теперь я никто. Старая развалина, доживающая свой век. Доживающая исключительно из милости королевы Виктории. Если бы не пенсия за ранение… Да вы же не хуже меня знаете – я мало что не нищий! Кроме этого особняка, небольшой ренты да титула, до которого никому нет дела… Э, что там говорить!
Он помолчал, вернулся к столу, тяжело опустился в кресло. Налил себе виски.
Молча выпил с другом и Лайонелл.
– Главное даже не это, – сказал граф тихо и тоскливо. – Генри, я двадцать два года отдал Британской империи. Я служил в Индии. Я сражался в Белуджистане и заработал там болотную лихорадку. Я дрался на афганской границе. Я терял друзей. И насколько же чужим был мир вокруг нас! Впрочем, нет. На самом?то деле отнюдь не мир был чужим – мы были чужими в этом мире.
– Могу себе представить, – сочувственно пробормотал Лайонелл.
– Нет, – покачал головой Уильям Стэнфорд. – Не можете. К великому вашему счастью.
– Уильям, вы не только теряли! – горячо возразил Лайонелл. – И не всё в тех краях оказалось для вас чужим и враждебным. Точнее… не все.
– Вы о Фатиме, не так ли? – Стэнфорд слабо улыбнулся, горькая складка между бровей исчезла. – Что ж… Изредка судьба дарит нам подарки, в противном случае никто бы попросту не захотел надолго оставаться в этом мире.
«Милый друг, – подумал Генри Лайонелл, – я молю Бога, чтобы этот подарок судьбы не оказался горше всех ваших несчастий, вместе взятых. Хотел бы я ошибаться, но некоторые вещи бросаются в глаза…»
– Это необыкновенная редкость, когда мужчина и женщина действительно вместе. Рядом – сколько угодно! – продолжил Уильям. – Рядом, но врозь… Так было у меня с Мэри, матерью Питера. Хоть я с ней и рядом?то толком побыть не успел…
Лайонелл мрачно кивнул. Он издавна приятельствовал с графом, хорошо помнил его первую жену, светловолосую смешливую Мэри. Она сгорела за полгода от скоротечной чахотки, когда её сыну – первенцу графа – исполнилось всего лишь пять лет. Уильяму тогда было тридцать, он сражался в Белуджистане, и даже хоронить Мэри пришлось без него. Да?а, маленькому Питеру пришлось несладко. С пяти лет в частном колледже?интернате, правда, очень хорошем, но без родительской ласки, без домашнего тепла… Может быть, Уильяму стоило взять мальчонку в Индию? Глядишь, и выросло бы из Питера Стэнфорда что?нибудь… другое!
– Я очень благодарен вам, Генри, – сказал Стэнфорд, – за то, что вы тогда так уважительно отнеслись к Фатиме. Не то что эти надутые индюки, мои соседи по Фламборо?Хед. Вашему сыну я тоже благодарен. Ведь Майкл – единственный, по сути, друг моего Дикки.
Лицо графа раскраснелось, брови вновь сошлись к переносице. Чувствовалось, что эта тема задевает его за живое.
– Вы не только мой друг, вы – мой адвокат. Вы отличный, опытный законник. Профессионал в своей области, не так ли? Я хотел бы поговорить с вами, Генри, о положении дел в моей семье. Обо мне, о моей жене и сыновьях. Этот разговор давно назрел. Хотя бы потому, что я не знаю, сколько мне ещё осталось жить, но не думаю, что долго. А положение дел весьма сложное. Мало того. Оно становится всё хуже. С каждым днём.
«Боюсь, что вы не догадываетесь, до какой степени сложное! И насколько хуже…» – подумал Лайонелл, но вслух сказал другое:
– Я знал, что вы заговорите об этом. Для того вы и пригласили меня посетить вас сегодня, разве нет?
– Да.
Словно стылым ветром Северного моря потянуло из окошек кабинета. Словно сгустившееся напряжение дохнуло ноябрьским холодом на дрова в камине, сделало тусклым уютный свет лампы над столом.
– Что бы ни думало на этот счёт так называемое «приличное общество», но перед Богом и людьми Фатима – моя законная жена, – твёрдо произнёс Уильям Стэнфорд. – Она стала христианкой, она приняла англиканство, хоть это дорого ей стоило. Она поступила так из любви ко мне. Она желала, чтобы наш ребёнок был рождён в законном браке. Я хотел того же. Кстати, Фатима не только законная, но и очень любимая жена. А Ричард – законный сын. Мой Дикки. Ничуть не менее законный, чем Питер!
«О да! – угрюмо подумал Генри Лайонелл. – И куда более любимый, чем Питер, вот ведь что самое важное. Мне понятно, почему так получилось. Тогда, в семьдесят восьмом, десять лет тому назад, вы оказались дома. Здесь. Чудом избежав смерти, едва оправившись от страшных ранений, после вынужденной отставки. Ричарду тогда было три годика. И до семи лет, до того, как вы отправили его в колледж, вы были рядом каждый день. И рядом с вами была мать Дикки. Ах, друг мой, видимо, вам нужно благословлять афганцев за их пули, потому что, я уверен, то были самые блаженные четыре года вашей жизни. Мальчик тоже был счастлив эти четыре года, он, конечно же, успел привязаться к вам. Может быть, даже полюбить. Зачем, ну зачем вы отправили его в Йорк?! Вот в чём заключалась ваша самая страшная ошибка! Вы должны были слушаться своего сердца и своей жены. Я же знаю: Фатима умоляла вас оставить Ричарда дома, махнуть рукой на традиции… Но вы хотели сделать из своего любимца настоящего англичанина. Маленького лорда. Йоркский частный интернат, затем – Оксфорд или Кембридж… У меня тогда не хватило настойчивости убедить вас. Не хватило, скажем прямо, проницательности, чтобы представить, как тяжело придётся Дику в интернате. В результате после четырёх лет счастья вы обрекли мальчика на четыре года страданий. Ричард – дважды аристократ по крови, гордец. Как вы. Как его мать. Вы изредка посещали его в Йорке, он изредка приезжал домой на рекреации. Но даже тогда, совсем маленьким, он уже считал ниже своего достоинства жаловаться вам! Он молчал. Он улыбался. Хвала Всевышнему, у вас хватило ума забрать его из интерната два года тому назад. Но для этого потребовалось, чтобы у мальчика случился тяжёлый нервный срыв! И как он теперь относится к вам, вы можете ответить? Хотя бы самому себе? Я вот не могу. Зато я могу с уверенностью сказать, что на Фатиму расставание с сыном подействовало самым разрушительным образом. Ведь ваша любимая жена постепенно сходит с ума, неужели вы не замечаете этого, Билли? Это замечательно, что вы решили дать Ричарду домашнее образование. Но разве вы не могли выписать из Лондона, как домашнего учителя, кого?нибудь другого, а не Ральфа Платтера? Где были ваши глаза, дружище? Материалист?безбожник, фанатик естественных наук, адепт дарвинизма… Человек, для которого нет ничего святого, для которого мораль – звук пустой! Я говорил с ним, и неоднократно. Он сам признавался мне в таких симпатичных взглядах. А вы удосужились поговорить с Платтером по душам? Боюсь, что нет. Ваша семья сейчас – это бочка с порохом. Целый пороховой склад. Не сыграть бы Ральфу Платтеру роль искры…»
– Вы слушаете меня, Генри? У вас такой отсутствующий вид…
– Конечно же слушаю, Уильям. Очень внимательно.
Но не только Генри Лайонелл в эти минуты внимательно слушал графа Уильяма Стэнфорда!
В тёмном коридоре второго этажа, плотно прижавшись ухом к двери графского кабинета, стоял невысокий стройный подросток лет тринадцати?четырнадцати. Младший сын и любимец графа, Ричард Стэнфорд. Дикки.
Красивый мальчик! Чем?то очень напоминал он отца, и в то же время чувствовалось в его внешности нечто восточное, тревожное, унаследованное от матери. Волосы тёмные, почти чёрные, чуть вьющиеся. Чистая линия лба, полные, чувственные губы. Громадные, на пол?лица глаза орехового цвета, а в глазах читается ум и воля. И напряжённый интерес к тому, что говорится сейчас там, за дверью. А вот страха нет совсем.
Чего ему бояться? Он успеет отскочить от двери и исчезнуть за поворотом коридора, едва заслышав хромую походку отца или тяжёлые шаги Лайонелла. Братец Питер? Это животное, по своему обыкновению, нажралось виски и дрыхнет сейчас мёртвым сном. Слуги? Они поднимаются к отцовскому кабинету лишь тогда, когда внизу зазвонит колокольчик! Мать? Ральф вновь одурманил её успокаивающими каплями, – о, Дик знает, что это за капли и почему они одурманивают! – мать сейчас далеко отсюда, в царстве своих грёз. Сам Платтер? Вот его?то уж Ричард точно не боится. Есть на то свои причины!
А как же совесть? Как же Бог, который видит всё? Ведь подслушивать – это очень скверный поступок!
Э?э! Смотря кому и смотря кого подслушивать. И с какими целями. Когда скверный, а когда – единственно правильный. Кроме того, Ричард уверен: его связывают с Богом особые отношения. Бог избрал его. Бог готовит себе помощника. Ведь не просто же так Он дал Ричарду особый ДАР!
Но Бог не в состоянии уследить за всем, да и не Его это работа. Он Бог, а не констебль из посёлка Фламборо?Хед! Значит, Ричард должен сам побеспокоиться о себе. Хорошенько о себе позаботиться, чтобы была возможность развить, осознать, отшлифовать ДАР. Вот тогда он сможет помогать Богу здесь, на земле. Сможет делать людей лучше, чище, добрее.
Но для этого он должен в точности знать, о чём говорят сейчас за дверью кабинета.
Ну?ка, прислушаемся…
– …не получится, Уильям! Майорат есть майорат, – и титул, и всё, чем вы владеете, должен унаследовать старший сын. Питер.
– И никаких возможностей?
– Отчего же, – тяжело вздохнул Лайонелл. – Есть возможности. Вы можете выразить свою прямую волю. Скажем, лишить Питера наследства. Но, во?первых, это грандиозный скандал, пятно на чести вашего рода. А во?вторых, на каком, собственно, основании?
– Он ненавидит мою жену и своего брата. Он сразу возненавидел Фатиму. Я привёз её сюда пятнадцать лет назад, я думал, что Питер привыкнет… Но нет!
«Если бы ты знал, отец, до какой степени Питер ненавидит нас с матерью!» – подумал Ричард, который из?за двери прекрасно слышал каждое слово.
С некоторых пор Дик избегал смотреть в глаза старшего брата без крайней необходимости. Слишком уж взгляд у Питера становился… характерным. Заставляющим поневоле вспомнить о кобрах, удавах и прочих опасных тварях с холодной кровью.
– Поставьте себя на его место, друг мой, – развёл руками Лайонелл. – Вы бы их любили? Что до сроков… Сильные чувства, такие как восторг или, скажем, умиление, не могут длиться долго, сохраняя свой накал. Есть только одно исключение – ненависть. Вам ли не знать, ведь вы же профессиональный военный.
– Он… Он спивается! Он уже законченный алкоголик!
Некоторое время Лайонелл молчал. Затем, кряхтя, выбрался из?за стола. Теперь уже он подошёл к окну, незряче уставился в темноту осенних йоркширских полей. Затем повернулся к другу.
– Не я начинал этот разговор, Уильям, – тихо, почти шёпотом сказал Генри. – Так что… не обижайтесь. Алкоголик, говорите? А вы сами, друг мой? Ведь вы уже не можете прожить без морфия. Молчите. Не спрашивайте меня, откуда мне это известно. Я никогда не шпионил за вами. Но я много чего повидал в жизни. В том числе и морфинистов. Берегитесь, граф! Это билет в один конец. Это драконья пещера шотландских сказок: зайти может любой, но вот выйти…
Сначала Стэнфорд покраснел, затем его лицо залила меловая бледность.
– Иначе я умер бы от боли в покалеченной ноге, – хрипло сказал он. – Понимаете вы это?!
«Я понимаю! – подумал Ричард. – Я понимаю гораздо больше, чем ты, отец. Я знаю, я чувствую, я вижу, откуда у белого порошка такая власть над тобой. Мне очень жаль тебя, отец. Но пока я ещё не могу помочь. Только пока! Скоро, совсем скоро всё изменится. И вот тогда никакие драконы нам будут не страшны. Лишь бы ты продержался. Подожди. Совсем немного подожди!»
– Но ведь доза всё растёт? – спросил Лайонелл. – Сейчас ведь дело уже не в ноге; по сравнению с тем, что вы испытываете, пропустив укол, все боли – это просто детские игрушки! Ведь так?!
Стэнфорд долго молчал, словно не расслышал вопроса. Затем коротко утвердительно кивнул, поднял взгляд потемневших глаз на Генри.
И тот понял, что больше столь жестоких вопросов задавать не следует.
– Тогда вот что я скажу вам, – нарочито сухим тоном произнёс Лайонелл. – Питер, конечно же, осведомлён о вашем пагубном пристрастии. Да? Я так и думал, такого не скроешь. И если вы попробуете обойти старшего сына в вопросах наследования, он может пойти на то, чтобы опротестовать ваше завещание в судебном порядке. Доказать, что вы морфинист, не так уж сложно. Достаточно взглянуть на ваши руки. Достаточно опросить под присягой ваших слуг. Причины же, по которым вы пристрастились к морфию, вряд ли кого?то заинтересуют. Вам ясны последствия?
– Ясны, – потерянным голосом ответил граф Стэнфорд.
Он словно сразу постарел ещё лет на десять, словно бы даже сгорбился от обрушившейся на плечи тяжести. Не спасала даже вошедшая в привычку осанка кавалериста.
– Значит, когда меня не станет, Фатима и Ричард окажутся в полной зависимости от Питера. Это очень скверно, Генри. Фатима никогда не попросит у него ни пенни. Гордость не позволит. Помните, ещё тогда, пятнадцать лет назад, я говорил вам, что по древности, по знатности её род далеко превосходит мой. Она ведь из Тимуридов!
«Да, мать говорила мне об этом, – подумал Дик. – Надо же, как любопытно смешалась во мне кровь двух древних родов! Это ведь тоже не просто так, тщеславие моё тут ни при чём. Это, очевидно, было нужно, чтобы я смог принять ДАР».
– Она ведь не только красавица, – чуть растроганно продолжал Уильям. Он даже слабо улыбнулся каким?то своим воспоминаниям. – Она очень умная женщина, всегда была такой. Когда я спас её, она знала едва десяток английских слов. А я знал столько же на фарси?дари, так что странное объяснение в любви у нас получилось! Ей тогда было всего семнадцать… Вдвое моложе меня. Уже через год она говорила по?английски сносно. Ещё через год – в совершенстве освоила язык!
– Интересно, – прогудел Генри, довольный тем, что разговор хоть немного отклонился от опасного направления, – Фатима ведь и сыну свои лингвистические способности передала. Помнится, вы говорили мне, что он уже освоил латынь, греческий, древнееврейский?
«Это потому, – подумал Ричард, – что мне нужно читать в подлинниках Аристотеля, Галена, Парацельса, Альберта Великого… Мне очень многих нужно прочесть, иначе я останусь беспомощным. Я уже сейчас точно знаю, ДЛЯ ЧЕГО, почти точно – ЧТО, но совсем не знаю, КАК делать. Но я узнаю! И в этом мне помогут не только книги. Ральф тоже поможет, хоть он и негодяй. Ничего, он до поры до времени негодяй, а когда эта пора настанет, тогда… уже я помогу ему».
– Всё верно, – подтвердил Уильям. – Скоро он и немецкий будет знать так же хорошо.
«Ещё бы! – усмехнулся про себя Дик. – Куда мне без немецкого? Ральф говорил, что лучшие химики сейчас – немцы. Великий Либих, Вюртц, Бюхнер… Но я всё равно стану лучше, чем они. Бедняги! У них ведь нет того, что есть у меня».
Генри Лайонелл рано радовался! Стэнфорд вновь вернулся к прежней теме:
– И всё же, Генри, что вы можете мне посоветовать? Не сочтите меня назойливым, дружище, но мне не с кем больше посоветоваться.
– Мне необходимо как следует обдумать наш сегодняшний разговор, – после минутной паузы ответил Генри. – Пока могу сказать только одно: положимся на милость Божью. На промысел Его.
«Верно! – кивнул Ричард. – Только промысел этот проявляется через людские дела, разве нет? Так почему бы не через мои?!»
– Вам пора возвращаться домой, Генри, – вздохнул граф. – Майкл, наверное, уже беспокоится, а до вашей усадьбы шагать целых три мили. Жаль, что я не могу проводить вас… Совсем стемнело и ветер…
– Ничего! – воскликнул Лайонелл. – Не припомню, чтобы в наших краях водились волки или разбойники. Прощайте, Уильям. Мы ещё вернёмся к этому разговору.
Половицы заскрипели под его тяжёлыми шагами. Быстро и бесшумно Ричард метнулся к повороту коридора. Вот и его комната! Всё в порядке.
Ничего не в порядке! Подслушанный разговор вновь пробудил воспоминания, которые Дик так упорно, так старательно загонял на самое дно сознания, в его глубины. Теперь они резонировали, как камертон после удара молоточком, порождая очень странные мысли. Дик не хотел сейчас думать о серьёзных вещах, ему нужно было отдохнуть. Пусть впечатления этого вечера потеряют остроту, отлежатся. Лучше бы всего – уснуть, а завтра утром хорошенько обо всём поразмыслить.
Но разве можно приказать себе не думать о чём?то?!
Можно, по крайней мере, попытаться.
Дик снял с полочки над кроватью небольшой кристалл зеленовато?голубой шпинели, идеальный правильный октаэдр. Это был очень добрый кристалл, он всегда помогал Дику успокоиться, настроить мысли на хороший лад, унять тревогу. Дик глубоко вздохнул и посмотрел на шпинель особым взглядом.
Нет, именно что не посмотрел в обычном понимании этого слова, даже глаза Дика Стэнфорда были в эти секунды закрыты. Просто он захотел ощутить кристалл по?настоящему, а не таким, как видят его все другие люди.
Сегодня восьмигранный кристаллик проявился не в красках и объёмах, не в запахах, а в звуках. Сначала нежный голос флейты вывел опорную ноту, вслед зазвучала малая терция, затем к аккорду шпинели добавилась квинта…
…Генри Лайонелл торопливо шагал по тропке, вьющейся через вересковую пустошь с редкими кустиками толокнянки. Тропка была едва заметна в слабом лунном свете, но Генри хорошо знал дорогу от особняка графа к своей усадьбе. Вообще говоря, здесь, около Фламборо?Хед, адвокат появлялся довольно редко, загородный дом, доставшийся Лайонеллу в наследство от отца – тот был зажиточным сквайром, – по большей части пустовал. Жил Лайонелл в портовом городе Гулле, что милях в пятидесяти к югу от Фламборо?Хед, там же располагалась адвокатская контора мистера Генри. Но Лайонелл любил этот сельский дом, он напоминал ему о днях молодости, и когда Генри получил приглашение Стэнфорда, он даже обрадовался тому, что немного отдохнёт от городской сутолоки, от дел, от клиентов.
Майкл, сын Лайонелла и ровесник Ричарда Стэнфорда, тоже очень любил бывать в загородном доме, построенном дедом. Он с радостью согласился сопровождать отца, тем более что с младшим сыном графа Майкла связывали узы дружбы и он надеялся повидаться с Ричардом. Они не виделись уже около полугода.
Сегодня Генри не взял с собой сына, словно кто?то подсказал ему, что делать этого не стоит. Ничего, думал Лайонелл, пусть мальчики увидятся завтра. Генри хотел остаться в Фламборо?Хед дня на два?три, поохотиться на лисиц.
И вот теперь, шагая к дому, где его дожидался Майкл, Генри был очень доволен этим своим решением. Пусть мальчики встречаются, он будет только рад этому. Но пусть они встретятся под крышей его, Лайонелла, дома, а не в Стэнфорд?холле.
Нет, Лайонелл не был суеверным человеком, многие, как уже было сказано, даже считали его толстокожим, но…
Но Лайонелл давно не чувствовал себя так неуютно, как во время сегодняшнего визита в Стэнфорд?холл! И причиной тому вовсе не разговор со старым другом, нуждающимся в совете и участии, хоть и разговор настроения Лайонеллу не прибавил. Просто сама атмосфера особняка Стэнфордов была как бы пропитана чем?то недобрым, враждебным, зловещим…
Последний раз Генри заезжал к графу этим летом, чуть менее полугода назад. Лайонелл каждое лето проводил в Фламборо?Хед пару недель, считая, что лучшего отдыха и представить себе нельзя.
Так вот, уже тогда Генри Лайонелл сердцем почувствовал: что?то очень неладно в Стэнфорд?холле. Сегодня это ощущение мало того, что подтвердилось, оно резко усилилось!
На вересковой пустоши царила темнота и пронизывающий холод. Ночной морозец сковал лужи, подмерзающая снежная каша похрустывала под ногами. Капли дождя на ветру превращались в пелену ледяных иголок. Иголки кололи лицо, с резким шуршанием отскакивали от затвердевшей ткани непромокаемого плаща.
На душе у Генри Лайонелла было муторно. Его томили очень скверные предчувствия…
Глава 2
Нет, не помог сегодня Дику голубовато?зелёный октаэдр, не успокоила простая и нежная мелодия шпинели, не увела в сон.
Может быть, потому что Ричард, как и Генри Лайонелл, ощущал тяжёлое, недоброе напряжение, нависшее над его родным домом. Точно чья?то злая рука крутит вороток арбалета, натягивая тетиву.
Что дальше? Лопнет струна тетивы? Или арбалетный болт устремится к цели?..
Человеческое мышление – явление загадочное, порой даже пугающее своей сложностью. Особенно когда речь идёт о столь незаурядном человеке, как Ричард Стэнфорд. А младший сын графа Стэнфорда был по?настоящему незауряден, фантастически одарён и в чём?то, – не стоит бояться этого слова, – пожалуй, гениален. Таким людям законы не писаны, их сознание, их постижение мира и самих себя идёт особым путём.
Вот и сейчас мысли Дика словно бы бежали одновременно по двум разным тропинкам. С одной из них Дик очень хотел бы свернуть, но тропинки то и дело сближались, перекрещивались и перепутывались.
…Йорк, колледж?пансионат сэра Энтони Прайса. Дику восемь лет. Хохочущие рожи мальчишек, круг этих мерзких рож, и он внутри круга. Пальцы, тычущие в него, хор гнусных голосов: «Раджа, раджа, закаканный раджа! Убирайся в свою Индию, раджа! Правь там обезьянами! В Инди?ю?ю!»
«Я англичанин! Я такой же, как вы! Не смейте! Мой папа…»
Тогда он был ещё слишком мал, чтобы понять – он не такой же, как они! Ничего, понимание пришло быстро, он всегда внутренне был куда старше своих лет.
«Па?апа? Ха?ха?ха! А кто твоя мать, обезьяний раджа? Наверное, раджиха? Туземная княгиня, принцесса, ха?ха?ха! Знатного обезьяньего рода…»
И не вырваться из проклятого круга. Он слепо кидается на обидчиков, размахивает своими слабыми ручонками, даже попадает какому?то из мучителей по носу. Но – подсечка, и вот он уже ползёт по грязному песку заднего дворика пансионата, руки заворачивают за спину, кто?то вцепляется в его волосы и тычет, тычет лицом в песок: «Ешь, раджа! Лопай, скотина индийская!»
…Те, кто утверждает, что детство – самая счастливая и безоблачная пора в жизни человека, либо беспросветно глупы, либо лицемерят, либо совсем не помнят собственного детства. Безоблачная? Невинная?! Дети – это что?то вроде ангелочков господних?
Как бы не так! Стоит детишкам – тем более подросткам! – объединиться в хоть какое?то подобие коллектива, и по изощрённой жестокости они дадут сто очков вперёд стае голодных волков. Не дай бог оказаться в таком коллективе белой вороной – заклюют! Не дай бог чем?то выделяться, быть не таким, как все, – затравят!
Так что сюсюканье относительно «ангелочков» насквозь лживо, и если сами лгуны не осознают этого, то тем хуже для них. Коль ангелочки в самом деле похожи на человеческих детёнышей, то любой психически нормальный индивид предпочтёт чертенят…
Не такой, как все, – вот в чём ключ! Сейчас Дик хорошо понимал эту нехитрую истину.
Ричард лежал на своей кровати, его широко раскрытые глаза глядели в никуда. Стэнфорд?холл уснул, успокоился в тишине ноябрьской ночи. Лишь резкие порывы восточного ветра толкались в окно комнаты Дика, стучались в стекло, словно ветер просился: «Пустите меня внутрь погреться!» Мысли Дика бежали по дорожке воспоминаний и никак не хотели свернуть в сторону.
Йорк. Колледж Прайса. В мерзком хоре появляются запевалы.
Вот вперёд выбегает Роберт Мюррей, белобрысый крошка Бобби. Мальчик, с которым Ричард попытался поделиться самым сокровенным: своим особым восприятием мира. Тем, что потом он для себя назовёт ДАР О М. Бобби хохочет с озлобленным подвизгиванием: «Раджа у нас особенный! Он говорит, что песочек краси?ивый, ха?ха?ха! Прекрасный, ха?ха?ха! Пусть лопает распрекрасный песочек! Пусть подавится красивым песочком, ха?ха?ха!»
Красивый песочек? Да, пожалуй, с песочка всё и начиналось… И с водички.
Вот и замерцала рядом с первой вторая мысленная тропа. Идти по ней куда приятнее.
…Впервые это произошло, когда ему было около пяти лет. Наверное, что?то подобное случалось и раньше, его удивительные способности, скорее всего, от рождения, но Дик был слишком мал для того, чтобы осознать необычность происходящего.
А в тот жаркий июльский полдень пятилетний Ричард Стэнфорд стоял на песчаной косе, вдающейся в небольшое озерцо, держал за руку мать и внимательно следил за плавающими у самого берега птицами. Озерцо, всего?то в четверть мили длиной, а в ширину – камнем перекинуть, лежало неподалёку от Стэнфорд?холла. Граф Уильям любил изредка порыбачить здесь, а Фатима часто прогуливалась с сыном по отлогим, заросшим дроком и бересклетом берегам.
Стайка диких уток разом, как по команде, переломилась, задрала над водой треугольнички жирных хвостов. Потеребив добычу, утки, осыпанные градом катящихся с них, как ртуть, капель, выровнялись, начали прощёлкивать клювиками воду.
Внимание мальчика привлекли сверкающие капельки на перьях уток, он пристальнее вгляделся в них.
Описать и тем более объяснить дальнейшее очень трудно, если вообще возможно. Это приблизительно то же самое, что попытаться дать представление о цвете ясного июльского неба человеку, слепому от рождения. Или растолковать глухому, как звучит песенка жаворонка. Вода, из которой состояли капельки, словно бы раскрылась Дику изнутри, показала свою глубинную, внутреннюю сущность. Это было неожиданно, ново и феерически красиво!
Пятилетний Ричард перевёл изумлённый взгляд на сероватый песок под ногами. Ошеломляющее чудо повторилось! Снова он видел изнутри строение крупинок песка, словно бы тоненькие ниточки чистейших спектральных цветов, сплетающиеся в узор удивительной красоты и совершенства.
Впрочем, «видел» – это не совсем точно! Мальчик воспринимал внутреннюю, потаённую структуру вещества всеми пятью чувствами сразу. «Изнутри» вода и песок по?разному звучали, по?разному пахли…
Это кажется невероятным, но только кажется! Ведь не считаем мы невероятным то, как некоторые люди в уме извлекают корни любых степеней из восьмизначных чисел. За секунды! Удивительным – да! Но не невероятным. Как они это делают? Неизвестно… А как гениальные шахматисты умудряются играть одновременно несколько десятков партий вслепую, не глядя на доску? Играть и выигрывать! Тоже неизвестно.
Зато известно, что великий Гаусс воспринимал сложнейшие математические формулы как законченные музыкальные произведения, он в буквальном смысле слова слышал музыку чисел, сам писал об этом и рассказывал своим друзьям. Человек ещё толком не познан, человек бесконечно сложен, и природа – или Бог, суть не в названии высших сил! – порой наделяет отдельных людей самыми удивительными способностями.
При всём том Дик был совершенно нормален, психически здоров, разве что его душевная организация отличалась повышенной тонкостью, чувствительностью, унаследованной от матери. Обычно Ричард Стэнфорд воспринимал окружающее так же, как все остальные люди. Камень представлялся ему камнем, стекло – стеклом, вода – водой, металл – металлом. Будь по?иному, случись так, что Дик всегда видел бы за внешней маской истинную, глубинную структуру веществ, он бы, наверное, не выдержал, сошёл бы с ума. ДАР превратился бы в страшное проклятие. Но нет! Чтобы проникнуть «внутрь», преодолеть завесу, ощутить тайное, скрытое от глаз других, Дику необходимо было совершить волевое усилие. Проще говоря, захотеть. И так же, по своему желанию, Дик мог вернуться в обычный мир. Чем старше он становился, тем проще давались ему такие переходы. Сейчас, в тринадцать лет, Ричард «переключал диапазоны» совсем легко.
Прямо там, на берегу озерка с утками, Дик попытался поделиться с матерью той дивной картиной, которая только что открылась ему. Но тщетно! Фатима не могла понять, о чём, захлёбываясь от восторга, говорит ей сын. Не в том дело, что Дик был ещё совсем мал, что ему трудно было выразить словами свои впечатления и переживания. Когда дело касалось обыкновенного и привычного мира, Дик прекрасно с этой задачей справлялся. Просто… Ещё раз: как объяснить слепому, что такое радуга?
С отцом – а Дик и граф Уильям очень привязались друг к другу, тут Лайонелл угадал! – подобная попытка тоже провалилась. И по тем же причинам. А Дику так хотелось поделиться с близкими людьми тем волшебным и потрясающим, что вдруг открылось ему!
И продолжало открываться, каждый день одаривая мальчика чем?то новым, небывалым.
Вот, скажем, сердечко карандаша, которым Дик рисует, переливающийся сполохами света бриллиант в перстне матери и хлопья чёрной сажи на каминной решётке. Что между ними общего? Да ничего!
Но Дик с изумлением видит – точнее, ощущает! – что «изнутри», «под маской» и чёрная сажа, и сверкающий гранёный камешек, и хрупкий серый стерженёк карандашного сердечка чем?то очень похожи друг на друга. Дрожащие ниточки сплетаются в три разных узора, но цвет у ниточек один – ярко?синий. Или это не ниточки, а натянутые струнки невиданного музыкального инструмента. Струнки дрожат, вибрируют, звучат… Надо же: оказывается, мелодия бриллианта, сажи и графита – это одна и та же мелодия, только в разных тональностях!
Но вот как это объяснишь, как передашь другим?! Как до них достучишься? Тем более что Ричард по малолетству и слова?то такого не знает – «тональности». Это ведь тоже мучение – да какое! – попасть в положение умного пса, который всё понимает, но сказать не может ничего, даром что очень хочется.
Пробовал Дик говорить о своём секрете и с приятелем, Майклом Лайонеллом, Майком.
Снова ничего не вышло. Даже хуже, чем с родителями, получилось. Оно понятно: два совсем маленьких мальчика, один из которых пытается объяснить другому нечто невообразимо огромное, нечто такое, чего сам?то не понимает. Тем более что Ричард по уровню умственного развития всегда на два?три года опережал свой возраст, а Майк был именно тем, кем и выглядел: шестилетним мальчонкой.
Кстати, четыре года, проведённые Диком в колледже Прайса, солидно усилили разрыв между внешним, биологическим возрастом Ричарда Стэнфорда и его внутренним мироощущением. Худощавый тринадцатилетний подросток в действительности мыслил и чувствовал скорее как семнадцатилетний юноша. Ничего удивительного: каждый год, прожитый в Йорке, можно смело было засчитывать за два. Да ведь и оказавшись два года тому назад дома, в Стэнфорд?холле, Дик попал далеко не в тепличную обстановку. Безоблачное счастье, чистая радость его раннего детства ушли безвозвратно.
Давно замечено: сильное – но переносимое! – внешнее давление, неблагоприятные жизненные обстоятельства, травмирующие ситуации действуют на детей неординарных именно в этом направлении: такие дети раньше взрослеют. Только – вот беда! – дорогой ценой.
…Да, когда Дик только попал в пансионат сэра Энтони, в те первые месяц?два, пока на него ещё не начал безжалостно опускаться пресс презрительной злобы сверстников, Дик пытался поделиться с некоторыми мальчиками теми чудесными и загадочными вещами, которые открывались ему.
Зря он это делал!
Нет, травить Дика стали бы и так, из вульгарной ксенофобии. Потому что его кожа чуть темнее, чем у других, скулы немного выше и резче обозначены, иной разрез глаз… Потому что он – чужой. Да о чём тут говорить: всем известно, что мать этого отвратительного мальчишки – какая?то дикарка, «обезьянья раджиха»!
А вот, кстати, откуда известно? Сам Дик о своей матери никому ничего не рассказывал!
Там, в Йорке, Дик не задумывался над этим вопросом. Не до того было, да и умение аналитически мыслить, распутывать клубок причин и следствий пришло несколько позже. Но, оказавшись после четырёх лет мучений дома, в Стэнфорд?холле, Дик быстро понял, что к чему, откуда и чьими стараниями долетели до Йорка все эти слухи о его матери.
Ясное дело, старший братец расстарался! Отставному полковнику Стэнфорду было не по средствам платить за обучение младшего сына в таких старинных престижных пансионатах, как Харроу, Итон или Винчестер, граф был вынужден довольствоваться колледжем Энтони Прайса в Йорке.
Впрочем, колледж Прайса тоже был не из последних, а кроме того, старший сын графа – Питер – десять с лишним лет учился в этом интернате. Лишь когда тяжело раненный граф ушёл в отставку и вернулся в Англию, вся семья, включая Питера, собралась в Стэнфорд?холле.
Уильям Стэнфорд, далёкий от гражданской жизни и слабо в ней разбиравшийся, рассудил просто: то, что было хорошо для старшего сына, будет хорошо и для младшего! Даже лучше, потому что способности Питера и Ричарда даже сравнивать было нельзя. Питер оказался туповат, и к перспективам его дальнейшего образования – военного ли, гражданского – граф относился с изрядным скепсисом.
Ричард – другое дело. То, что мальчик незаурядно и разносторонне талантлив, было очевидно для всех, кто знал Ричарда.
Но граф ошибся в одном: он недоучёл всю силу ненависти своего старшего сына к мачехе и младшему брату. Ненависть эта усиливалась ещё тем, что Питер, отнюдь не слепой, прекрасно понимал – отец предпочитает ему Ричарда. Граф, человек прямой и благородный, не принял в расчёт, что Питера хватит на любую подлость и низость, лишь бы досадить посильнее ненавистным «родственникам», сделать Фатиме и Ричарду больно.
И Питера хватило! Десять лет, проведённые в пансионате Энтони Прайса, не прошли даром. У Прайса его прекрасно помнили и многие учителя интерната, и подростки, бывшие немного помладше Питера и до сих пор остававшиеся в интернате. Питер довольно часто бывал в Йорке, заходил он и в «alma mater». Так что ему не составило большого труда рассказать кое?кому про «афганскую княгиню», заморочившую его несчастного отца, про её щенка, который – надо же! – сейчас учится в интернате. Дальнейшее нетрудно предугадать: сплетни, дурные слухи распространяются быстро, точно круги от брошенного в стоячую воду камня. Дошли эти слухи и до самых младших воспитанников пансиона Прайса, до сверстников Ричарда, а уж детишки не подкачали – быстро и с выдумкой адаптировали всю грязь к своему возрасту и восприятию.
На что и рассчитывал Питер.
…Дик тяжело вздохнул, сел на кровати, затем встал и, переступая босыми ногами по холодному полу, подошёл к окну. Близился час полуночи.
Тоскливая и одновременно чем?то непонятно тревожная картина открылась взгляду Ричарда.
Студёный восточный ветер разогнал натёкшие с моря тучи, небо расчистилось. Сейчас на его чёрном бархате сиял и переливался колючим мерцающим блеском король зимы – многозвёздный Орион. На кончике меча небесного охотника и воина повисла маленькая, очень яркая Луна, входящая в последнюю четверть. Луна изливала на чуть присыпанную снежком равнину, спускающуюся к Фламборо?Хед, мертвенный холодный свет странного, чуть зеленоватого оттенка. Стояла полная тишина, лишь порывы ветра постукивали в стекло. Но Ричарду казалось, что он слышит тонкий посвистывающий звук низовой позёмки в сухом вереске, облетевших кустиках толокнянки, слышит морозное шуршание снежинок по мёрзлой земле.
Под стать картине за окном и настроение Ричарда. Тоскливая тяжесть лежит на душе у Дика, и нет сил сбросить её, освободиться. Снова его мысли сворачивают на злую тропку.
У памяти есть интересное свойство: мы лучше помним хорошее, чем плохое, и это прекрасно, иначе жизнь стала бы невыносимо тяжела. Но, во?первых, способность с юмором и без душевной боли оглядываться назад приходит с жизненным опытом, которого Ричарду не хватало, – он всё же оставался подростком, пусть и особенным, уникально талантливым. А во?вторых, не так уж богата была его жизнь на хорошее, разве что первые семь лет, от рождения до того дня, когда пришлось отправиться в Йорк. Зато лиха молодому Ричарду Стэнфорду уже довелось хлебнуть основательно.
…Йорк, колледж?пансионат сэра Энтони Прайса. Дику девять лет. В небольшом дортуаре – спальной комнате на десять мальчиков – предутренняя тишина. Дику снится дом, снится отец, который рассказывает ему о подвигах славных предков, о битвах при Креси и Азенкуре. Эти рассказы для маленького Дика интереснее, увлекательней любой волшебной сказки. Мальчик улыбается во сне. И тут на него обрушивается поток ледяной воды!
Ничего не понимающий, ошеломлённый Дик резко вскакивает с кровати. Мокрая ночная рубашка облепила тело. Слышен дружный издевательский гогот. Пол рядом с кроватью Ричарда натёрт сухим мылом. Сейчас, когда на мыло попала вода, пол становится скользким, словно лёд. Ноги Ричарда разъезжаются, он нелепо взмахивает руками, падает лицом вперёд, сильно ударяется лбом и носом о кровать своего соседа по дортуару, Бобби Мюррея. Из разбитого носа течёт кровь, очень больно. А глумливый гогот всё громче.
«Обделался, обделался, обезьяний раджа обделался!» – слышит Ричард хор визгливых голосов.
Боже, какие негодяи! Они не просто вылили на него полутораквартовый кувшин холодной воды, эти мерзавцы добавили в воду ополоски спитого вчерашнего чая. И теперь его кровать выглядит так, точно он и в самом деле…
Визгливый фальцет Мюррея ввинчивается в уши: «Этот индийский недоносок испачкал своими гадкими соплями мою простынку!»
Глаза Ричарда застилает багровая пелена бешенства. Одна мысль огненным колесом крутится под бровями, наизнанку выворачивает мозг: со всеми не справиться, но хоть бы с одним! Лишь бы добраться до глотки проклятого Бобби, стиснуть её изо всех сил, до хруста, заткнуть его поганую пасть, а там – будь что будет!
Он пытается встать, но вновь поскальзывается на мыльной дорожке, падает в проход между кроватями. Тогда он обеими руками хватает белобрысого Мюррея за ногу, изо всех сил дёргает на себя. Бобби с грохотом валится рядом. Дик, оставив попытки подняться на ноги, подминает врага под себя, его руки смыкаются на горле Мюррея. Тот пронзительно визжит, ему очень страшно. Прямо перед собой Бобби видит белые от неистовой ярости глаза Ричарда. Дик сейчас готов зубами, оскаленными по?собачьи, грызть Мюррея!
Но Ричарда Стэнфорда бьют по голове. Раз, другой, третий. Десяток рук отрывает его от Бобби. И снова Дика бьют по голове. Бьют чем?то тяжёлым. Может быть, тем самым полутораквартовым глиняным кувшином? Удар силён, кувшин раскалывается на черепки, а Ричард снова рушится на скользкий грязный пол.
Следующие несколько часов Ричард запомнил плохо, он словно бы выпал из реальности. Будто бы всё происходило на дне мутного водоёма, куда почти не проникает солнечный свет, где увязаешь в иле и полусгнивших водорослях. И всплыть невозможно, голова превратилась в тяжёлую чугунную гирю, тянет вниз. Страшная сила сдавливает виски, точно в них заколачивают тупые деревянные клинья.
Но вот он приходит в себя, с трудом фокусирует взгляд. Кто это перед ним? А?а, мисс Лайза Клайтон, экономка пансионата Энтони Прайса. Старая дева, ядовитая сплетница. Ричарда мисс Клайтон терпеть не может, хотя, казалось бы, за что? А вот к его старшему брату Питеру, когда тот жил в интернате Прайса, относилась с симпатией…
Скошенный назад лоб, маленький подбородок, острый носик и быстрые чёрные глаза – всё это придавало лицу экономки неуловимое сходство с мордочкой старой, умной и злобной крысы. Не раз Дику хотелось подойти поближе и проверить, не тянется ли за ней розовый голый хвост.
Экономка глядит на Ричарда с презрительным недоброжелательством, словно на нечто противное, нечистое. Так смотрят на таракана или мокрицу.
– Ричард Стэнфорд! – скрипучим голосом говорит она, брезгливо оттопырив тонкую нижнюю губу. – Как вы смели затеять безобразную драку?! За что вы избили Роберта Мюррея? Мюррей не виноват в том, что вы, Ричард Стэнфорд, обмочились в кровати. Как вам не стыдно, Стэнфорд! Ваш старший брат никогда бы так не опозорился!
Ричард не оправдывается, он молчит, чувствуя, как обжигающая ненависть переполняет его, ещё немного, и она хлынет изо рта потоком горькой желчи. Он уже не видит противной физиономии экономки, перед глазами одна клубящаяся темнота, изредка пронзаемая сполохами багровых и голубых молний. В такие минуты не хочется жить…
«Нет, я не заплачу, – думает Дик, упрямо сжимая кулаки. – Не дождётесь вы моих слёз. Я – Стэнфорд! Я потомок древнего и славного рода, рода воинов и рыцарей. Во мне течёт их кровь, и я в ответе перед ними. Как бы мне ни было плохо, я не имею права терять достоинство. Мне просто нельзя плакать!»
Да, это помогало. Там, в Йорке, среди чужих и недобрых людей, окружённый злобными мальчишками, которые травили его, Ричард часто вспоминал рассказы отца о героических прошлых поколениях графов Стэнфордов. Сам Уильям Стэнфорд всегда очень гордился своими предками и хотел, чтобы младший сын тоже испытывал это чувство.
Было чем гордиться! Стэнфорды по праву считались одним из самых старинных и славных родов Йоркшира. Пятьсот лет назад, после битвы при Пуатье, Эдуард, Чёрный принц – так звали наследника соратники за цвет его доспехов – плашмя ударил мечом по плечу Джона Стэнфорда, посвятил его в рыцари. Там, на болотистом берегу Луары, тридцатилетний Джон нанёс таранный фланговый удар, опрокинул ряды французских арбалетчиков. Этот эпизод исторической битвы стал переломным, принёс англичанам скорую победу. Тогда у Стэнфордов появился родовой герб – вставшая на дыбы белая лошадь в красном поле. И гордый девиз: «Plus ultra!» – «Всё дальше!». С тех пор, со Столетней войны, служение интересам Англии, рыцарская верность и честь стали непреложным законом для Стэнфордов.
Веком позже, во время войны Роз, Стэнфорды показали, как они умеют быть верными. Стэнфорды с самого начала были горячими сторонниками Белой розы, стояли за Йорков. Джек Стэнфорд, внук сэра Джона, считал себя вассалом милорда герцога Глостерского, прославленного горбуна, чьё имя наводило ужас на Ланкастеров. Сэр Джек преданно служил своему доблестному сюзерену, храбро дрался в жестоких битвах гражданской войны. В те злые годы измена и предательство словно бурьян и сорная лебеда расцвели среди английского дворянства, заглушая и Белую розу Йорков, и Алую – Ланкастеров. Иные рыцари чуть ли не кичились своей беспринципностью, готовностью продать и предать кого угодно. Взять хоть бы знаменитого графа Уорвика, блестящего военачальника и убеждённого изменника!..
Так вот, ни разу в душах сэра Джека Стэнфорда и двух его младших братьев – Фрэнсиса и Найжела не шевельнулась тень предательства. Стэнфорды были верны герцогу Глостеру, когда он шёл к трону, оставались преданными слугами короля Ричарда III Йорка, сохранили верность Белой розе и тогда, когда последний король из династии Плантагенетов пал жертвой интриг и предательства, потерял корону вместе с жизнью на трижды проклятом поле битвы под Босуортом. Но вот любви и преданности Стэнфордов погибший король не потерял.
«Дикки, – говорил маленькому Ричарду отец, граф Уильям Стэнфорд, – я дал тебе имя в честь короля Ричарда Третьего. В честь великого горбуна. Я, мой мальчик, преклоняюсь перед этим человеком. Он был образцом рыцарской доблести, блестящим полководцем, умным и дальновидным политиком, последним великим королём на английском троне. Мы, Стэнфорды, всегда честно служили Англии и её королям. Твой прапрадед, сэр Роберт Стэнфорд, храбро сражался при Нейсби и сложил голову в бою с «железнобокими» Оливера Кромвеля. Но я скажу тебе, сынок: Тюдоры и Стюарты – выскочки рядом с Плантагенетами! О Виндзорах что и говорить, хоть я и чту нашу королеву Викторию… Никогда не верь злобным наветам на Ричарда Третьего. Его бессовестно оболгали, сделали в глазах потомков хитрым и жестоким чудовищем, властолюбивым маньяком, шедшим к трону по трупам. Это гнусная клевета, сын мой! Помни: историю пишут победители, и горе, если им не хватает порядочности, чтобы не смешивать побеждённых с грязью. Первый из Тюдоров, Генрих Ричмонд, Генрих Седьмой, жалкий торгаш и ничтожество по сравнению с Ричардом Йорком! Победа Ричмонда при Босуорте была бесчестной победой, Генрих купил её на французские деньги, хоть об этом предпочли быстренько позабыть. Его внучка, дочь развратницы Болейн, Елизавета, которую принято называть Великой, была превосходной королевой. Англия многим обязана ей. Тем не менее Елизавете тоже не хватило благородства на то, чтобы не лгать о последних годах короля Ричарда! Наш великий бард, Уильям Шекспир, добросовестно заблуждался, когда писал свои исторические хроники. Но я говорю тебе правду: ты должен гордиться своим именем, это имя истинного рыцаря и великого короля. Рано или поздно правда пробьёт себе дорогу, и все англичане будут с благоговением и гордостью вспоминать о Ричарде Третьем Йорке!»
О, как помогала Дику эта прививка мужества, данная ему отцом, как поддерживала она дух Ричарда в самые трудные, самые тяжёлые минуты!
Что ещё выручало юного Ричарда, давало силы жить и оставаться самим собой в удушливо?злобной атмосфере интерната Прайса, среди всеобщего презрительного недоброжелательства и травли? Сильнейшая тяга к знаниям, желание учиться, вкус к этому занятию. Дик Стэнфорд был жаден до знаний, а природа наделила его изумительной памятью, острым аналитическим умом и выраженной способностью не просто легко усваивать новое, но осмысливать его по?своему, оригинально и нестандартно.
Ричард схватывал всё буквально на лету, в том, что касается химии, физики, биологии, словом, естественных наук, мальчик проявлял феноменальную одарённость, граничащую с гениальностью. Остальные области знаний, скажем, литература, оставляли его равнодушным. Именно в Йорке перед Диком встал главный вопрос, найти ответ на который сделалось его мечтой, основной целью жизни. Правда, осознал он эту цель позже, немного повзрослев, уже вернувшись в Стэнфорд?холл.
Больше всего мальчика интересовала проблема взаимодействия души и тела человека, а ещё более конкретно: можно ли влиять на человеческую душу, влияя на тело с помощью химических и физических агентов? Можно ли вообще улучшить род человеческий, дать людям новую мораль, сделать их добрее, воздействуя на них подобным образом? Конечно, Ричард, при всех своих недюжинных способностях, был ещё слишком мал, чтобы сформулировать проблему так чётко, так определённо и в настолько точных терминах. Но на подсознательном уровне он ставил вопрос именно так.
Учитель естествознания в колледже Прайса был очень неплохой, хоть и он относился к юному Стэнфорду безо всякой теплоты. Тоже ведь можно понять человека: кому понравится, когда десятилетний мальчишка соображает куда лучше, чем ты сам? Нужно быть просто превосходным педагогом, чтобы снести такой удар по самолюбию! Но Дик всё же многое почерпнул на его уроках, хоть главным источником пополнения знаний для Дика уже тогда стало самостоятельное чтение и его загадочный дар, позволяющий мальчику видеть глубинную сущность любого вещества.
Здесь Ричарду повезло: библиотека интерната Энтони Прайса оказалась очень богатой. Было что почитать, и мальчик читал взахлёб.
Тогда?то Ричарду впервые попались очень трудные для понимания, но до чего же захватывающие трактаты великих алхимиков и натурфилософов прошлого: Альберта Великого, Парацельса, Ибн Сины, Галена… В трудах этих выдающихся мыслителей Дик с радостным удивлением натолкнулся на идею панацеи – универсального целительного средства, излечивающего от всех болезней, мечты алхимиков и врачей Средневековья. Причём панацея способна не только излечить человека, но и сделать его лучше, чище, добрее! Благотворно повлиять на его душу. Да?да, не только философский камень, способный обращать в золото всё что ни попадя, влёк естествоиспытателей прошлых веков!
И Ричард начал мечтать о том, как он найдёт или создаст такое средство. А что людей необходимо сделать добрее – хотя бы и против их воли! – мальчик успел убедиться на собственном печальном опыте.
…Йорк, колледж?пансионат сэра Энтони Прайса. Дику идёт одиннадцатый год. В этот последний год своего пребывания в колледже Дик обзавёлся подружкой. Ею стала небольшая изящная кошечка, прижившаяся на кухне пансионата. У неё была короткая ярко?рыжая шёрстка, белый треугольничек на груди и белые носочки на лапках. За цвет шкурки и пронзительно?зелёные, светящиеся в темноте глаза Ричард прозвал кошечку Sparky – Искорка.
Это полная ерунда, что кошки не способны на подлинную привязанность к человеку. Как ещё способны! Искорка, по крайней мере, явственно выделяла Ричарда из всех, как могла, старалась выказать мальчику своё дружелюбие и симпатию. Она даже сопровождала Дика, когда тот прогуливался по саду пансионата, а для кошек совместная прогулка с человеком – признак сильной к нему привязанности.
Рыжая кошечка каким?то непонятным образом узнавала, когда Ричард уходил в библиотеку колледжа и сидел там, погрузившись в очередной натурфилософский трактат или просто мечтая о чём?то своём. Тогда Искорка проникала в библиотеку, тихой незаметной тенью прокрадывалась к своему любимцу и мягко вспрыгивала на колени мальчика. Она устраивалась поудобнее, сворачивалась в пушистый клубок и заводила свою ласковую мурлыкающую песенку. И на сердце у Дика Стэнфорда становилось веселее. Он гладил кошку по тёплой спинке, чесал за ушком. Искорка поднимала голову, смотрела в глаза мальчику своими чуть раскосыми ярко?зелёными глазами. Было в её взгляде нечто древнее, загадочное, будоражащее воображение. Ричарду порой казалось, что Искорка может читать его мысли.
«Может быть, впрямь звери в чём?то мудрее людей? – думал в такие минуты Ричард. – Может быть, им открыто что?то, недоступное для нас, утраченное нами? Вот интересно, есть ли у зверей бессмертная душа? Франциск Ассизский уверял, что да. Впрочем, у Искорки она точно есть. Я в этом ничуть не сомневаюсь. И душа эта куда чище и светлее, чем многие человеческие души…»
Случалось, что ночью Искорка осторожно пробиралась в дортуар. Она подходила к кровати Ричарда, тихо вопросительно мяукала. Ричард спускал руку вниз, гладил кошку. Тогда Искорка одним быстрым движением оказывалась рядом с мальчиком, забиралась под одеяло. Она тесно прижималась к боку Ричарда, «месила тесто» лапками, слегка покалывая Дика острыми когтями. Иногда кошечка лизала его в щёку шершавым, точно маленькая тёрка, языком. Так в обнимку, под мурлыканье, становившееся всё тише, они и засыпали.
Людям, тем более детям, – а Ричард Стэнфорд, несмотря на все свои редкостные таланты и способности, всё же оставался ребёнком! – жизненно необходимо, чтобы кто?то относился к ним с теплотой и любовью. Кошка? А почему бы и нет?! Звери ведь лгать не умеют, их дружба и любовь неподдельны. В удушливом мраке всеобщего недоброжелательства, окружавшем Дика, рыжая кошка стала самой настоящей искоркой, удачно мальчик её назвал.
Человеку нужно не только, чтобы любили его, он сам тоже очень хочет кого?то любить! Без этого жизнь его пуста. Только – вот беда! – душевно прикипев к кому?нибудь, человек становится куда уязвимее.
Ричард снова встал с кровати, обхватил голову руками. Ему уже случалось испытывать всё это несчётное число раз, но легче не становилось. Скорее наоборот – душевная рана, полученная три года назад, болела всё сильнее. Он не умел избирательно выбрасывать что?то из памяти, да и не хотел Дик забывать свою Искорку.
…В тот трижды проклятый вечер он, зайдя в дортуар, увидел на кровати Искорку. Кошка, вытянувшись, лежала на подушке. Мёртвая. Её убили совсем недавно, она ещё не успела остыть и окоченеть. Ричард взял в руки мягкое, неживое тельце, и его затрясло. Голова Искорки безвольно откинулась, свесилась набок, из оскаленной пасти на руку Дика упало несколько капель тёмной крови. Ярко?зелёные глаза кошки потускнели, подёрнулись мутной сизоватой плёнкой.
Всё было ясно. Кто?то безжалостно свернул любимице Ричарда Стэнфорда шею… Кто? Да так ли уж это важно?! Они. Те, кто ненавидел и травил его, те, кто не остановился перед бессмысленной жестокостью, лишь бы причинить Ричарду боль посильнее.
О, это удалось негодяям в полной мере! Ричард стоял, широко расставив ноги, с убитой Искоркой в руках, а пол дортуара раскачивался под ним, точно палуба корабля в штормовую погоду. Он ничего не видел, лишь мутные серые ленты, похожие на болотных змей, свивались перед глазами Дика в спирали и кольца. Только колоссальным, запредельным усилием воли Стэнфорд сдерживал готовые хлынуть слёзы. Он опять остался один… Ричард всем существом своим ощущал тяжёлый ужас случившегося, он понимал: сейчас он может кого?нибудь убить, и нет той силы, которая остановит его. А может быть, он умрёт сам? Ведь невозможно, немыслимо перенести такое острое и всеобъемлющее страдание!
Кроме Стэнфорда, в этот момент в комнате были пятеро его соседей по дортуару. И, видимо, было в побелевшем, как извёстка, лице Ричарда нечто настолько жуткое, что все они, как один, не издав ни звука, осторожно вышли в коридор. Оставили Дика вдвоём с его погибшей любимицей.
В тот же вечер Ричард похоронил рыжую кошку под кустом боярышника, рядом с садовой дорожкой, по которой Искорка, задорно задрав хвост, частенько сопровождала его на прогулках.
Сегодня, глухой ноябрьской ночью, в холодной комнате Стэнфорд?холла, тот ужас и отчаяние трёхлетней давности, оскаленная мордочка мёртвой Искорки, лица и голоса его врагов вновь всплыли в памяти Дика. Дик вновь подошёл к окну, выходящему на пустоши Фламборо?Хед, прижался лбом к стеклу. Он ждал, пока немного утихнет грызущая сердце боль.
Смерть Искорки окончательно прояснила для Дика некоторые вещи.
«Люди в большинстве своём злы, убоги и пошлы, – решил для себя Дик. – Но это вовсе не означает, что никто из людей не может подняться над убожеством и пошлостью. Жил же, например, человек, чьё имя я ношу, великий король, храбрый и благородный Ричард Йорк! И те, кто выше других, должны стараться помочь этим другим, должны попытаться вытащить их из засасывающей трясины злобы и жестокости. Как? Самые сильные слова, самые прекрасные проповеди если и помогают, то ненадолго. Сам Господь устами своего сына сказал людям, как они должны жить! И что же? Изменилось за последние почти две тысячи лет что?то к лучшему? Да ведь, пожалуй, не изменилось, хоть сказано всё было предельно ясно. Значит? Значит, нужно что?то повесомее, чем слово. Что?то материальное, что?то такое, с чем не поспоришь, что?то, заставляющее человека измениться! Вот где помогла бы панацея! Только исцелять это волшебное средство должно не тела, а души людские…»
Вот так сильные люди извлекают уроки даже из своего страдания и отчаяния. И возраст тут не помеха. Не бывает вовсе бесполезного жизненного опыта, пусть даже сколь угодно горького. Потому что именно он определяет и формирует структуру личности.
Ричарду так и не удалось уснуть этой ночью. Дождавшись, пока как следует развиднеется, он оделся и вышел в сад Стэнфорд?холла.
Утро выдалось тёплым и сырым: морской бриз окончательно растрепал вчерашние тучи, а неяркое ноябрьское солнце всё же прогнало ночной холод. На голых стеблях лебеды и бурьяна, на пожухшей траве, на последних листьях лежала пушистая густая изморозь. Её игольчатые кристаллики отсверкивали гранями, переливались в солнечных лучах, медленно таяли. С деревьев срывались тяжёлые капли. От морского берега тянул зябкий ветерок. Привычно, но как?то неохотно, словно по давным?давно надоевшей обязанности, каркали растрёпанные вороны. Начинался новый день.
Глава 3
Если долго и неуклонно натягивать струну лютни, виолончели, гитары – любого подобного музыкального инструмента, – всё сильнее и сильнее, то струна непременно лопнет. Разорвётся. Но, пока этого не случилось, внешне ничего заметить нельзя: как была струна, так и остаётся струной же. Разве что звук у неё становится всё выше, тон всё лихорадочнее и в нормальный музыкальный строй укладывается хуже и хуже.
Обстановка в Стэнфорд?холле за два года, прошедшие с тринадцатилетия Ричарда, с того пасмурного ноябрьского вечера, когда он подслушал разговор отца с Генри Лайонеллом, была чем?то похожа на такую перетянутую струну. Подспудное напряжение исподволь нарастало, становилось почти невыносимым, хотя человеку со стороны было бы непросто заметить это.
Не раз и не два за это время возникало у Ричарда диковинное чувство. Не страх, нет. А что? Трудно подобрать название. Будто идёшь по хлипкому тоненькому мостику над бездонной пропастью. И вот мостик под ногами начинает чуть слышно, едва заметно по?трес?ки?вать… В чём?то такое чувство сродни ирреальному ночному кошмару, только вот проснуться никак не удаётся.
Дик продолжал интенсивно и прилежно учиться, это занимало почти всё его время и спасало от малоприятных мыслей о том, что творится рядом, с близкими ему людьми. По?прежнему юного Ричарда Стэнфорда более всего интересовало естествознание во всей своей гигантской широте и философия, особенно те её области, которые трактовали вопросы, связанные с человеческой душой, которые вообще пытались нащупать взаимовлияние материи и духа.
Как и в колледже Энтони Прайса, Дик полагался в первую очередь на себя, на самостоятельную работу с книгами, благо на книги для своего любимца граф денег не жалел.
Конечно, в чём?то помогал и Ральф Платтер, хотя к пятнадцати годам Ричард уже во многих отношениях перерос своего домашнего учителя. Но вот с другой, несколько неожиданной стороны наставник оказался полезен Ричарду, подтвердив некоторые его предположения.
Ох, лучше бы не подтверждал!
К тому моменту, когда «струна», насквозь пронзившая поместье графа, натянулась до самых последних пределов, Платтер уже пятый год жил в Стэнфорд?холле. И, надо сказать, проклятая струна натягивалась во многом благодаря усилиям Ральфа, в этом отношении горькие мысли Генри Лайонелла оказались пророческими, как в воду глядел самый близкий приятель отставного полковника.
Ричард прекрасно помнил день, когда выписанный графом из столицы домашний учитель – с самыми лучшими рекомендациями! – появился в их доме. Сперва Ральф даже понравился Дику; Платтер, когда это было ему необходимо, умел становиться редкостно обаятельным.
Взгляд светло?серых глаз мистера Ральфа Платтера был удивительно открытым и безмятежным, так что людям, впервые сталкивающимся с ним, казалось, что голова этого рослого широкоплечего мужчины лет двадцати пяти излишними раздумьями не отягощена. Короткая стрижка чуть рыжеватых светлых волос, типично кельтский нос с ощутимой курносинкой. А к этому времени своим происхождением от древних кельтов, капелькой их крови в жилах стали гордиться! Твёрдый, чуть выступающий вперёд подбородок, уверенная линия немного полноватых губ, всегда готовых растянуться в ослепительной белозубой улыбке.
Простецкая внешность – то ли удачливый коммерсантик среднего пошиба из Сити, то ли невысокого ранга чиновник колониальной администрации с неплохими сбережениями, любитель охоты и спорта, поклонник Гладстона и хорошо сшитых костюмов строгого делового покроя. Оживший положительный персонаж из романа Чарльза Диккенса. Словом, примитивный такой индивидуум, от которого каверз и хитростей ждать не приходится, у которого душа, что называется, нараспашку и что на уме – то и на языке, причём и там и там – немного.
Подобные умозаключения, основанные на примитивной физиономистике, были насквозь ошибочными!
На самом?то деле молодой выпускник Оксфорда, действительно обладавший обширными и грамотно систематизированными знаниями, был куда как непрост. Этот человек безгранично любил собственную персону и столь же безгранично презирал всех остальных представителей рода людского.
Основной доминантой его жизненной философии и поведения являлась уверенность, что этот мир предназначен специально для того, чтобы ему, Ральфу Платтеру, хорошо в нём жилось. Что до других людей, то они всего лишь материал, средство для достижения этой высокой цели – прожить свою жизнь возможно лучше и беззаботнее. Этакий убежденный, отлично осознанный эгоизм, ни на унцию не отягощённый рефлексией и моральными нормами, ставший основой личности. Правда, хватало у Платтера ума, чтобы открыто такие свои взгляды не исповедовать, но Ричард, необыкновенно восприимчивый к особенностям натуры других людей и не по годам сообразительный, раскусил своего нового учителя весьма быстро.
При всём том Ральф Платтер имел одно исключительно полезное, заботливо выращенное и натренированное им свойство характера – чёткий, уверенный практицизм. Умение хорошо понимать то, чего в определённой ситуации можно добиться. И умение выбирать самые простые и надёжные способы достижения желаемого результата.
И вот Ральф Платтер попался в ловушку собственного эгоизма! Такое случается чаще, чем принято думать: когда желания и помыслы людей никак не регулируются нравственным чувством, сознанием, что некоторые вещи делать нельзя, просто потому, что их делать нельзя, это бывает опасно для самих таких людей.
Платтер влюбился в мать Ричарда, в Фатиму. Собственно, слово «влюбиться» здесь подходит плохо. Человек, подобный Ральфу, органически не способен влюбиться, а тем более полюбить кого?нибудь, кроме самого себя. Самый настоящий нарциссизм. То, что испытывал по отношению к хозяйке Стэнфорд?холла Платтер, приходится назвать грубым, но точным словом «похоть». Он именно что возжелал Фатиму, как дорогую и красивую вещь, причём возжелал в полную силу, до головокружения и трясущихся рук. Овладеть этой женщиной стало его целью чуть ли не с первых дней пребывания в поместье графа Стэнфорда.
Вообще говоря, жена графа Уильяма могла вскружить голову кому угодно! Тогда, пять лет назад, когда отец решил дать младшему сыну домашнее образование и выписал Платтера из столицы, Фатиме шёл двадцать девятый год, она находилась в расцвете зрелой женской красоты. Красота эта ещё подчёркивалась её инаковостью, её чуждостью для Англии. Среднего роста, она казалась высокой благодаря соразмерности прекрасной фигуры и царственному благородству осанки. Молодая афганка была гибкой, словно веточка ивы или, скорее, клинок рапиры – её гибкость не оставляла впечатления чего?то слабого и субтильного. Как раз напротив, в ней чувствовалась взрывная сила точной и опасной грации, словно в снежном барсе её родных Парапомизских гор. Эта громадная кошка тоже фантастически красива, а вот обижать её категорически не рекомендуется.
Талия исключительно тонкая, такие называют осиными. На стройной и очень красивой шее гордо сидела небольшая голова, обрамлённая, как венцом, двумя толстыми и тяжёлыми чёрными косами, которые Фатима укладывала в сложную причёску. С чуть смугловатого лица из?под тонких бровей внимательно смотрели большие миндалевидные глаза глубокого карего цвета.
Только вот к тому времени, как Ральф Платтер появился в Стэнфорд?холле, прекрасные глаза Фатимы всё чаще выглядели усталыми, а порой в её взгляде вспыхивал тусклый болотный огонёк подступающего безумия. Нет, тогда, пять лет тому назад, жена графа Стэнфорда была ещё почти психически нормальной, однако приступы тяжёлой тоски и депрессии преследовали молодую женщину с всё возрастающей силой, отравляя её жизнь тяжёлыми душевными муками.
Что же послужило причиной медленного сползания хозяйки Стэнфорд?холла в трясину психической болезни? Трудно сказать… Причин было несколько, и действовали они в комплексе. Сказывался тут и тяжёлый культурный шок: ведь совсем молодая афганка была выдернута из привычной почвы, перенесена в совершенно другие жизненные условия. Обращение Фатимы в новую религию – мало ли что она пошла на это добровольно, ради любимого человека, всё равно тяжело отказываться от веры своих предков! Настороженное и неприязненное отношение соседей по Фламборо?Хед, которые видели в ней чужую. Частое одиночество: граф Уильям не хотел брать Фатиму с собой в Индию и Афганистан, она оставалась в Стэнфорд?холле, в обществе малютки Дика и Питера, старшего сына полковника Стэнфорда, изредка наезжавшего домой из Йорка. А Питер относился к мачехе подчёркнуто недоброжелательно!
Затем граф вернулся домой тяжело израненным, мало того, Уильям Стэнфорд стал чувствовать себя ненужным, ведь всю сознательную жизнь он отдал британской армии, и вот – вынужденная отставка! Конечно же, у него стал резко портиться характер. И каково тогда стало Фатиме? Да уж не намного легче, чем мужу! Дальше дела оборачивались всё хуже: граф Стэнфорд попал в волчью яму наркотической зависимости… Такая беда быстро меняет человека в самую худшую сторону! И всё это происходило на глазах молодой женщины, которая, несмотря ни на что, продолжала любить мужа.
Фатима оставалась истинной дочерью своего народа, гордого, смелого и активного. Чуть ли не больше всего леди Стэнфорд изводила мысль о том, что она не может ничего поделать, обречена плыть по течению, точно зная – впереди смертельно опасный водоворот, омут, из которого не выбраться. Её рассудок не желал смиряться с этим, бунтовал, грозил вырваться из подчинения…
Самое печальное – отставной полковник, слишком погружённый в себя и свои беды, не видел грозных изменений, происходящих с психикой жены, здесь его приятель Генри Лайонелл был совершенно прав в своих печальных размышлениях.
Что же оставалось Фатиме? За что могла ухватиться молодая женщина в этой жизни, которая становилась всё более и более чуждой? За любовь к сыну, маленькому Ричарду? О да, бесспорно. Беда, однако, заключалась в том, что к этой любви примешивалась громадная доля беспокойства за будущее своего ребёнка, за то, как сложится судьба младшего сына графа Стэнфорда после смерти отца. Ведь Фатима прекрасно понимала, что старые раны и пагубное пристрастие к морфию вскоре сведут её мужа в могилу. Что тогда будет с Ричардом? С ней самой?
Ничего хорошего ожидать не приходилось: Питер, будущий наследник графа Стэнфорда, от всей души ненавидел свою мачеху и сводного брата.
Впрочем, только ли ненавидел? Что касается Дика, то да, там была только ненависть Питера пополам с презрением. Но вот в том, что касалось отношения Питера к ней самой… Всё было куда сложнее и хуже.
Эта сложность ещё одним тяжёлым камнем ложилась на душу Фатимы, тянула её вниз, в тёмные придонные воды психического расстройства.
Нет, поначалу отношения пасынка с молодой мачехой складывались совершенно предсказуемо и шаблонно, хоть и весьма печально, никаких неожиданных поворотов и подводных камней в них не было. Когда граф Уильям привёз семнадцатилетнюю афганку в Стэнфорд?холл, Питеру едва исполнилось десять лет. Пятью годами раньше умерла мать Питера, Мэри. Трудно было в такой ситуации ожидать, что мальчик с теплотой и добром посмотрит на Фатиму! Питер, конечно же, не успел забыть свою мать, с нежностью и грустью вспоминал о ней, и вот – такой сюрприз! Отец привозит неизвестно откуда неизвестно кого! И эта «неизвестно кто» станет теперь законной женой отца и должна заменить ему умершую мать?! А она, эта афганка, даже по?английски толком двух слов связать не умеет!
Ясно, что Питер Стэнфорд возненавидел новую отцовскую жену со всем пылом своей мальчишеской души, с яростью маленького зверёныша. Все попытки графа Уильяма и самой Фатимы как?то сгладить ситуацию, выправить положение приводили лишь к прямо противоположным результатам.
Вскоре граф покинул Стэнфорд?холл, вернувшись в действующую армию, в Белуджистан, а так и не примирившийся с мачехой Питер возвратился в Йорк, в частный колледж Энтони Прайса.
Прошло семь лет. Вышедший в отставку после тяжёлого ранения граф Уильям вновь оказался дома и с колоссальным трудом выкарабкивался на поверхность жизни, привыкая к новым реалиям. Питер, к тому времени закончивший курс обучения в колледже Прайса, также вернулся в Стэнфорд?холл. Он оказался в сложном и неопределённом положении: сейчас и речи быть не могло о продолжении образования, о дальнейшей карьере. Отец с трудом мог передвигаться даже по дому, так что заботы о небольшом, но требующем неустанного внимания хозяйстве Стэнфордов во многом легли на плечи Питера. Фатима здесь не могла помочь графу и его старшему сыну – скажем, арендаторы из Фламборо?Хед попросту не считали её за хозяйку!
Словом, Питер остался в Стэнфорд?холле на неопределённый срок. Вот тут и начал завязываться тугой узелок, в котором, говоря откровенно, тоже не было ничего неожиданного.
Питеру исполнилось семнадцать лет, столько же, сколько было Фатиме, когда он впервые увидел новую жену отца. А Фатиме – двадцать четыре… Почти ровесники.
Десятилетний мальчик и семнадцатилетний юноша, который из этого мальчика вырос, – совершенно разные люди! У них разная психология, разные жизненные ценности и ориентиры, разный взгляд на мир и окружающих.
Вот Питер и посмотрел на Фатиму этим новым взглядом. Дальнейшее понятно, не так ли? Произошло неизбежное: Питер до безумия влюбился в жену своего отца, леди Стэнфорд.
Это легко объяснимо: в таком возрасте состояние влюблённости для юноши естественно, как дыхание. Так уж устроена природа, что семнадцатилетний юноша просто не может не влюбиться в кого?нибудь, бывает, что влюбляются в статуи, картины, литературных героинь… Здесь, в Стэнфорд?холле и в Фламборо?Хед, у Питера не было никаких подходящих объектов для пылкой юношеской страсти. А в то же время он ежедневно по много раз встречался со своей молодой мачехой…
Фатима же к тому времени, после рождения Дика, стала и вовсе ослепительной красавицей.
Питера Стэнфорда стоит пожалеть: молодой парень попал в железную ловушку инстинкта, в глухую зависимость, он утратил свободу! В подобную ловушку и не такие, как он, попадались… Преодолеть себя, вырваться из оков безжалостного инстинкта и вновь обрести свободу безумно трудно, для этого необходим особый склад характера и сила духа, помноженные на то, что мы называем культурой. Без этой спасительной брони – очень, кстати, тонкой! – человек легко становится добычей тёмных инстинктивных позывов, скатывается до состояния животного.
«Человек рождается свободным, а умирает в оковах». Нет ничего более ложного, чем это знаменитое утверждение.
Руссо хотел сказать, что свобода есть природное, естественное состояние человека, которое он теряет с цивилизацией. В действительности условия природной, органической жизни вовсе не дают оснований для свободы.
Свобода есть поздний и тонкий цветок культуры. Это нисколько не уменьшает её ценности. Не только потому, что самое драгоценное – редко и хрупко. Человек становится вполне человеком только в процессе культуры, и лишь в ней, на её вершинах находят своё выражение его высокие стремления и возможности. В том числе стремление и способность любить. Или остановиться, воздержаться от всякого проявления своего чувства, если оно запретно, греховно в истинном значении этого слова.
Ни требуемого уровня культуры, ни должной силы духа у Питера Стэнфорда не было, и это, скорее, его беда, а не вина! Он не мог остановиться, его неудержимо влекло к Фатиме, словно бы тащило на цепи некой непреодолимой и недоброй силой.
Но как же непохожа была вспыхнувшая в сердце Питера мрачная страсть на обычно светлое и чистое чувство юношеской влюблённости! Ведь та нотка ненависти, которую он изначально испытывал к Фатиме, продолжала властно звучать в нём. Да к тому же он чувствовал, что становится предателем своей покойной матери и тяжело искалеченного отца: ведь его влекло не к кому?нибудь, а к отцовской жене! Всё это не могло не отравлять, не уродовать того, что он испытывал.
Нельзя сказать, чтобы Питер не пытался бороться с самим собой, сопротивляться той злой и бездушной силе, которая всё больше овладевала им. Пытался. Но безуспешно.
А что же Фатима? Самое интересное заключалось в том, что сперва она даже не заметила, что стала объектом пристального, жадного внимания своего пасынка, причём было это внимание окрашено во вполне определённые тона. Слишком другими вещами были в то время заняты мысли молодой женщины: маленьким сынишкой, тяжелобольным мужем, печалью о том, как нескладно сложилась её судьба, обещавшая поначалу столько радости и счастья. Вскоре, однако, не замечать стало невозможно.
Некоторое время Питер ограничивался тем, что бросал на леди Стэнфорд жадные взгляды, старался больше бывать в её обществе, слышать голос Фатимы, словно бы ненароком прикоснуться к её руке. Но надолго такой скромности Питеру не хватило. Как и отец, он был человеком резким, порывистым, не привыкшим сдерживать себя. Да и кто мастер сдерживать себя в семнадцать лет? Единицы, к которым Питер не относился. И однажды, поздним ноябрьским вечером – ноябрь был каким?то проклятым месяцем для Стэнфордов! – он дал себе волю.
Произошла безобразная сцена.
Нет, Питер не специально поджидал её в полутёмном коридоре второго этажа, случайно получилось так, что они шли навстречу друг другу. У него, как и всегда, перехватило дыхание, когда он увидел широко распахнутые глаза Фатимы, её высокий лоб, нитку кроваво?красных кораллов на точёной шее. Лёгкий ветерок от проходящей мимо женщины донёс до его ноздрей тонкий запах жасмина – любимых духов леди Стэнфорд.
Она была уже шагах в пяти за спиной Питера, когда он, не в силах сдержать безотчётный порыв, оглянулся ей вслед.
Великие Небеса! До чего же изящной была её удаляющаяся фигура, словно подчёркнутая светло?зелёным домашним платьем! Как призывно, как маняще сверкнула в тускловатом свете настенных ламп корона её чёрных волос над белоснежным столбиком шеи! И этот сводящий с ума аромат жасмина, который так и держится в воздухе…
Вот тут кровь ударила Питеру в голову, в глазах потемнело, и его мгновенно захлестнула мутная волна до боли нестерпимого вожделения. В три прыжка он настиг ничего не подозревавшую Фатиму, крепко обхватил обеими руками за талию, прижался губами к её открытой шее возле затылка, туда, где пульсировала чуть заметная под кожей тоненькая синяя жилка. Поцеловал раз, другой, третий… Питеру казалось, что время замедлило свой бег, почти остановилось, что каждый поцелуй длится часами. Ещё никогда в своей жизни он не испытывал такого острого, всепоглощающего наслаждения.
– Будь моей! – хрипло зашептал он в ухо растерявшейся на несколько мгновений Фатиме. – Я всё для тебя сделаю, всё, что угодно, только… Только будь моей!
Вот ведь интересно: хоть бы, приличия ради, слово «люблю» произнёс, так ведь нет! И всё правильно: в такие мгновения люди не могут лгать, а назвать то, что он сейчас испытывал к мачехе, словом «любовь» было совершенно немыслимым, и на глубинном, подсознательном уровне Питер это прекрасно понимал.
Но тут Фатима опомнилась. Одним неуловимо быстрым, как у атакующей кобры её родных гор, но мощным движением она разорвала кольцо его рук, обернулась к нему лицом, резко оттолкнула. Её глаза на мгновение точно полыхнули изнутри тёмным янтарём. Взгляд Фатимы, сперва несказанно удивлённый, тотчас наполнился столь же неописуемым презрением.
Да, никогда Питеру Стэнфорду не забыть этого взгляда! Человек ещё может как?то примириться с тем, что его ненавидят, но никогда с тем, что презирают. На такое способны разве что святые.
– Ты что же делаешь, мерзавец? – тихо спросила она, но таким голосом, который хлестнул Питера почище любого крика. – Ты как посмел, дрянной мальчишка?! Взбесившийся щенок!
О, к этому моменту Фатима уже в совершенстве владела английским языком! Ей не составило труда выразить всё своё презрение и негодование.
Но Питеру уже было наплевать на всё. Последняя тоненькая запруда в его мозгу, которая отделяет человека от троглодита, обитателя пещер, с треском лопнула. Он хотел эту женщину! Хотел именно как самку. Здесь, сейчас, немедленно! И ничто его не остановит, он любой ценой добьётся своего. И если для этого потребуется насилие… Что ж, он пойдёт на насилие. И плевать на то, что будет потом и чем придётся расплачиваться.
Питер протянул вперёд руки, пытаясь вновь схватить женщину.
Очень зря он так поступил. Потому что относительно «ничто не остановит» старший сынок графа Уильяма серьёзнейшим образом заблуждался! Есть такая хорошая испанская поговорка: «Одна из первых мер предосторожности – соизмерять желанья и возможности»… Если не следовать этому простенькому правилу, то весьма плачевные результаты могут воспоследовать.
Уж кем Фатима, бесспорно, не была, так это беззащитной овечкой. Ещё до своих семнадцати лет, когда майор Уильям Стэнфорд спас молодую пуштунскую аристократку от участи куда худшей, чем смерть, ей пришлось пройти суровую школу выживания. Кстати сказать, спасать её довелось в ходе умиротворяющего рейда британской конницы по приграничному району, охваченному жесточайшей резнёй меж двух афганских кланов. Элитные части, гордость британской колониальной армии, они насаждали закон Империи там, где отродясь не желали знать никаких законов, кроме закона силы и крови. Межклановая война полыхала уже без малого три года, то затухая, то вновь охватывая истребительным пожаром многострадальный Парапомиз. Легко догадаться, что Фатима, ведущая свой род от легендарного хромца Тимура, занимала в одном из враждующих кланов не последнее место. И дралась с отчаянной храбростью: там, в Парапомизе, совсем не редкость, когда женщина сражается наравне с мужчинами. Даже такая молодая. Ей не повезло, она почти попала в плен к своим злейшим врагам, и лучше не думать о том, что могло её там ожидать. Но тут на авансцене появились два эскадрона британской тяжёлой кавалерии, которые вёл тридцатипятилетний майор Стэнфорд. Ох, какое замечательное получилось «умиротворение», не меньше полусотни порубленных в лапшу трупов за собой оставили. И как?то между делом, заодно, спасли связанную и сильно избитую молодую афганку, девушку изумительной красоты. Дальнейшее нетрудно домыслить…
Всё это, конечно, дела прошлые, и откуда Питеру было о них знать, ведь граф не любил особо распространяться о начале их романа с Фатимой. Если бы Питер знал, то, может быть, призадумался – стоит ли внаглую лезть к даме с таким боевым прошлым. Хотя… Навряд ли! Сейчас мозги у него были начисто отключены.
Так вот, леди Стэнфорд не стала испуганно звать на помощь, пытаться убежать от неожиданно свалившегося, как снег на голову, ополоумевшего поклонника или хотя бы уклониться от захвата. Как раз напротив! Фатима сделала короткий шажок навстречу Питеру и, словно бы даже нежно, прижалась к его груди. Затем последовало неуловимо быстрое и точное движение – правое колено Фатимы врезалось в пах незадачливого искателя амурных приключений. Благо свободный покрой домашнего платья легко позволил ей проделать этот трюк.
Между ног у Питера словно что?то взорвалось. Он со свистом втянул в себя воздух, сдавленно охнул. Невыносимая боль словно вытащила все кости из его тела, сделала его мягким, как тряпичная кукла. Глаза Питера вылезли из орбит, и он тяжело рухнул к ногам своей мачехи. Но сознания всё же не потерял: Фатима грамотно рассчитала силу удара, ей хотелось, чтобы Питер услышал напоследок пару фраз. Дело надо было довести до конца, чтобы хоть как?то обезопасить себя на будущее.
Она склонилась над поверженным Питером:
– Если ты, негодяй, ещё раз попытаешься вытворить что?либо подобное, то я просто сломаю тебе руку. Или обе руки.
Голос Фатимы был полон спокойного ледяного презрения, и Питер сразу же понял: это не пустая угроза. Сломает.
Старший сын графа Стэнфорда издал сдавленное рычание, достойное Минотавра по накалу прозвучавшей в нём злобы. Он с трудом приподнял голову, поднял затуманенный слезами взгляд на Фатиму.
– Я… Я ненавижу тебя! – слова с трудом вырывались изо рта, всё ещё сведённого судорогой боли. – Чтоб ты сдохла, гадина! Ты и твоё отродье… Я доберусь до тебя! Ты… ты пожалеешь, что родилась на свет!
Вот на такой мажорной ноте закончилась эта любовная сцена.
Перед хозяйкой Стэнфорд?холла вставал, однако, очень непростой вопрос: что делать дальше, как реагировать на этот дикий поступок Питера? Рассказать всё мужу? А он поверит ей? Не решит ли граф Уильям, что его жена из каких?то соображений желает очернить пасынка в отцовских глазах? Питер?то, само собой, будет всё отрицать, так что её слово против его слова! Если Питер достаточно умён, точнее хитёр, то он может попытаться перевернуть всё с ног на голову. Дескать, это развратная мачеха домогалась его, он решительно отказался, а она, чтобы отомстить… Ведь сколько имеется примеров, когда женщины подобным вот образом оговаривали чем?то досадивших им мужчин! Вон, хоть Ветхий Завет вспомнить, Книгу Бытие – историю Иосифа Прекрасного и жены египетского вельможи Потифара. Или трагедию дона Альфонсо, короля Кастилии времён Реконкисты и его супруги Изабеллы. Один к одному получается! Граф сейчас ещё толком не оправился от тяжёлых ран, как мужчина он практически несостоятелен и очень тяжело переживает это. Ведь может подумать, что молодой жене подобная ситуация стала нестерпима, вот она и попыталась разрешить её простейшим способом.
Нет, не может он так подумать! Фатима любила мужа и неплохо знала его. Почти наверняка граф поверит именно ей, сердце подсказывало ей это. Только вот что из этого выйдет?
Ничего хорошего. Последствия могут оказаться самыми ужасными.
Ещё раз: граф Стэнфорд тяжело болен, и года не прошло с того момента, как две афганские пули и перелом ноги поставили его буквально на грань жизни и смерти. Так вот, не загонит ли его известие о столь вероломном и подлом поведении собственного сына в ту самую могилу, которую он чудом миновал? Не убьёт ли его такое тяжёлое потрясение?
«Но хорошо, – продолжала рассуждать сама с собой Фатима, – допустим, что муж выдержит этот удар. Он сильный человек, так что, скорее всего, выдержит. И что Уильяму делать дальше? Он ведь не только сильный, он очень резкий, импульсивный человек с взрывным темпераментом. Убить, конечно, не убьёт. Прежде всего, я не позволю. Только… И не простит, и не сумеет сделать вид, что ничего не случилось. Разве он сможет жить с Питером под одной крышей после того, что узнает про него? Нет, не сможет!»
В подобных прогнозах леди Стэнфорд была абсолютно права. Граф прежде всего военный! Для людей его склада и воспитания в плоть и кровь въедается нехитрая максима: «Компромисс всегда обходится дороже, чем любая из альтернатив». Всё верно, на войне это действительно так. Когда имеешь дело с врагом и либо ты его, либо он тебя. Только вот в политике и в семейной жизни всё с точностью до наоборот! Поэтому?то настоящие, хорошие военные редко бывают хорошими же политиками, да и в семейной жизни обычно несчастливы. Разве что надо быть Юлием Цезарем или Наполеоном, но речь?то не о гениях!
Нет, на компромисс граф Стэнфорд не пойдёт, Питера не простит, а значит, выгонит его из Стэнфорд?холла. И какой же, на радость всем сплетникам Фламборо?Хед, разразится грандиозный скандал!..
«И опять же, – печально размышляла она, – Питер не станет молчать. Он постарается привлечь общественное мнение на свою сторону, и, несомненно, ему это удастся. Что будут думать все эти напыщенные сквайры из Фламборо?Хед? Что наглая чужеземка подчинила стареющего и больного графа своей воле, дьявольской интригой стравила отца и сына. И мотив такой гадости сразу же отыщется. Хотела, чтобы граф Стэнфорд выгнал старшего сына, лишил его наследства. Тогда и титул, и Стэнфорд?холл достанутся младшему, Ричарду. То есть сыну интриганки. Соседи и без того косятся на меня, а что же начнётся тогда? И каково будет мужу? Даже сейчас они не могут простить Уильяму женитьбы на мне, а если дело дойдёт до изгнания Питера… Продать Стэнфорд?холл, переехать в Шеффилд, Ноттингем или даже Лондон? Уильяму будет безумно трудно расстаться с родовым гнездом. Да в любом случае это не выход: молва догонит всюду».
Всё?таки удивительно умной оказалась эта молодая женщина! Попав в чужую страну, в чужую среду, она за каких?то семь лет прекрасно разобралась в нравах викторианской Англии, сделала совершенно правильные выводы. Это, кстати, доказывает, что тогда, в семьдесят девятом году, с её рассудком всё было более чем в порядке, всем бы уметь столь точно и ясно мыслить.
О, конечно же, на самом?то деле Фатима была ни в чём не виновата «перед Богом и людьми» и ни на секунду себя виноватой не считала. Она не давала пасынку ни малейших поводов для столь скотского поведения. Но Бог, как известно, не слишком торопится вынести свой вердикт, что до людей…
Беда в том, что люди очень часто не желают верить в то, что было на самом деле. Справедливо и обратное: зачастую они охотно верят в то, чего на самом деле не было. Неизвестно, что хуже – первое или второе.
Словом, проанализировав ситуацию, Фатима приняла решение: ничего о случившемся мужу не говорить. Но она прекрасно понимала, что теперь ненависть Питера к ней и её маленькому сыну возрастёт многократно. Питер тяжело оскорбил её, но ведь с его?то точки зрения это она нанесла ему оскорбление, ответив жёстким, даже жестоким отказом на его домогательства. Мало того – она унизила его. Такое не прощается и не забывается. И всё же Фатима решила, что у неё хватит сил, чтобы выносить тяжкий груз его ненависти. Да, она была храброй и умной женщиной, но время показало, что свои душевные силы она всё же переоценила.
Да и каково изо дня в день, год за годом встречаться под одним кровом с человеком, который ненавидит тебя до темноты в глазах, который желает тебе зла и погибели? Это ведь страшная психологическая нагрузка, и привыкнуть к такому невозможно. Всё равно что жить бок о бок с гремучей змеёй, которая в любой момент может ужалить, и не иметь возможности защитить себя, раздавить гадину. Это бы ещё ничего, у леди Стэнфорд был, как отмечалось, сильный характер. Но если при всём том знать наверняка, что наступит момент, когда змея непременно ужалит, что такой момент не за горами! В самом деле: стоит графу Уильяму умереть, а Питеру вступить в права наследства, и…
Стальные тросы нужно иметь вместо нервов, чтобы такое выдерживать.
…На следующее утро после безобразной сцены в коридоре Фатима встретилась с Питером за первым утренним завтраком. В Стэнфорд?холле старались придерживаться старинных йоркширских традиций, завтракали дважды…
Они сидели за столом втроём: граф Уильям, его жена и его старший сын. За последние полтора месяца здоровье графа несколько улучшилось, он уже мог с трудом, но самостоятельно передвигаться по дому. Четырёхлетний Дикки ещё досматривал последние сны.
Графа с самого раннего утра мучила стреляющая боль в искалеченной ноге. Он держался подчёркнуто прямо, по его внешнему виду нельзя было догадаться, как он страдает сейчас. Лишь мелкий бисер пота на высоком лбу Уильяма Стэнфорда говорил о том, что ему здорово не по себе, что к завтраку он вышел лишь для того, чтобы доказать себе – я могу, я не беспомощный калека и моя сила воли при мне!
Леди Стэнфорд выглядела просто прекрасно, она чем?то даже напоминала Муруганну – богиню вечной юности индуистского пантеона. Та же безмятежная улыбка, те же классически правильные черты лица, удивительной красоты руки, редкостное изящество каждого движения. Никто бы не догадался, что Фатима смогла заснуть лишь за час перед поздним ноябрьским рассветом, что за эту ночь она передумала немало горьких дум и приняла важное решение.
Зато Питер, сидевший напротив отца… Такие физиономии увидишь разве что у типов, страдающих жесточайшим похмельем. Бледное, как извёстка, лицо, покрасневшие глаза с набрякшими веками, под глазами – синеватые полукружья. Пересохшие губы, которые он постоянно нервно облизывал, не сознавая этого. Вот тут точно видно: ночь была бессонной… И сердце в груди дрожит, как овечий хвостик.
Есть от чего дрожать. Питера сейчас более всего волновал один?единственный вопрос. Остальные подождут.
Кинув быстрый взгляд на отца и мачеху, Питер облегчённо вздохнул, по выражению их лиц он понял: Фатима ничего не сказала отцу. Значит, теперь и не скажет! Это хорошо, самая главная опасность миновала, а с этой тварью он рано или поздно посчитается. Нет, мощная тяга к этой женщине, замешенная на вожделении, никуда не делась, она по?прежнему жгла Питера изнутри, точно раскалённые угли. Но теперь это чувство быстро перерождалось, мучительно переплавлялось в иную, ещё более сильную страсть. И то, что тяга всё же оставалась, делало эту страсть ещё сильнее и острее. О! Теперь это была не истеричная детская ненависть осиротевшего обиженного зверёныша, приправленная презрением к «туземке». После вчерашнего вечера, после того, как он, корчась от боли, ползал у её ног, после того, как он поймал полный ледяного презрения взгляд, всё стало куда серьёзнее!
Теперь Питер ненавидел Фатиму осознанно, как только может слабый мужчина ненавидеть женщину, сильную духом и телом, женщину, одержавшую над ним победу, оскорбившую и унизившую его. Ненавидел до головной боли и рвотных спазм. Он не мог спокойно смотреть в это лицо, отводил глаза, чтобы не выдать своих чувств.
Фатима повернула к нему спокойное, равнодушное лицо, сказала несколько слов, смысла которых он не понял: шумело в ушах. Она даже улыбнулась ему холодной и чуть насмешливой улыбкой.
Надо держать себя в руках! Нельзя, чтобы отец заметил резкие перемены в его поведении и настроении. Да и проклятой афганской ведьме незачем подслащивать победу! Это временная победа, посмотрим, кто посмеётся последним, кто и перед кем станет ползать на брюхе в конце концов.
«Именно, что ведьма, – подумал он, что есть сил стискивая зубы. – Как же я сразу не догадался?! Приворожила меня, чтобы затем отшвырнуть и растоптать. Вот таких и сжигали в благословенные старые времена. С каким бы удовольствием я в её костёр дровишек бы подбросил!..»
Нужно было что?то сказать ей в ответ. Всё равно что.
Голос Питера то и дело срывался на хрип от ненависти, которую он безуспешно пытался скрыть под внешне вежливыми фразами. В его налитых кровью глазах клубился мрак.
Граф Уильям, терзаемый жестокой болью и прикладывающий титанические усилия для того, чтобы близкие этого не видели, не заметил в поведении сына ничего особенного. Фатима заметила. Ещё бы!
«Теперь мне с этим жить, – потрясённо думала она. – Чем же такое может закончиться?!»
«Твой конец будет ужасен. Но его – ещё хуже. Ты умрёшь раньше. Но он ненадолго переживёт тебя».
Последние слова сами собой промелькнули у неё в голове. Она вздрогнула, чуть было не выронила чашку с чаем из рук. Что такое?! Чей это холодный металлический голос она сейчас услышала? Раньше с ней никогда ничего подобного не происходило, никаких чужих голосов… Надо прогнать его поскорее! Что сказал голос? Похоже на пророчество. Страшное пророчество – лучше бы оно никогда не сбывалось.
Права ли оказалась леди Стэнфорд, приняв решение скрыть от мужа безобразный поступок Питера? Трудно однозначно ответить на этот вопрос. Порой лучше сразу вскрыть нарыв, пусть даже смертельно рискуя жизнью больного, нежели оставить «всё как есть». Одно можно утверждать наверняка: реши Фатима поступить по?другому, жизнь в Стэнфорд?холле пошла бы по совсем иному руслу и трагедии девяностого года не случилось бы. И, самое главное, Фатима, скорее всего, сохранила бы душевное здоровье и не попала бы под жутковатое влияние Ральфа Платтера. Правда, в таком случае и главного героя этого повествования, Ричарда Стэнфорда, ожидала бы совсем иная судьба.
За эти одиннадцать лет никто так и не узнал о глубинных истинных причинах лютой ненависти старшего сына графа к леди Стэнфорд. Разве что умный, хитрый и превосходно знающий человеческую натуру Генри Лайонелл имел на этот счёт свои предположения, но он молчал, понимая, что любое неосторожное слово, сказанное им своему приятелю Уильяму, может привести к неисчислимым бедам.
Своему сыну, когда мальчик уже вернулся в Стэнфорд?холл из Йорка, Фатима и словом не обмолвилась о гадком эпизоде шестилетней давности, о подлинных причинах исступлённой ненависти его старшего брата к ней самой и к Ричарду. Но Дик, редкостно наблюдательный и наделённый потрясающей интуицией, всё же смутно догадывался: что?то тут не так! Он не раз и не два перехватывал взгляды Питера на мать, наполненные злобной ненавистью с оттенком непонятной Дику тоски. И к ноябрю девяностого года, к моменту, когда перетянутая струна лопнула, погрузив Стэнфорд?холл в горе и ужас, Ричард вплотную приблизился к разгадке.
Это сыграло ведущую роль в том, что часть странного пророчества, внезапно прозвучавшего в голове Фатимы за утренним завтраком, та часть, что касалась судьбы Питера, сбылась на все сто процентов.
Старший сын графа Уильяма, Питер Стэнфорд умер страшной смертью.
Глава 4
Конечно же, Ральф Платтер, который хотел получить от леди Стэнфорд точно то же самое, что и Питер, подошёл к делу совсем другим образом. Это понятно: домашний учитель Ричарда не был взбалмошным подростком, одуревшим от переизбытка половых гормонов, кто?кто, а Платтер привык продумывать свои пути к цели до мельчайших деталей и не любил рисковать. Ни на какую взаимность со стороны Фатимы он не рассчитывал: ему хватило первых двух месяцев, проведённых в Стэнфорд?холле, чтобы понять: эта полубезумная красавица, несмотря ни на что, любит своего мужа, старого графа, и навряд ли собирается изменять ему. Дальнейшие два года лишь убедили его в этом. Да, с каждым месяцем характер графа Уильяма становился всё тяжелее, да, под влиянием всё увеличивающихся доз морфия его личность деградировала, да, его физическое состояние соответствовало семидесятилетнему старику. Даже сквозь дымку своей душевной болезни – а та тоже прогрессировала с каждым месяцем! – его супруга видела всё это. Но тем не менее классический прямой путь соблазнителя был для Платтера закрыт.
И не надо! Так даже интереснее. В холодной похоти Платтера, направленной на хозяйку Стэнфорд?холла, было что?то схожее с отношением охотника к редкой дичи. Трофей ведь тем ценнее, чем труднее им овладеть! К тому же Ральф Платтер не любил торопиться, было в нём что?то от леденящей терпеливости удава, подстерегающего свою жертву. Да и предвкушение удовольствия, медленный и продуманный путь к нему разве не самоценны?
Понятно, что мысль о физическом насилии даже не приходила Платтеру в голову. Это было бы ещё глупее и пошлее, чем дарить леди Стэнфорд букеты, писать ей сонеты, распевать серенады, падать перед ней на колени где?нибудь в саду у розового куста при луне и всё прочее…
Платтер задумал нечто куда более подлое. Тоже насилие. Но психическое! Нужно заполучить душу этой женщины, тогда с тем, чтобы заполучить её тело, не будет никаких проблем. Что же для этого необходимо? Время и Случай, совместное действие которых, как считал Ральф Платтер, недалёкие людишки называют Судьбой, а совсем полные дураки – Божественным Промыслом.
Временем он располагал: обучение Ричарда должно было продлиться никак не меньше пяти лет. Случай же представился изначально. Заключался он в пограничном психическом статусе несчастной Фатимы.
Платтер был не только отличным естественником, эрудированным и с глубокими знаниями, но и весьма неплохим практическим психологом. До чего же хочется иногда спросить у природы: почему она так часто наделяет талантами заведомых мерзавцев? Только ответа не дождёшься…
То, что леди Стэнфорд душевно нездорова (а вскоре будет окончательно психически больна!), Платтер тоже уразумел очень быстро. Кстати, в глазах Ральфа это отнюдь не являлось её недостатком, не снижало ценности будущего «охотничьего трофея». Как раз наоборот, это делало его влечение особенно пикантным, словно добавляло изысканную пряную приправу к приевшемуся блюду. Кстати сказать, в своих воззрениях на человеческую психику Платтер, сам того не зная, предвосхитил учение так называемой «Венской школы». Одним?двумя десятилетиями позже, на рубеже веков такие её адепты и всемирные знаменитости, как ученики Фрейда Альфред Адлер и Отто Рэнк, утверждали, что жизнь – всего лишь компромисс между тем, что нам хочется, и тем, что мы получаем, и в этой сделке всегда участвует страх. А мы лжём – все до единого, – чтобы справиться с этим страхом. Лжём о мире и о самих себе. Вся жизнь основана на фальши, и лишь её степень отличает здорового человека от сумасшедшего. Чего уж там, весьма жизнеутверждающий и возвышенный подход к вопросу. Платтер исповедовал очень сходные взгляды, так что займись он подобными проблемами более серьёзно и профессионально, глядишь, стал бы одним из родоначальников и столпов психоанализа. Есть такая забавная разновидность шаманства пополам с шарлатанством…
Самое интересное заключалось в том, что холодный аналитик и жёсткий прагматик Платтер не заметил, прозевал тот момент, когда зловещая атмосфера Стэнфорд?холла подействовала на него самого! Он ведь тоже по?своему сошёл с ума, приобрёл свою мономанию. Да, он отдавал себе отчёт в своих поступках, рассудок его был трезв, действия тщательно продуманы и просчитаны на несколько ходов вперёд, но всё равно его уже нельзя было назвать психически здоровым человеком. Уже через год?полтора желание во что бы то ни стало завладеть душой и телом леди Стэнфорд превратилось для Ральфа Платтера в самую настоящую навязчивую идею. Как добиться этого чисто технически? Самое бы лучшее – стать для неё чем?то вроде личного домашнего психотерапевта?консультанта. А почему бы и нет? Раз уж он домашний учитель её сына… Лишь бы против такой ненавязчивой психотерапевтической помощи, у которой то громадное преимущество, что исключена огласка, обеспечивается полная приватность, не возражал муж, граф Стэнфорд, его наниматель. Для этого необходимо понравиться графу, а затем, как бы между прочим, намекнуть ему на некоторые странности в поведении его жены и предложить свои услуги даже не в качестве врача, а так… консультанта. Ему ведь важна суть, а не название.
А суть позволит ему, не слишком торопясь, подобрать ключик к личности Фатимы! Ключик, а не грубую отмычку. И вот тогда он войдёт, оглядится по сторонам, будет решать, что следует выбросить, что оставить, а что переделать.
Отношения с обитателями Стэнфорд?холла у Платтера складывались своеобразно, однако так, что Ральфа, в принципе, устраивали. Они не создавали серьёзных проблем, это ли не главное?!
Это только дураки «решают возникшие проблемы». Умные люди ведут себя так, что никаких «проблем» у них не возникает. А уж если всё?таки возникают, то у других. Скажем, у Питера, который сразу проникся к учителю младшего брата глухой неприязнью, разговаривал с Платтером сквозь зубы и при одном виде Ральфа морщился, как от невыносимой кислятины. Платтер относился к Питеру с холодным и чуть высокомерным презрением, практически не замечал его. Дальнейшие события, кстати, показали, что зря Ральф начисто игнорировал старшего сына графа, относился к Питеру словно к пустому месту. Это стало одной из роковых ошибок учителя.
Почему Питер и Ральф, ровесники (Платтер был двумя годами старше), сразу стали так взаимно антипатичны? Наверное, одноимённые заряды отталкиваются не только в физике, а два этих человека глубинно очень походили друг на друга, хотя Платтер, несомненно, был куда умнее и воспитаннее. А быть может, было у обоих смутное предчувствие, что предстоит им столкнуться на тонком мостике, что висит над бездонной пропастью. А затем наперегонки бежать по той дорожке, по которой обратно никто не возвращался.
Была ведь и ещё одна причина, по которой Ральф смотрел на Питера Стэнфорда с пренебрежением и лёгкой брезгливостью, не принимал его всерьёз. Платтер всегда презирал тех, кто сознательно оглупляет и одурманивает себя, разрушает своё тело и свой мозг. Он не выносил пьянства и пьяниц, старался держаться от таких подальше. Сам Ральф совершенно не употреблял алкоголя. А вот Питер ко времени появления Ральфа в Стэнфорд?холле стремительно спивался, и если не стал ещё законченным алкоголиком, то был недалёк от этого. Пил старший сын графа почти ежедневно, зачастую по бутылке и более «Катти Сарк» или чего?то столь же крепкого, и к вечеру обычно плохо держался на ногах. Бывали у него и недельные запои, когда Питер целыми днями не выходил из своей комнаты.
Это началось лет пять назад, примерно через год после достославного «любовного свидания» в коридоре второго этажа.
Люди привыкают ко всему, но Питер не мог привыкнуть кое к каким вещам…
И вдруг он почти случайно обнаружил, что те угли, которые жгут его изнутри, ту жутковатую смесь из ненависти, оскорблённого достоинства и неудержимого влечения, которая колыхалась в нём, подступая к самому горлу, словом, весь этот ужас можно на время заглушить и загасить обыкновенным виски. Вот он и начал заглушать, всё чаще и чаще.
Граф пытался воспрепятствовать ему, но тщетно. Да и не было уже у графа Уильяма достаточных духовных сил для серьёзного противодействия.
Почему люди пьют? Да чтобы придать какую?то сносность существованию, чтобы разбавить спиртным чёрную меланхолию до хотя бы серого цвета. Чтобы, пусть на время, защититься от злобной абсурдности нашего мира. Чтобы не дать своей душе умереть от тяжёлой раны.
Когда душе так больно, то хорошо и такое лекарство. Всё лучше, чем в петлю лезть. Может быть и так. Только ведь алкоголизм похож на хищного зверя, редко кому удаётся приручить его, и никому не удаётся приручить до конца…
А как же смотрела на Ральфа Платтера леди Стэнфорд? Кем он был в её глазах?
Что ж, поначалу Фатима отнеслась к учителю своего сына равнодушно?приветливо. Причём скорее первое, чем второе. Но уже менее чем через год она стала нуждаться в Платтере сильнее и сильнее. Только этот человек мог как?то помочь ей справляться с всё учащавшимися приступами лютой депрессии, когда её начинали посещать мысли о самоубийстве. Или, что ещё хуже, короткими периодами истерического возбуждения. В такие периоды она почти переставала помнить себя, ей постоянно мерещились какие?то жуткие рожи, от которых хотелось то бежать на край света, то яростно сражаться с ними. Бывало и так, что приступ словно бы перебрасывал несчастную женщину на пятнадцать лет назад, в разорённый, истекающий кровью Парапомиз. Исчезали куда?то Англия, Йоркшир, Стэнфорд?холл, муж, сын… Снова вокруг враги, снова её берут в плен, чтобы подвергнуть чудовищным мучениям и издевательствам. Мир становился колючим и нагим, состоящим из острых углов и ломаных линий, болезненно ярким.
Очень жутко сходить с ума, понимая, что с тобой происходит. А Фатима понимала, и это только усиливало её душевные муки, расшатывало без того подорванную психику, толкало за черту. Как же яростно она хотела самостоятельно справиться с подступающим безумием, скрутить его, преодолеть!
Нет, не получалось.
И тут появлялся Ральф Платтер, с какими?то порошками и тинктурами, спокойно глядел своими светло?серыми глазами в её глаза, говорил что?то умиротворяющее… Ей становилось лучше. Точно после лютого мороза она вдруг попадала под тёплое одеяло. Вот только после таких лечебных процедур мир стремительно выцветал, леди Стэнфорд начинала воспринимать его словно бы через толстый слой воды. И куда?то исчезала столь присущая ей аналитическая точность и ясность мышления. Ей становилось всё как?то безразлично.
«Что ж, – вяло и нехотя думала она в такие минуты, – учитель Ричарда помогает мне удержаться на тонкой грани, не свалиться в безумие. Но почему я при этом так глупею? Почему я теряю волю? А?а… Не всё ли равно!»
В самом деле, почему? Такой вопрос задаст сначала самому себе, а потом своему учителю Дик Стэнфорд, но случится это несколько позже, когда ничего уже нельзя будет исправить…
Хозяину Стэнфорд?холла, графу Уильяму Ральф Платтер безоговорочно понравился. Во многом потому, что учитель Ричарда приложил максимум усилий для достижения такого результата. Граф занимал немаловажное место в его планах, а Платтер, когда ему это было выгодно, умел становиться на удивление обаятельным и симпатичным.
Графу Стэнфорду всегда доставляло удовольствие общаться с крепкими, весёлыми и красивыми людьми. До своего ранения и отставки полковник Стэнфорд сам был таким. А в Ральфе – шесть футов роста, у него превосходная осанка, отличная улыбка на все тридцать два здоровых зуба, приятный грудной баритон, раскатистый смех. Сразу видно, нечванливый и лишённый спеси человек, хоть умный и знающий. Сам граф Уильям, как подлинный аристократ, никогда не чванился своим титулом и древностью рода. Гордился, конечно, но это совсем другое дело. При этом граф с величайшим уважением смотрел на людей хорошо образованных, постигших науки, владеющих теми знаниями, которых у самого Уильяма Стэнфорда не было.
Графу очень не хватало простого человеческого общества. Каждый день к себе в гости Генри Лайонелла не зазовёшь. А Платтер с видимым удовольствием выслушивал рассказы графа, часто задавая очень дельные вопросы, играл с графом в шахматы, до которых Уильям Стэнфорд был большой охотник, сопровождал графа на недолгих пеших прогулках в окрестностях Стэнфорд?холла, обсуждал с ним политические вопросы.
Стоит заметить, что Платтер отнюдь не занимался тем, что примитивно льстил графу Уильяму и подстраивался под него. Граф был весьма неглупым и опытным человеком, такую примитивную тактику он распознал бы сразу, и Ральф достиг бы результатов, прямо противоположных желаемым. Но Платтер действительно интересовался историей второй афганской кампании, он в самом деле любил шахматы и неплохо играл в них. Да ведь и взгляды на политику у графа Стэнфорда и учителя его младшего сына были схожими.
Так, как?то раз, прочитав свежий номер «Таймс», Платтер зашёл в кабинет графа, чтобы поделиться впечатлениями:
– Как вам это понравится, сэр! Болтуны из парламентской оппозиции требуют отставки правительства. Их, видите ли, перестала устраивать социальная стратегия кабинета. Боятся резкого полевения тред?юнионистского движения. Чартисты их до колик перепугали. Ну не ослы ли?
– Социальная стратегия? – Граф Уильям недоумённо пожал плечами. – Это что за зверь такой? И кого вы называете ослами, мистер Платтер, правительство или оппозицию в палате общин? Или чартистов?
– Это не зверь, это эвфемизм, – криво усмехнулся Ральф. – Всё равно что вместо «пьяная харя» сказать: м?м… «лицо в нетрезвом состоянии». Словосочетание «внутренняя политика» звучит для большинства людей слишком похабно. Потому что понятие, которое оно обозначает, просто одиозно. Вот и придумали такой заменитель. Ослами же, сэр, я называю и тех, и других, и третьих.
– Совершенно с вами согласен, – кивнул Стэнфорд, усмехнувшись в ответ. – Шестьсот редкостных ослов, палата общин в полном составе. Палата лордов ещё хуже. А её глава, лорд?канцлер, это даже не осёл, к чему обижать несчастное четвероногое таким сравнением! И про похабство любой политики вы справедливо изволили выразиться. У наших политиков ни ума, ни совести отродясь не было, нет и не будет. Впрочем, не подумайте, что я такой скверный патриот. Точно то же самое я думаю о политиках всех времён и любых народов. Будьте любезны, мистер Платтер, принесите мне газету. Хочу сам прочесть заинтересовавшую вас статью.
Генри Лайонелл был не прав, когда думал, что его приятель не удосужился побеседовать по душам с нанятым им учителем. Отчего же, граф не раз говорил с Платтером и на отвлечённые темы. Просто у Ральфа хватало ума для того, чтобы не особо посвящать Стэнфорда в детали своей жизненной философии. Это Ральф с Лайонеллом себе расслабиться позволил, потому как ни с какой стороны в мистере Генри заинтересован не был. Ошибался Лайонелл и в том, что граф вовсе не замечает печальных изменений, происходящих с психикой его супруги. Стэнфорд замечал, он попросту не знал, чем в такой ситуации можно помочь, ведь об истинных, глубинных причинах душевного кризиса Фатимы граф не имел ни малейшего понятия. Так что несколько туманные предложения Платтера о неких «консультациях», наблюдении и мягкой «коррекции» он принял с благодарностью. Здесь Ральф Платтер весьма легко добился своей цели. Можно было заняться подбором ключика.
Так что Платтер не фальшивил, добиваясь расположения графа Стэнфорда. Правда, к наркоманам Ральф относился ничуть не лучше, чем к алкоголикам, но уж здесь пришлось сдерживать себя, стараться, чтобы Стэнфорд не понял – Платтер прекрасно осведомлен о его пороке.
Увы! К девяностому году граф Уильям превратился в законченного морфиниста, здесь Генри Лайонелл как в воду глядел, предупреждая друга о дороге в один конец. Зависимость закономерно переросла из чисто психической в физическую. Теперь граф в прямом смысле слова не мог жить без подкожных инъекций морфина. Дважды в сутки он вводил себе дозу наркотика, иначе…
Иначе его начинал бить жестокий озноб, куда хуже, чем от бенгальской болотной лихорадки, тело покрывалось липким потом и гусиной кожей, из глаз текли слёзы. Затем становилось ещё тяжелее: мышцы рук и ног скручивала судорожная боль, вызывая рвотные спазмы, сжимался в горячий комок желудок, тупой иглой кололо в сердце. Он не мог есть, не мог спать. Настроение становилось одновременно подавленным и раздражительным, а порой граф, обычно уравновешенный, впадал чуть ли не в злобную истерику. Последнее время он испытывал такие страдания каждый раз часа за два до очередного укола и подумывал о том, чтобы перейти на трёхразовый режим приёма наркотика или увеличить дозу. Полковник британской кавалерии в отставке, природный наследственный аристократ, честный, храбрый и умный человек, граф Уильям Стэнфорд стремительно и неотвратимо опускался, заживо уходил в иллюзорный мир наркотических грёз, имеющий мало точек соприкосновения с реальностью.
По известным причинам такая метаморфоза очень даже устраивала Ральфа Платтера.
А что же Ричард? Как относился к своему учителю сын леди Стэнфорд?
Двойственно.
Платтер многое дал мальчику, богатые знания и практические навыки Ральфа помогли Дику точнее понять свой дар, научиться лучше пользоваться им. Но за четыре года Ричард уже взял у Платтера всё, что тот мог передать ему, степени таланта ученика и учителя были несравнимы. Что до жизненной философии Платтера, то Дику она активно не нравилась, а кроме того, он серьёзно беспокоился за мать.
Ещё в восемьдесят восьмом году, месяца за три до того, как Ричард подслушал разговор своего отца с Генри Лайонеллом, он с Платтером прогуливался по саду Стэнфорд?холла. Ральф предпочитал преподавать Дику ботанику именно таким способом.
– Обратите внимание, Ричард. – Платтер сорвал с невзрачного буро?зелёного кустика коробочку соплодия, наполненную мелкими, похожими на маковые зёрна, семенами. – Это белена. Belladonna, если по?латыни. Содержит один из самых сильных растительных алкалоидов. Атропин. У неё есть родственник – дурман. Datura. Знаменитая цикута, которой отравился по своей воле Сократ, была приготовлена как раз из дурмана. Алкалоиды – их открыли совсем недавно – удивительные вещества, Ричард. За ними большое будущее. Они крайне интересно и многообразно воздействуют на человека. Кстати, никотин, содержащийся в табачных листьях, тоже алкалоид.
– Эти вещества, – голос Ричарда стал несколько напряжённым, – могут влиять не только на тело, но и на душу человека?
– Хм?м… Как можно влиять на то, чего нет? Я, Ричард, серьёзно сомневаюсь в существовании души. Впрочем, я уже говорил вам об этом. На психику – да, влияют. Но ведь и примитивный алкоголь способен на такое. Обычный винный спирт.
– И поэтому, мистер Платтер, вы добавляете экстракт белены в тинктуры, которые даёте моей матери? – Ричард пристально посмотрел в глаза своего учителя. – Чтобы воздействовать на её душу? Или психику, если вам так больше нравится… А зачем?
Ответный взгляд Платтера был исполнен несказанного изумления:
– Но откуда вы могли узнать об этом, Ричард?!
Дик, наученный горьким опытом, никогда и ничего не рассказывал Ральфу Платтеру о своём необыкновенном способе видения мира. Меж тем всё было просто: алкалоиды белены – там был далеко не только атропин, Ричард видел больше, чем его учитель! – имели свою форму, свой особый цвет, по?своему звучали. И такие же перевитые ало?багровыми лентами тройные кольца салатного цвета, ту же рокочущую мелодию Ричард распознавал среди других компонентов в тех средствах, которые готовил для Фатимы его наставник.
Дик не ответил на вопрос Платтера, просто продолжал пристально и требовательно смотреть ему в глаза. И Ральф не выдержал. Отвёл взгляд.
Платтер изначально практиковал совершенно верный подход к Дику. Он не делал скидок на возраст, говорил со своим учеником так, как если бы Ричард был уже вполне взрослым человеком.
– Ваша мать на грани серьёзной болезни, – сказал Платтер после продолжительного молчания. – Я пытаюсь не дать этой болезни развиться. Кстати сказать, с ведома и по просьбе вашего отца.
– Душевной болезни, мистер Платтер? – Дик продолжал пристально вглядываться в лицо учителя.
– Да.
– Так ведь, наверное, недаром такие болезни называются душевными, – задумчиво сказал Дик, обращаясь скорее к самому себе. – И значит, мистер Платтер, вы всё же можете воздействовать на душу моей матери.
– Ричард, а почему вас это тревожит? – пожал плечами Ральф. – Я вынужден поступать так ради блага леди Стэнфорд.
«Вот в этом я не уверен, – мрачно подумал Ричард. – Блага? Пожалуй… Но только ли?» – однако вслух сказал другое:
– Просто я очень удивлён. Мне страшно подумать, чем может обернуться такое умение в недобрых руках.
– Надеюсь, вы не мои руки имеете в виду? – Ральф поднял бровь.
– Я тоже на это надеюсь, – тихо ответил Дик. – И я хотел бы надеяться на это впредь…
В следующий раз разговор на сходную тему зашёл у них летом девяностого года, за три месяца до трагических событий, потрясших Стэнфорд?холл. Эти два года не прошли даром, Дик многому научился и многое стал понимать куда лучше. Ему приходилось нелегко. Несмотря на особенности своего диалога с миром, отличающие его от других людей, Дик был самым психически нормальным из всех обитателей Стэнфорд?холла, исключая слуг. Остальные же… О родственниках и разговора нет, каждый из них был по?своему ненормален. Но ведь и Ральф Платтер к моменту развязки всех узелков стал совсем не таким, каким был, когда четырьмя годами раньше появился в Стэнфорд?холле. Мономания съедала его заживо!
Примеры воздействия на сознание, разум и душу человека с помощью химических веществ были у Дика перед глазами. Отец, который становится нормальным, почти таким, как прежде, только после введения дозы наркотика, обычного раствора белого порошка. Что же происходит с его бессмертной душой? Почему она так страшно изменилась? Но если психика, если душа под влиянием какого?то порошка может становиться хуже, то, наверное, справедливо и обратное? Вероятно, под воздействием другого порошка она может становиться лучше?
Ох уж это понятие, исключительно важное для Ричарда! «Душа» – простое слово, которое понятно всякому, или, сказать точнее, каждый думает, будто знает, о чем идет речь, когда слышит это слово.
Но стоит задуматься, и приходишь к выводу, что душа не может быть некоей неизменной, вневременной и вечной сущностью, – такой души никогда не было, никто из нас ею не обладает. Душа юноши и душа старца хотя бы сохраняют идентичные черты, если речь идет об одном и том же человеке, а дальше… Душа его в те времена, когда он был ребёнком, и в ту минуту, когда, смертельно больной, он чувствует приближение агонии, – эти состояния чрезвычайно различны.
Мать. Она уже почти полностью утратила рассудок, у неё случаются жуткие припадки буйства. И вновь, лишь после приёма препаратов брома и некоторых других тинктур она на какое?то время становится почти нормальной! Правда, кое?что в её характере и поведении меняется, и меняется так, что невольно возникают сомнения: а не хуже ли лечение самой болезни?
Старший брат. Питер интенсивно спивается. И пьяный, и трезвый, и с похмелья, и в состоянии глухого запоя он был неприятен Ричарду. И всё же подросток не мог не заметить, что Питер пьяный и Питер трезвый – совершенно разные люди! Значит, примитивный алкоголь может так кардинально менять человека? А если это будет не алкоголь, а нечто неизмеримо более сильное?! И вновь, – кто сказал, что изменения должны быть непременно дурными?
Меж тем феноменальные способности Ричарда продолжали развиваться! Теперь уже он интуитивно, на подсознательном уровне чувствовал, как изменить, модифицировать то или иное вещество таким образом и в таком направлении, чтобы оно приобрело физиологическую активность, стало бы способно воздействовать на психику людей. Правда, это знание оставалось пока зыбким, смутным и неопределённым, однако Ричард уже начал приобретать навыки блестящего химика?практика.
…Вновь они с Платтером гуляли по дорожкам сада.
– Так вы полагаете, мистер Платтер, что только недостаток наших знаний не позволяет нам вмешиваться в любые психические процессы других людей по своему произволу? – Этот вопрос Дика звучал скорее как утверждение, как нечто хорошо продуманное и осознанное.
– Да. Но овладение этим знанием – вопрос времени и таланта, – уверенно ответил Платтер. – Мне кажется, что вы тоже стремитесь к нему, Ричард.
– Пожалуй, – задумчиво откликнулся Дик. – Но мне немного страшно. Такое знание потенциально содержит в себе большой вред. И опасность.
Ральф иронически усмехнулся:
– Это можно сказать о любом знании. Любое знание в чём?то вредно и опасно.
– А как же быть с известной максимой Декарта «Знание – сила»?
– Кто сказал, что одно противоречит другому? Кстати, должен заметить, что у вас, Ричард, имеются все предпосылки к тому, чтобы подобными знаниями и способами овладеть.
– Даже если это так, – голос Дика стал напряжённым, – я ещё не до конца уверен, во имя какой цели…
– А зачем вам задумываться об этом? – перебил его Ральф, которого тема разговора тоже очень задевала за живое. – Вы же хотите посвятить себя науке, я не ошибся? Наука отвечает на вопрос «как?». Вопросы «зачем?» и «почему так, а не иначе?» не относятся к её компетенции. Это дело философии и религии. Мой вам совет: держитесь подальше и от того, и от другого.
Ричард долго молчал, а затем пристально посмотрел в глаза Платтеру. Взгляд Дика был испытующим и недобрым.
– Но ведь вы, мистер Платтер, уже применяете эти знания и способы на практике… – тихо произнёс он. – И мне это весьма не по вкусу.
– Что вы имеете в виду?!
– То, что вы делаете с моей матерью. Это ведь уже не только лечение. И не столько помощь, сколько… что?то другое. Чего вы хотите от неё, мистер Платтер? Зачем вам это нужно?
На несколько мгновений Ральф растерялся, такого он не ожидал. Платтера подвела самонадеянность, он недооценил наблюдательность Ричарда. Кроме того, Ральф не мог знать о том, что способности Ричарда развились до той степени, когда побочные воздействия тех препаратов, которые Платтер давал Фатиме, стали понятны для его ученика.
– Вы заблуждаетесь, Ричард, – наконец ответил он, обречённо вздохнув. Вопрос Ричарда не слишком понравился ему. – Во всяком случае, я желаю вашей матери, леди Стэнфорд, только добра. У вас есть основания сомневаться в этом?
– Да. У меня есть такие основания.
– В таком случае… – Платтер демонстративно пожал плечами. Его удивление достигло такой степени, что он замешкался с ответом: подбирал слова. – Изложите их мне. Или поведайте о своих подозрениях матери, которую я лечу. Или отцу, графу Стэнфорду. Или своему брату.
В двух последних фразах Ральфа отчётливо прозвучала издёвка.
– Боюсь, что это не принесёт пользы, – задумчиво сказал Дик. – Скорее наоборот – может навредить и матери, и отцу. К тому же я ещё не во всём разобрался, многого не понимаю. Излагать, как вы выразились, что?либо вам я не стану.
Платтер постарался сдержать себя, хоть и вопросы Дика, и его ответные реплики, и общее направление их беседы ощутимо беспокоили его. Лицо Ральфа застыло наподобие гипсовой маски. Но не опасаться же всерьёз этого настырного подростка, пусть и наделённого недетским умом и проницательностью! Нет, Ричарду не стать помехой его планам! Помех больше вообще не осталось.
– Тогда давайте сменим тему разговора. Ваши недомолвки и намёки оскорбительны, вы не находите, Ричард? – В его спокойном невыразительном голосе явственно прозвучала зловещая нотка. – Я не собираюсь давать вам отчёт в своих действиях. Причина же того, что вы многого не понимаете, совсем проста: вы ещё слишком юны.
Дик промолчал. Но глядел он на Платтера цепко, настороженно. И Ральфу казалось, что он понимает ход мыслей Дика и таивший массу оттенков взгляд. Очень неуютно стало мистеру Платтеру под этим неприязненным взглядом…
Платтер недооценил своего ученика: хоть недавно Ричарду исполнилось лишь пятнадцать лет, он догадывался, чего именно добивается от его матери Ральф. Но именно догадывался, и что ему было делать со своими смутными догадками и домыслами? Обратиться к отцу, графу Уильяму? Предостеречь его? Но от чего? Чем, хоть в малой степени, подтвердить свои подозрения? Сослаться на то, что благодаря своим особым способностям он попросту видит: лечение Платтера, пусть удерживая его мать на тонкой грани, в то же время лишает её воли? Но граф, скорее всего, просто не поверит ему, отмахнётся от беспочвенных фантазий сына. Если вообще захочет его выслушать: слишком разрушительно успели подействовать на Уильяма Стэнфорда белые кристаллы морфина, уж это Ричард понимал отлично! Можно сказать, что в реальном мире граф Стэнфорд пребывал теперь лишь время от времени, и периоды таких просветлений непосредственно зависели от тех же белых кристаллов. Поговорить с учителем в более жёстком тоне? Опять же: где основания? Ведь ничего конкретного предъявить Платтеру он пока не мог. Так что позиция Ральфа непробиваема: даже понимая, что Ричард на верном пути, что Ричард раскусил его, Платтер всегда может просто высмеять Дика…
Интересно всё же устроен человек! Ричард серьёзно беспокоился за мать, его выводило из себя собственное бессилие, невозможность как?то повлиять на ситуацию, переломить ход событий, но при всём при том… Не отдавая себе в этом отчёта, он был даже чуточку доволен тем, что узнал, о чём догадался! Потому что теперь Ричард получил лишнее подтверждение тому, что внешним воздействием с человеком, с его поведением, психикой, с его душой можно сделать всё, что угодно. А эта мысль, уверенность в том, что подобное воздействие возможно, была исключительно важна для Ричарда. Ральф Платтер ошибался: Ричард вовсе не собирался становиться учёным, его манила куда более высокая цель. Да, Дик хотел познать законы природы, управляющие миром и человеком в этом мире, но лишь для того, чтобы научиться менять внутреннюю сущность людей, делать их лучше и добрее. Чтобы стать помощником Всевышнего на земле, никак не меньше! У него есть важная и святая обязанность: изменить картину мира, исправить его. У него есть миссия. Призвание.
И – самое главное! – Ричард пребывал в полной уверенности: ему осталось совсем чуть?чуть до того момента, когда он сможет дать Платтеру бой его же оружием. Не только Платтеру… Вещества окружающего мира всё полнее раскрывались ему, он всё лучше понимал их потаённый язык. Да, совсем немного, и он сам станет воздействовать на людей, но лишь во имя высоких, светлых целей. Причём – Дик был уверен в этом – его возможности будут куда богаче, чем у Ральфа Платтера. Тогда первыми, кому он поможет, чью душу исцелит и улучшит, станут отец и мать, а там дело дойдёт и до брата, и до Платтера, и до… до многих других!
Как знать… Дай судьба Ричарду ещё год времени, возможно, всё пошло бы так, как ему хотелось. Предпосылки к тому имелись. И в этом случае совсем по?другому сложились бы судьбы многих людей…
Но нет, не было у Ричарда Стэнфорда этого времени. До трагической развязки оставалось всего?то три месяца.
Меж тем через неделю после этого разговора долгие усилия Ральфа Платтера всё же увенчались успехом, он добился своего, ключик, который Платтер так настойчиво подбирал, сработал! Что ещё раз доказывает: даже замыслы, продиктованные манией, безумные замыслы, можно реализовать, если взяться за дело со столь же безумной методичностью, настырностью и хитростью. Non vi sed saepe cadendo. Не силой, а повторением. Капля, как известно, долбит камень частотой падения.
Ральф Платтер в чём?то опередил своё время. Та комбинация солей брома и растительных алкалоидов, которую он использовал для лечения Фатимы, оказалась редкостно эффективной. Значительно позже, в середине двадцатого века, такие комплексные препараты назовут транквилизаторами, а их воздействие на психику больного – седативным, успокаивающим.
Но в нашем евклидовом мире любая палка о двух концах, и у любой медали есть обратная сторона. Успокаивая больного, сглаживая разрушительные биения психики, подобные средства резко снижают уровень критичности у человека, который их принимает, лишают его воли, делают повышенно восприимчивым к внушению. Обычно такой побочный эффект не слишком страшен, но вот если психотерапевт преследует какие?то свои цели, если он хочет подтолкнуть своего пациента, направить путь его души в желательную для себя сторону… Тут, как говорится, возможны варианты.
Платтер чисто интуитивно – а он был наделён тонкой интуицией, особенно если дело касалось его выгоды! – догадался об открывающихся перспективах. И сумел использовать их на все сто процентов, пусть для этого потребовалось почти три года. Нет, Платтер не использовал гипноз или что?то подобное гипнозу, в этом не возникло необходимости. Вкрадчивое, осторожное, но чуть ли не ежедневное внушение стало не менее эффективным инструментом, Фатима оказалась практически беззащитна перед ним.
Словом, к концу лета девяностого года Ральф Платтер и леди Стэнфорд стали любовниками; охота Платтера на редкую дичь всё?таки увенчалась успехом, он мог торжествовать.
Ральф и торжествовал, не зная, что продлится его триумф очень недолго, а закончится совершенно чудовищно.
Понимала ли Фатима в полной мере, что произошло? Или её больной мозг, её затуманенное – не без помощи Платтера – сознание не могли до конца вникнуть в создавшееся положение, просветить его безжалостно холодным лучом анализа? Трудно сказать…
Последние три месяца, оставшиеся ей на земле, молодая женщина прожила словно бы в густом тумане или в тягучем сне, который никак не желал заканчиваться пробуждением.
Граф Уильям ничего не замечал. Впрочем, Платтер оказался достаточно хитёр и осторожен. Свои «любовные» свидания с покорённой и покорной ему леди Стэнфорд он планировал заранее, на те часы, обычно утренние, когда на графа Уильяма накатывалась наркотическая ломка и он не мог думать ни о чём, кроме очередной дозы морфия. Графу попросту было не до окружающей действительности, не до того, чем занимаются другие обитатели Стэнфорд?холла.
Платтер быстро вошёл во вкус, тем более что ему постоянно требовались зримые и ощутимые доказательства одержанной победы. Физическая близость с Фатимой доводила его до исступления, до вспышек совершенно немыслимого восторга. Словно умирающий от жажды бедуин, из последних сил выползший к затерянному среди барханов вожделенному колодцу, он пил и пил, а жажда становилась всё сильнее. Да и Фатиму их близость всё сильнее привязывала к Ральфу, в чём нет ничего удивительного: она оставалась молодой женщиной, природа требовала своего, а контролировать свои инстинктивные влечения и позывы леди Стэнфорд уже не могла, практически лишившись свободы воли. Она понимала, что изменяет мужу, она страдала из?за этого, она не хотела этого, но уже не могла остановиться! Её порой охватывало чувство нереальности происходящего, в мыслях всё плыло, как в тумане, в сюрреалистическом кошмаре, где распадается привычный мир. Сон наяву и в то же время – жестокая действительность, которую не стряхнёшь, как стряхиваешь остатки примерещившегося кошмара.
Спираль этой полубезумной связи скручивалась всё туже, накапливала зловещую энергию, словно стальная пружина перед тем, как распрямиться одним рывком или сломаться, не выдержав напряжения сжатия.
Утренние встречи в покоях леди Стэнфорд на втором этаже становились всё чаще, Платтеру стали изменять присущие ему осторожность и осмотрительность. Ральф испытывал эйфорию, он опьянялся Фатимой, своим успехом, тем, наконец, что он оказался сильнее и хитрее всех и взял то, к чему стремился! Тщеславное самодовольство кружило голову Платтеру… И Ральф совершенно упустил из виду, что был в Стэнфорд?холле человек, чьи глаза пристально и злобно следили за каждым шагом леди Стэнфорд, пусть и сквозь алкогольную пелену! Не принимал Ральф Платтер этого человека во внимание, слишком сильно презирал его…
Питер! Никакой алкоголь не мог до конца растворить мрачную тягу к мачехе, маниакальную одержимость, занозой засевшую в его сердце. Да, он все эти годы глаз не спускал с Фатимы. В этом, и только в этом отношении были присущи ему поистине звериное чутьё и острая, хитрая наблюдательность. Не прошло и полутора месяцев с того дня, когда Ральф Платтер впервые овладел Фатимой, как Питер всем своим существом ощутил: дело плохо! Между его мачехой и учителишкой младшего братца что?то произошло!
Совсем забросить спиртное Питер уже не мог, но он резко ограничил ежедневную дозу виски, перестал уходить в глухие запои. Любопытно, что эту необъяснимую на первый взгляд перемену в поведении Питера заметил только Ричард, остальным обитателям Стэнфорд?холла было не до того! Питер начал выслеживать Ральфа и леди Стэнфорд. Какая?то недобрая сила, словно злой дух, поселившаяся под крышей родового гнезда Стэнфордов, помогала ему в этом, набрасывала на Питера призрачный плащ, который делал его невидимым. Ральф проморгал слежку! А Фатима и не могла её заметить, она пребывала в своём, безжалостно изломанном, искорёженном мире, весьма далёком от реальности.
Вскоре Питер Стэнфорд уже знал, что именно произошло и продолжало происходить между женой отца и учителем младшего брата. Места для сомнений не оставалось…
Душевная боль, которую испытал Питер, была неописуема, все его прежние страдания показались милой детской забавой рядом с ней. Словно тупое сверло медленно вкручивалось в его голову, словно его, беспомощного и жалкого, заживо сжирали мерзкие крысы. Как?! Афганская ведьма, презрительно отказавшая ему, растоптавшая его личность, изуродовавшая жизнь, и вот она… Она счастлива в объятиях какого?то мелкого негодяя, жалкого учителишки! Это немыслимо и невыносимо, этого не должно быть!
Но ни на секунду в голову Питера не пришла мысль о самоубийстве. Сперва он решил, что убьёт мачеху и её любовника, несколько дней сосредоточенно обдумывал детали своей кровавой мести и даже не притрагивался к виски, оставался трезвым! Чудовищное потрясение на время вышибло из Питера желание одурманивать себя алкоголем, так тоже бывает, и чаще, чем принято думать.
Но, не убив любовников сразу, в первом не рассуждающем порыве, Питер притормозил. Он должен был отомстить наверняка, мало того, сам он должен остаться целым! Нет, ему было не жаль собственной жизни, но попасть на виселицу за двойное убийство?! Это отравит всю сладость мести. Удивительно, но боль, рвущая сердце в кровавые клочья, на какое?то время сделала Питера Стэнфорда чуть умнее.
А сколько?нибудь умный человек, желая отомстить, будет держать свои планы в глубокой тайне и приложит все силы к тому, чтобы объекты его будущей мести не догадались о его ненависти: обнаруженная ненависть есть ненависть бессильная.
Кто сказал, что алкоголик не может придумать хитрого, коварного плана? Как ещё может! В конце концов, алкоголизм тоже есть род помешательства, разве что наполовину добровольного. А сумасшедшие бывают порой на диво изобретательны и хитры, это любой врач?психиатр подтвердит. И Питер составил такой план, который самому ему казался безупречным, представлялся настоящим шедевром точного хитроумного расчёта.
Питер задумал раскрыть глаза отцу! Но не просто на словах, нет. Словам граф Уильям может не поверить, а негодяев так легко спугнуть! И ничего потом не докажешь.
Пусть?ка отец увидит всё своими глазами, пусть застигнет двух этих мерзавцев на месте преступления, станет свидетелем гнусного прелюбодеяния. А Питер поможет ему в этом, сделает так, чтобы граф оказался в нужное время в нужном месте. Только не стоит торопиться, всё нужно просчитать и подготовить точно, ведь у него будет только одна попытка.
Питер удвоил внимание, стал следить за мачехой и Ральфом ещё пристальнее и осторожнее, ради своей цели почти полностью отказавшись от выпивки. О, предвкушение момента мести пьянило его сильнее любого виски! Вновь некая таинственная и недобрая сила играла на его стороне, как будто злой дух, поселившийся в Стэнфорд?холле, нашёптывал Питеру советы, подсказывал верные решения… Ох, до чего же прав был Генри Лайонелл, когда ещё двумя годами ранее говорил себе, что от Стэнфорд?холла нужно держаться подальше, что это плохое место, над которым словно нависло чьё?то проклятие.
Изощрённая терпеливая слежка принесла свои плоды: к середине октября Питер точно знал, где и когда встречаются любовники. По утрам, когда графу определённо не до них. Чаще всего в среду, пятницу, воскресенье, словно издеваясь над христианскими ценностями и традициями. Оставалось лишь точно рассчитать момент, выбрать нужный день, убедиться, что Ральф поднялся на второй этаж, зашел в комнаты мачехи, и…
И можно нажимать на курок! Зарядом послужит бешеная ярость отца, который лично убедится в том, как подло его обманывают.
Питер не мог точно представить, во что именно выльется гнев графа Уильяма, но он не сомневался: гнев этот будет всесокрушающим! А чтобы гарантировать свой план от осечки, Питер встроил в него особую пружинку, важнейшую деталь, которая непременно должна была сработать, усилив гнев графа Стэнфорда до самых крайних пределов.
Додуматься до этой части зловещего плана ему опять же помогло хитроумие, которым Питер Стэнфорд ранее не слишком?то отличался!
В начале ноября Питер провёл «генеральную репетицию» своей будущей постановки. Ему не составило труда заказать в Фламборо?Хед дубликат ключа, открывающего дверь в комнату мачехи. И вот утром одного из воскресений Питер, пока ещё один, прокрался к покоям Фатимы. В коридоре второго этажа было пусто, как в тот проклятый вечер одиннадцать лет назад…
Питер осторожно повернул ключ в замке. Лишь бы они не запирались ещё и на задвижку! Лишь бы ничего не услышали!
Нет, не запирались. Были слишком беспечны…
Он тихонько потянул дверь на себя, она не скрипнула, петли были смазаны на совесть. Питер одним глазом заглянул в образовавшуюся щёлку…
Он увидел именно то, что ожидал: два обнажённых тела, слившиеся в бесстыдной позе на кровати мачехи. Он услышал глуховатое порыкивание Платтера, захлёбывающиеся стоны леди Стэнфорд.
В голове сделалось гулко и пусто, сердце на мгновение остановилось, дёрнулось раз, другой… И застучало сорванно, ломая все ритмы, выпрыгивая из груди.
Питер аккуратно прикрыл дверь, повернул ключ. Любовники, поглощённые друг другом, ничего не заметили.
Конец ознакомительного фрагмента — скачать книгу легально
Библиотека электронных книг "Семь Книг" - admin@7books.ru