
Город лестниц | Роберт Джексон Беннетт
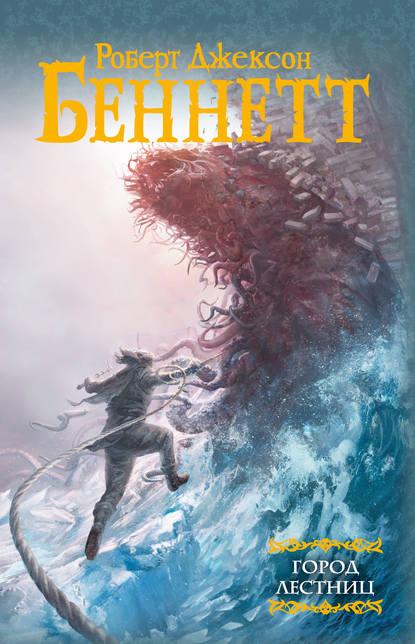
Роберт Джексон Беннетт
Город лестниц
Божественные города – 1
Мастера фэнтези (АСТ)
* * *
Посвящается Эшли, которая помогает мне верить в лучшее будущее
Это художественное произведение. Имена, персонажи и события вымышлены, все совпадения с реальными людьми, событиями и местами случайны.
И сказала им Олвос: «Зачем вы сделали это, дети мои? Почему небо скрылось за клубами дыма? Зачем вы отправились на войну в далекие страны и пролили кровь в чужих землях?»
И они ответили Ей: «Ты сказала, что мы народ Твой, и на нас Твое благословение, и возрадовались мы в сердце своем, и умножилось наше счастье. Однако увидели мы неких людей не из Твоего народа, жестоковыйных и невежественных, и не захотели они пойти под руку Твою. Не пожелали они открыть слух свой для Твоих песен и положить слова Твои себе на язык. И тогда приступили мы к ним, и сбросили их со скал, и обрушили жилища их, и пролили их кровь, и развеяли их по ветру, и праведны были наши деяния. Ибо мы – избранный народ Твой, и на нас Твое благословение. Мы Твои, и через это облечены праведностью. Разве не таково слово Твое, данное нам в прошлом?»
И Олвос ничего не ответила.
Книга Красного Лотоса, часть IV, 13.51–13.59
Злейший себя
– …В таком случае, полагаю, – заявляет Василий Ярославцев, – речь должна идти о наличии умысла! Не правда ли? Я прекрасно понимаю, что суд может не согласиться со мной – этот суд всегда выносил решение исходя из последствий поступков, а не намерений ответчика, – однако все же спрошу: неужели вы наложите столь существенный штраф на честного, скромного предпринимателя – и за что?! За непреднамеренное причинение вреда? Да еще и столь… мгм… абстрактного, с позволения сказать, характера?
Гулкий кашель в зале прерывает напряженное молчание. Из окна видно, как тени облаков бегут по стенам Мирграда.
Губернатор Турин Мулагеш хочет печально вздохнуть, но не решается. И смотрит на часы. «Гражданин определенно в ударе, – думает она. – Еще шесть минут – и он побьет рекорд предыдущего говоруна…»
– И вот мои свидетели! Мои друзья… – начинает перечислять Ярославцев, – …соседи, работники, близкие, мои кредиторы наконец! Эти люди прекрасно меня знают – зачем им лгать? И они раз за разом повторяли: это просто стечение обстоятельств. Неприятное – безусловно! Но совершенно случайное!
Мулагеш косится в сторону стола, за которым расположились члены Высокого суда. Прокурор Джиндаш с очень серьезным лицом сосредоточенно обрисовывает собственную руку на бланке Министерства иностранных дел. Слева от нее Главный дипломат Труни пристально разглядывает весьма объемные прелести девушки в первом ряду. Рядом с Труни, в самом конце стола, пустует кресло, в котором положено сидеть приглашенному профессору доктору Ефрему Панъюю. Впрочем, профессор в последнее время нечасто тут появлялся. И хорошо, и отлично! Потому что присутствие профессора Панъюя в этом зале – да что там говорить, в самой этой проклятой стране! – сплошная головная боль для губернатора Мулагеш. Да.
– Я призываю Высокий суд, – и тут Ярославцев отважно колотит по столу, – к здравомыслию!
«Надо бы приискать кого другого, – мрачно думает Мулагеш, – чтоб вместо меня сюда таскался». Пустые мечты… Как губернатор полиса Мирград, столицы Континента, она обязана председательствовать на всех судебных заседаниях. Даже на таких дурацких.
– Общеизвестно – и вы обязаны принять это во внимание! – что я никогда не имел никакого на‑ме‑ре‑ния! Я вообще думать не думал, что знак, висевший перед моей лавкой, имеет… словом, имеет ту природу, которую имеет!
В зале поднимается ропот – все прекрасно понимают, что хочет, но не может сказать Ярославцев. Труни поглаживает бороду и подается вперед: девица в первом ряду скрестила ноги. Джиндаш раскрашивает ногти нарисованной руки. Мулагеш быстро оглядывает толпу, привычно выделяя болезных и увечных: мальчик на костылях – рахит, женщина с коростой на лице – ветряная оспа, а что с человеком, что приткнулся в углу? Ладно, будем надеяться, что это просто грязь. Хотя… Так, нет, пусть это будет грязь. Ярославцев один из немногих континентцев, кто добился хоть небольшого, но успеха в жизни – он может позволить себе жилье с водопроводом. Так что в его лице мы наблюдаем отмытого от грязи представителя континентальной расы: бледнокожего, с грубыми чертами лица и темными глазами. Мужчины все как один заросшие бородищами – смотреть страшно. Мулагеш и остальные сайпурцы являют собой полную противоположность континентальному типу: невысокие, тонкие в кости, смуглые, с длинноватыми носами и узкими подбородками. И привычные к более теплому климату – вот почему Труни кутается в эту нелепую медвежью шубу! Ах, солнечный Сайпур за Южными морями, как до тебя далеко…
В какой‑то степени – причем в самой малой! – Мулагеш может понять равнодушие судей: Континент – жуткая отсталая дыра. Даже не так: Континент – упорствующая в своей отсталости дыра. Мрак и ужас. И зачем мы их оккупировали? Нищая, убогая страна… нет, понятно, зачем оккупировали, более того, у Сайпура о‑оочень уважительные причины для этого… «Кстати, а почему мы все еще зовемся оккупантами? – вдруг задумывается Мулагеш. – Мы здесь уже сколько? Семьдесят пять лет? Интересно, когда нас местные за своих признают…» Однако попробуй подойти к кому‑нибудь прям в этом зале и сказать: вот, на тебе денег, пойди купи лекарств и вымойся! Так нет же, континентцы тебе скорее в руку плюнут. От сайпурца им и медного гроша не надо.
И Мулагеш понимает, почему сайпурцев так презирают. Сейчас местные все сплошь бедняки и нищие, но когда‑то континентцы были самой опасной, самой грозной на свете человеческой расой. «И они это прекрасно помнят, – думает Мулагеш, замечая, как кто‑то смотрит на нее из зала с нескрываемой ненавистью. – Вот почему они нас так ненавидят…»
И тут Ярославцев собирается с духом.
«Так. Начина‑ааается», – обреченно думает Мулагеш.
– У меня не было намерений, – четко и ясно выговаривает он, – придать моей вывеске сходство с талисманом какого‑либо Божества, знаком небесной власти или сигилой какого‑либо бога!
В зале тут же зашептались и зароптали – пока негромко. На Мулагеш и остальных сайпурцев эта пафосная речь не производит, впрочем, ровно никакого впечатления.
– Они что, не знают? – шипит Джиндаш. – Нам на каждом заседании по нарушениям Светских Установлений такое говорят! Сколько можно!
– Тихо, – шепчет в ответ Мулагеш.
Ярославцев понимает, что только что нарушил закон перед лицом власть предержащих, и это его воодушевляет.
– Да! Я не имел намерений выказать преданность какому‑либо Божеству! Я вообще ничего – слышите? Ничего! – не знаю ни о каких Божествах! Не знаю, кем и чем они были…
Мулагеш хочет закатить глаза, но вовремя останавливается. Ну конечно. Так мы вам и поверили, господин Ярославцев. Да каждый – слышите! каждый! – континентец знает хоть что‑нибудь о Божествах. А говорить, что не знает, – все равно что спорить с тем, что дождь – мокрый.
– …И поэтому я не мог знать и предполагать, что знак, который я вывесил над своим магазином дамских шляпок, имеет сходство – совершенно случайное, заметьте! – с божественной сигилой!
В зале вдруг повисает молчание. Мулагеш поднимает взгляд: ах, вот оно что, Ярославцев просто закончил свою речь.
– У вас все, господин Ярославцев? – спрашивает она.
Тот явно колеблется:
– Ммм… э‑э‑э… да? Хотя… да, да. Пожалуй, все.
– Благодарю. Можете присесть.
Слово берет прокурор Джиндаш. И выставляет на всеобщее обозрение фотографию вывески «Шляпы от Ярославцева». А под буквами четко виден довольно большой знак: прямая линия с причудливой завитушкой на конце – при желании в ней можно увидеть поля шляпы.
Джиндаш разворачивается на каблуках лицом к залу:
– Это ваша вывеска, господин Ярославтсев?
Джиндаш коверкает фамилию, причем вряд ли специально: просто все эти континентальные имена – они же непроизносимые. Все эти «‑цевы», «‑чевы» и прочие «‑овы» – поди их различи. Нет, если больше десяти лет, как Мулагеш, здесь прожил, все нормально, – но Джиндаш не жил здесь десять лет.
– Д‑да, – отвечает Ярославцев.
– Благодарю.
И Джиндаш демонстрирует изображение судьям и всем присутствующим в зале.
– Прошу суд отметить, что господин Ярославцев признал, что эта вывеска – да, именно эта вывеска – принадлежит ему.
ГД Труни многозначительно кивает. Континентцы в зале тревожно перешептываются. Джиндаш открывает свой дипломат с видом фокусника, готовящегося вытащить из шляпы кролика, – и Мулагеш морщится: клоун отвратительный, поганец, и зачем его назначили сюда, в Мирград… Прокурор тем временем вынимает из чемоданчика печатный оттиск с похожим знаком: прямая линия, внизу завитушка. Но на этом рисунке линия и завитушка туго сплетены из виноградных лоз – вон внизу даже листики видны.
При виде знака зрители дружно ахают. Кто‑то порывается осенить себя священным знамением, но вовремя спохватывается – они же все‑таки в зале суда. Ярославцев вздрагивает и съеживается.
Труни фыркает:
– Ничего они не знают о Божествах, как же…
– Если бы достопочтенный доктор Ефрем Панъюй присутствовал на этом заседании, – и Джиндаш указывает на пустое кресло рядом с Труни, – он бы без труда опознал бы в этом рисунке священный знак Божества… ах, прошу прощения, покойного Божества…
В зале поднимается сердитый ропот, и Мулагеш мысленно помечает: при любом удобном случае наградить этого высокомерного сукина сына переводом куда‑нибудь подальше. И похолоднее. И чтобы крысы кругом бегали.
Джиндаш заканчивает фразу:
– …известного как Аханас. Данная сигила, по мнению континентцев, способствовала плодородию, плодовитости и придавала жизненных сил. Помещенная же на вывеску, она служила косвенным знаком того, что шляпы из этого магазина способны наделить покупателя подобными качествами. И хотя господин Ярославцев может опротестовать это, я узнал от его поверенных, что дело его резко пошло вверх, после того как над магазином была помещена эта вывеска! Судите сами: квартальная прибыль выросла на двадцать три процента! Вы только представьте себе…
Джиндаш кладет рисунок на стол и показывает два пальца на одной руке и три на другой:
– Двадцать. Три. Процента. Каково?!
– Ах ты ж батюшки! – качает головой Труни.
Мулагеш в замешательстве закрывает лицо ладонью.
– Но как вы?.. – лепечет Ярославцев.
– Простите, господин Ярославцев, – цедит Джиндаш, – но сейчас моя очередь говорить, не правда ли? Именно. Так вот о чем бишь я. Светские Установления, принятые Сайпурским парламентом в 1650 году, прямо запрещают и объявляют вне закона любое публичное признание существования божественного на Континенте. Любое публичное признание – намеки и косвенные упоминания тоже. Никаких исключений! Произнести имя Божества вслух – точно такое же нарушение закона, как упасть на колени посреди улицы, выкрикивая молитвы! Любое подобное действие считается нарушением Светских Установлений и неотвратимо влечет за собой наказание. Что же до нашего дела, то существенное увеличение прибыли прямо доказывает, что господин Ярославцев повесил этот знак, осознавая, что делает, а следовательно, преднамеренно!
– Это ложь! – выкрикивает Ярославцев.
– Господин Ярославцев был прекрасно осведомлен о божественной природе этого знака. И совершенно неважно, что Божество, соотносимое с этой сигилой, признано мертвым. Совершенно неважно, что эта сигила, естественно, не обладала никакими особыми свойствами и не могла наделить никого и ничего никакими качествами. Важно, что умысел в данном случае – налицо. И потому действия господина Ярославцева квалифицируются как нарушение, влекущее за собой наложение штрафа… – тут Джиндаш сверяется со своими записями, – …в пятнадцать тысяч дрекелей.
Толпа в зале угрожающе ворочается, ропот переходит в низкое злое ворчание.
Ярославцев шипит, брызгая слюной:
– Вы… не имеете права… как же так!
Джиндаш гордо шествует к своему креслу и опускается в него. И оборачивается к Мулагеш с гордой улыбкой. Вот так бы взяла и врезала ему кулаком по физиономии…
Как бы хотелось обойтись без этой трескотни и показухи! Дела о нарушении Светских Установлений очень редко доходят до суда – не чаще, чем раз в пять месяцев. Обычно в таких случаях ответчик предпочитает иметь дело с губернаторскими чиновниками. Но иногда… о, иногда ответчика посещает невероятная уверенность в себе. И в своей правоте. И тогда он идет в суд. И каждый раз итогом оказывается нелепый спектакль.
Мулагеш оглядывает набитый битком зал – даже за скамьями у стены люди стоят. На что любуются? Это же скучное разбирательство по дурацкому муниципальному иску! Как в театр пришли, понимаешь…
Хотя нет – какой театр? Они пришли не на суд посмотреть. И Мулагеш смотрит в сторону пустующего кресла доктора Ефрема Панъюя. Они пришли посмотреть на человека, от которого у нее сплошные проблемы…
Так или иначе, если дело о нарушении Светских Установлений доходит до суда, ответчик почти всегда проигрывает. За двадцать лет, пока она тут губернаторствует, Мулагеш всего три раза вынесла оправдательный приговор. А все почему? Потому что сайпурские законы делают из этих людей преступников. А они просто живут, как привыкли…
Мулагеш покашливает, прочищая горло.
– Обвинение представило свои доказательства. Господин Ярославцев, вам предоставляется возможность опровергнуть сказанное.
– Но… но это… это нечестно! – сердито заявляет Ярославцев. – Выходит, вам можно рассуждать о наших сигилах, а нам нет? Это наши сигилы, знаки наших богов, между прочим! Наши, а не ваши! Почему мы должны молчать?!
– Штаб‑квартира губернатора полиса, – и Джиндаш широким жестом обводит зал, – с точки зрения закона является территорией Сайпура. Она не подпадает под действие Светских Установлений, применяемых только на Континенте.
– Но это… это возмутительно! Нет, это даже не возмутительно… это… это ересь! Самая натуральная ересь!
И Ярославцев вскакивает.
В зале суда повисает мертвая тишина. Все изумленно таращатся на Ярославцева.
«Отлично, – думает Мулагеш. – Только публичных выступлений против властей нам и не хватало».
– Вы не имеете права так поступать с нами, – упорно продолжает Ярославцев. – Вы уничтожаете все, связанное с Божественным! Произведения искусства, книги – вы людей арестовываете за простое упоминание имени!..
– Мы здесь собрались не для того, – строго прерывает его Джиндаш, – чтобы обсуждать законы или историю.
– Нет уж позвольте! Мы будем обсуждать здесь историю, потому что ваши Светские Установления отказывают нам в праве знать ее! Я… да я раньше никогда не видел знак, что вы сейчас показывали, знак… знак…
– Знак вашего Божества, – безжалостно заканчивает Джиндаш. – По имени Аханас.
Мулагеш видит в зале двух Отцов Города – так в Мирграде называют членов городского совета. Почтенные мужи смотрят на Джиндаша, в их взглядах читается холодная ненависть.
– Да! – восклицает Ярославцев. – А почему я не видел этого знака? Потому что его запретили! А ведь она была нашей богиней! Нашей!
Присутствующие оборачиваются на охранников у дверей зала – видно, думают, что те сейчас кинутся на Ярославцева и изрубят в куски.
– Вы что, хотите эти доводы привести в качестве опровержения? – усмехается Труни.
– А вы… вы позволили этому человеку… – и Ярославцев упирает обвиняющий перст в пустое кресло доктора Ефрема Панъюя, – …приехать в нашу страну и прочитать все наши легенды, все наши сказания… изучить нашу историю – которой мы сами не знаем! Не знаем, потому что вы нам запретили!
Мулагеш морщится: ну естественно. Этого следовало ожидать.
Нет, понятно, что на часах мировой истории возраст Сайпура как сверхдержавы исчисляется в минутах. А до Великой Войны в течение многих веков Сайпур был колонией Континента. Точнее, Божеств Континента, которые его завоевали и удерживали под своей властью. И в Мирграде этого не забыли – иначе с чего бы Отцы Города ворчат: мол, что за времена настали, господа прислуживают слугам. Понятно, что не на публике ворчат, но все равно…
И, надо сказать, Министерство иностранных дел проявило вопиющую некомпетентность и удивительную халатность, когда проигнорировало все сообщения о напряженной обстановке и позволило достопочтенному доктору Панъюю прибыть сюда, в Мирград, с целью изучения древней истории Континента – той самой истории, которую континентцы по закону лишены права изучать. А ведь Мулагеш писала в Министерство: прибытие профессора вызовет протесты общественности. И все случилось как она и предсказывала: пребывание доктора Панъюя в Мирграде менее всего походило на визит, предпринятый во имя миролюбия и взаимопонимания; пришлось разбираться с протестами, угрозами и даже одним нападением – если можно было таковым назвать случай, когда кто‑то бросил в доктора Панъюя камень, но случайно попал в полицейского, прямо по подбородку.
– Этот человек, – упорно продолжает Ярославцев, тыча перстом указующим в пустое кресло, – самим своим присутствием оскорбляет Мирград и весь Континент! Этот человек – живое подтверждение тому, что Сайпур презирает нас и не считает нужным считаться с нами!
– Так‑так, – хмурится Труни. – Это уж слишком, вы не находите?
– Почему он читает то, что нам читать непозволительно?! – злится Ярославцев. – Он читает книги, написанные нашими предками! Дедами и прадедами!
– Он читает эти книги, потому что у него есть разрешение, – строго отвечает Джиндаш. – Разрешение Министерства иностранных дел. Профессор находится здесь с дипломатическим визитом в качестве посланника, если хотите. И какое все это имеет отношение к судебному…
– Думаете, выиграли войну и можете делать все, что хотите?! Так нет же! – выкрикивает Ярославцев. – Мы проиграли, да, но вы не смеете лишать нас нашего наследия! Руки прочь от наших культурных ценностей!
– Задай им жару, Василий! – выкрикивает кто‑то из задних рядов.
Мулагеш хватается за свой молоток и колотит по столу. В зале мгновенно воцаряется тишина.
– Господин Ярославцев, могу ли я считать, что вы закончили приводить опровержения доводов обвинения? – устало спрашивает она.
– Я… я считаю этот суд незаконным! – хрипло выкрикивает тот.
– Принято к сведению. Главный дипломат Труни, каков будет ваш вердикт?
– О‑о‑о, виновен, – усмехается Труни. – Очень и очень виновен, просто до невозможности виновен.
Все взгляды в зале устремляются на Мулагеш. Ярославцев горько качает головой, губы беззвучно шепчут: нет, нет, нет…
Перекурить бы.
– Господин Ярославцев, – четко произносит она. – Если бы вы отказались оспаривать предъявленное вам обвинение, вам был бы назначен существенно меньший штраф. Однако, несмотря на рекомендацию суда и – заметьте! – данный лично мною совет, вы потребовали публичного рассмотрения дела. Полагаю, вы понимаете, что в данном деле обвинение предъявило исчерпывающие доказательства вашей виновности. Как правильно отметил прокурор Джиндаш, мы здесь собрались не для того, чтобы обсуждать историю. Мы имеем дело с последствиями исторических событий прошлого, и не нам их менять. Поэтому я с глубочайшим сожалением вынуждена…
Гулко бухает входная дверь. К ней одновременно поворачиваются семьдесят два человека.
На пороге стоит маленький сайпурец. Видно, что ему очень не по себе. И еще он очень встревожен. Мулагеш знает его: Питри как‑то там, из посольства, мелкая сошка у Труни на побегушках.
Питри сглатывает и жалобно семенит через весь зал к расположившимся в креслах судьям.
– И что? – сердито говорит Мулагеш. – Вы в курсе, что прервали заседание суда? Надеюсь, у вас уважительная причина!
Питри протягивает руку. В руке у него записка. Мулагеш берет ее, разворачивает и читает:
«ТЕЛО ЕФРЕМА ПАНЪЮЯ НАЙДЕНО В ЕГО КАБИНЕТЕ В МИРГРАДСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. ПОХОЖЕ, ЕГО УБИЛИ».
Мулагеш поднимает глаза и смотрит в зал. Зал смотрит на нее.
Пора заканчивать с этим фарсом. Теперь всем точно будет не до дурацких судебных заседаний…
Она откашливается:
– Господин Ярославцев… В свете только что случившегося я вынуждена пересмотреть отношение к вашему делу.
Джиндаш и Труни одновременно восклицают:
– Что такое?
Ярославцев хмурится:
– Что такое?
– Можете ли вы сказать, господин Ярославцев, что извлекли должный урок из случившегося? – четко выговаривает Мулагеш.
В зал осторожно просачиваются два континентца. Они проталкиваются к стоящим в толпе знакомым, шепчут на ухо. Вскоре весь зал оживленно переговаривается.
– … убит?.. – громко переспрашивает кто‑то.
– У‑урок?.. – повторяет Ярославцев.
– Я спрошу без обиняков, господин Ярославцев, – ровно говорит Мулагеш. – Вы ведь не дурак, правда? Вы ведь больше не будете вешать над лавкой божественную сигилу, чтобы привлечь покупателей?
– Что вы делаете? – шипит Джиндаш.
Мулагеш отдает ему записку. Джиндаш пробегает ее глазами и заметно бледнеет.
– О нет… Во имя всех морей, нет…
– …забили до смерти! – громко сообщает кто‑то в зале.
Весь Мирград уже в курсе. Естественно.
– Я… нет, – выходит из оцепенения Ярославцев. – Я… конечно… нет, я не буду, что вы?
Записку читает Труни, ахает и в ужасе оборачивается к пустому креслу доктора Панъюя, словно ожидая увидеть там труп безвременно почившего профессора.
– Я удовлетворена вашим ответом, – громко произносит Мулагеш и стучит молотком. – В таком случае как председатель суда я объявляю высказанное достопочтенным Главным дипломатом Труни мнение несущественным и закрываю ваше дело. Вы можете покинуть зал.
– Да? Правда могу? – изумленно переспрашивает Ярославцев.
– Правда можете, – чеканит Мулагеш. – И я бы на вашем месте немедленно воспользовалась этой возможностью. Немедленно – значит очень быстро, прямо руки в ноги, господин Ярославцев.
Люди в зале не скрывают своей радости. Кто‑то кричит во всю глотку:
– Он мертв! Воистину, он мертв! О, славная победа!
Джиндаш оседает в кресле, словно из него выдернули позвоночник.
– И что же нам теперь делать? – в ужасе бормочет Труни.
В толпе кто‑то причитает:
– Нет! Нет! Подумайте сами! Кого они теперь пришлют?
Кто‑то орет в ответ:
– Да кому какое дело!
– Вы что, не понимаете?! – отвечает тот же плаксивый голос. – Они снова нападут! Опять война, оккупация, понимаете?! Они возьмут злейших себя и займут его место!
Мулагеш откладывает судейский молоток и с облегченным вздохом закуривает.
* * *
Питри мнется и не находит себе места. Вот как у них это получается, а? Как у жителей Мирграда получается спокойно посиживать рядом со стенами и даже жить рядом с ними? Ведь каждый же день поднимаешь жалюзи или там шторы раздвигаешь, выглядываешь из окошка – а они тут! И как они с ума не сходят?..
Питри пытается не смотреть туда. Он смотрит на часы – ага, на пять минут отстают и скоро отстанут на шесть, на семь и так далее… Питри разглядывает свои ногти – вроде все нормально, вот только на мизинце ноготь какой‑то сморщенный, какая досада. Питри даже станционного смотрителя разглядывает – а тот злобно таращится в ответ. А потом Питри все‑таки не выдерживает и… делает это. Быстренько, воровато смотрит влево. На восток. Там стены. Стоят и поджидают, когда Питри на них посмотрит.
Дело даже не в их размере. Хотя и в размере тоже – поди ж ты какие громадины. Дело в том, что вот он смотрит вверх, вверх – кончаются же они где‑то, есть же у них верх, правда? – так вот Питри смотрит на них, и… и… в общем, в какой‑то момент он их больше… не видит. Не видит стен. Вместо них проступают очертания далеких холмов, взблескивают звезды, ночной ветер качает деревья. И этот ночной пейзаж просматривается сквозь стены как сквозь мутное стекло, гадательно. И вообще, у всех нормальных стен есть верх, да? Так вот у этих – нет. Нет верха. Зубцов. Нету ничего. Там только ночное небо и толстая, довольная морда луны. А вот если смотреть не на стены, а вдоль них – о, совсем другое дело! Глаз выхватывает их плавный изгиб, очертания постепенно сгущаются, и Питри прекрасно видит домики и полуразвалившиеся здания, а где‑то через сто ярдов свет городских фонарей отражается в гладкой ровной стене, как в огромном зеркале.
А если б он подходил к городу и приблизился к стенам, увидел бы просто камень. Обычный белый камень. Вот такое вот трогательное проявление заботы: существа, воздвигшие эти укрепления, хотели уберечь город от врага и в то же время не лишать его жителей рассветов и закатов. Вроде бы ничего опасного и страшного, милое такое чудо, а Питри все равно тревожится и трясется. С чего, спрашивается? Однако ж такова обычная реакция сайпурца на чудесное…
Питри снова взглядывает на часы и подсчитывает, сколько минут прошло. Поезд опаздывает? Все‑таки это не совсем обычный поезд. Может, они всегда опаздывают? А может, это вообще поезда вне расписания. Да. А может, тот, кто управляет этим поездом, не в курсе, что получена официальная телеграмма, а в ней черным по белому написано: «В 3.00 утра». А ведь он, Питри, тоже лицо официальное, да! И он очень серьезно относится к этому очень серьезному тайному заданию! А может, всем просто плевать, что где‑то на платформе ждет поезда человек, и человеку этому холодно, голодно и вообще страшно смотреть на эти стены. И станционный смотритель таращится так, словно убить хочет! И зенки какие страшные – бледно‑голубые, брррр…
Питри горько вздыхает. Если бы он сейчас умирал и видел перед глазами всю прошлую жизнь до этого самого момента, до чего скучное вышло бы зрелище. Он‑то думал, что назначение в сайпурское посольство – о‑го‑го‑го какая интересная работа! Мир повидать, опять же, хотелось. Экзотические страны посмотреть. Ну и с экзотическими красотками познакомиться, не без этого. А что вышло? Вышло, что чего ни вспомнишь – Питри стоит и ждет. Он ведь кто? Ассистент помощника администратора посольства. И в качестве такового Питри выучился ждать, что ничего нового и волнующего не будет, а будет лишь новое и совершенно не волнующее, и будет он стоять и смотреть, как минутная стрелка проворачивается в циферблате, как рычаг в моторе машины, которая не желает заводиться… Еще он понял, зачем помощникам нужны младшие помощники: чтобы сгружать на них убийственно скучные мелкие дела, которыми полнится день чиновника.
Питри смотрит на часы. Сколько прошло? Двадцать минут?.. Изо рта вырывается мутное облачко пара. Во имя всех морей, ну и работа у него…
Может, попросить о переводе? А что, для сайпурца на Континенте открывается не так уж и мало возможностей: территория разделена на четыре региона, которыми управляют региональные губернаторы, им подчинены губернаторы полисов, которые, в свою очередь, управляют большими городами Континента, а им подчиняются посольства, которые… кстати, а вот, чем занимаются посольства, Питри пока так и не понял. Чем‑то таким с культурой связанным. Вот почему столько народу всегда задействовано…
Станционный смотритель выдвигается из своей комнатки и занимает позицию у края платформы. Оборачивается и смотрит на Питри, тот в ответ кивает и улыбается. Смотритель окидывает медленным мрачным взглядом тюрбан Питри и его короткую темную бородку и мрачно же сопит: за версту шалотником пахнет! И, напоследок смерив Питри уничтожающим взглядом – мол, смотри мне, только попробуй что‑нить здесь стянуть! – поворачивается и уходит обратно в тепло. Можно подумать, на этой безлюдной платформе можно что‑то украсть.
Как же они нас ненавидят! С другой стороны, ну да, ненавидят. Вот к этому, кстати, он успел привыкнуть, хотя не так уж и долго прослужил в посольстве. Мы велели им все забыть, но разве можно такое забыть? Нет уж, ни нам, ни им – да вообще никому! – такое не под силу.
И все‑таки раньше Питри недооценивал природу этой ненависти. Он ее толком не понимал, пока сюда не приехал и все своими глазами не увидел: все эти ободранные стены и витрины магазинов, фасады, с которых сколотили барельефы и убрали статуи, толпы людей, заполняющие улицы Мирграда в определенные часы дня, чтобы побродить туда‑сюда, – эти люди как будто знали, что пришло время почтить… в общем, почтить и уважить кого‑то, но сделать ничего не могли и потому просто толпились. А еще он постоянно натыкался в городе на площади с круговым движением и тупики, где когда‑то что‑то стояло, – это чувствовалось кожей. Прежде здесь возвышалась грандиозная статуя, или часовня, полная запаха ладана, – а теперь все, ничего не осталось. Замостили камнем и воткнули фонарь. Или разбили чахлый муниципальный сквер. Или скамейку поставили.
В Сайпуре все абсолютно уверены в том, что за семьдесят пять лет Светские Установления радикально изменили на Континенте все. И местные смирились и свыклись с новой жизнью. Но здесь, в Мирграде, Питри явственно ощутил, что, конечно, кое‑что поменялось: естественно, никто из жителей Мирграда более не упоминал, не чтил и не признавал существование Божественного ни в каком из его аспектов. Во всяком случае, вслух не упоминал. А на самом деле Светские Установления обернулись полным пшиком.
Город все помнит. И все знает. Прошлое вошло в его кровь и плоть и ныне разговаривает умолчаниями с теми, кто имеет уши и слышит.
Питри ежится. Холодно.
Впрочем, ему не очень‑то хочется снова оказаться в посольстве, где все так и бурлит от беспокойства и суматохи, вызванных убийством доктора Ефрема Панъюя. Телеграфы выплевывают бумаги, словно пьяницы, блюющие на пороге бара. Неустанно брякают и звякают телефоны. Между дверями снуют секретарши, с жестокостью сорокопутов нанизывая бумаги на железные штыри.
Но одна‑единственная телеграмма заставила всех замереть, как статуи:
«К‑ПОС ТИВАНИ МИРГРАД ВОКЗАЛ ИМ. МОРОВА ПРИБЫТИЕ 3.00 ШКРГ512»
Судя по коду в конце телеграммы, прибыла она не от губернатора полиса, а из штаб‑квартиры самого регионального губернатора. А это, чтобы вы знали, единственное место, где есть прямая связь с Сайпуром. А еще секретарша Департамента связи, трясясь от ужаса, сообщила, что туда телеграмму наверняка прислали аж из‑за Южных морей из самого Министерства иностранных дел.
Тут все жарко заспорили, кто должен встречать этого загадочного Тивани, – ведь его же явно послали отыскать и примерно наказать виновных в смерти профессора! А как же иначе, Сайпур ведь должен отмстить за лучшего из своих сынов! Разве предпринятые профессором разыскания не должны были стать прорывом в науке? И тут все быстренько решили, что встречать гостя должен Питри. Потому что он молодой и приятный в обхождении. А возразить Питри не мог, потому что в комнате его как раз не было.
А потом все стали обсуждать непонятное «к‑пос», в смысле «культурный посол». С чего бы им посылать сюда такую мелкую сошку? Ведь все знают: на эту должность набирают чуть ли не студентиков, зеленую молодежь с завиральными идеями насчет того, что, мол, надо изучать чужую культуру и историю. Уважающие себя сайпурцы из метрополии такого образа мыслей чурались. Обычно эти КП служили всего лишь украшением на приемах и праздниках. Так с чего бы теперь засылать одного из них в самую гущу крупнейшего дипломатического скандала нашего времени?
– А вдруг, – решился высказать коллегам свои мысли Питри, – это все никак не связано? Может, это просто совпадение?
– Ну конечно же, это никакое не совпадение! – заявил Нидайин, помощник заведующего Департаментом связи. – Телеграмма пришла буквально через несколько часов после нашего сообщения о случившемся! В Министерстве узнали и отреагировали.
– Но почему КП? Они б еще сантехника прислали. Или арфиста…
– А вдруг, – протянул Нидайин, – этот господин Тивани никакой не культурный посол? Мало ли кто он на самом деле!
– Ты на что это намекаешь? – испугался Питри, и у него нестерпимо зачесалась голова под тюрбаном. – Ты намекаешь, что официальная телеграмма содержит ложные сведения?!
А Нидайин только вздохнул и покачал головой:
– Ох, Питри. И как тебя только в Министерство взяли?
И теперь Питри стоит, мерзнет и мрачно думает: «Ненавижу тебя, Нидайин. Вот увидишь, когда‑нибудь я приглашу твою красавицу‑девушку на танец, и она без памяти влюбится в меня, и ты придешь домой и наткнешься на нас, мокрых и счастливых, в спальне, и подлое твое сердце пронзит страшная боль!»
Впрочем, что тут думать? Сглупил он, сглупил. Нидайин‑то хотел сказать, что у этого Тивани просто удостоверение КП выправлено, а на самом‑то деле он тайный секретный агент, под прикрытием работающий на вражеской территории! Такие люди изничтожают врагов родины и в зародыше подавляют сопротивление сайпурским властям, да. Мысленному взору Питри тут же предстает крепко сбитый бородач, крест‑накрест перетянутый патронташем со взрывчаткой, в зубах у него тускло блестит кинжал, испробовавший немало крови в темных закоулках… Чем больше Питри о таком думает, тем больше он боится загадочного Тивани. А вдруг он выскочит из вагона подобно огнеглазому джиннифриту и заплюет его, Питри, черным ядом из острозубой пасти?! Очень, очень страшно все и непонятно…
С востока доносится гул. Питри оборачивается к городским стенам – вот оно, крошечное отверстие у самого их подножия. Отсюда оно кажется проточенной червем дырочкой, а на самом деле это туннель в тридцать футов высотой!
В черном зеве тоннеля вспыхивает свет. Следом доносится грохот и скрежет, и из отверстия вырывается поезд.
Хотя какой это поезд – одно название: старый, на ладан дышащий паровоз тащит одинокий хлипкий вагончик. Ни дать ни взять шахтерская вагонетка, в такой только между терриконами кататься. Да уж, неподходящее средство передвижения для дипломата. Даже для культурного посла неподходящее.
А поезд тем временем с лязгом останавливается у платформы. Питри тут же подскакивает к дверям вагона, выпятив грудь и элегантно заложив руки за спину. Как он выглядит? Все пуговицы застегнуты? Тюрбан на сторону не съехал? Эполеты начищены? А кто их знает, может, и нет! И Питри судорожно облизывает палец и принимается натирать золоченое шитье. Тут дверь с диким скрипом отворяется, и там…
Красное. Нет, какое красное – бордовое. Там все бордовое, словно занавеску в проеме повесили. Занавеска сдвигается, и изумленному взгляду Питри предстает что‑то длинное, белое и с пуговицами посередине.
Оказывается, это вовсе не занавеска. Это грудь мужчины в темно‑бордовом пальто. Да не просто мужчины – а настоящего гиганта, Питри раньше таких видеть и не доводилось!
Гигант распрямляется и выдвигается из вагона. Ноги его бухают по доскам, обрушиваются на дерево подобно жерновам. Питри отшатывается назад – экая громадина! На ногах у незнакомца чудовищного размера черные сапоги, по голенищам их метет длинное бордовое пальто, рубашка расстегнута, шейного платка нет и в помине, а на голове красуется широкополая серая шляпа, лихо, по‑пиратски, надвинутая на один глаз. Правая рука затянута в мягкую серую перчатку, на левой – только плетеный золотой браслет. Странно, зачем ему женская побрякушка?.. Росту в нем поболее, чем шесть с половиной футов, в спине и в плечах он невероятно широк, но тело поджарое, ни единой унции жира. И лицо худощавое, голодное какое‑то. Кстати, о лице – ничего себе внешность у сайпурского посла! Кожа белая, испещренная розовыми шрамами, борода и волосы бледно‑золотистые, а глаза – точнее, глаз, ибо глаз у незнакомца один, на месте второго зияет темный, прикрытый веком провал – тоже бледный‑бледный, ледяного серого цвета.
Дрейлинг он. Северянин. Как это ни удивительно, но посол оказался дикарем‑горцем, чужаком и для Сайпура, и для Континента.
Вот это Министерство отреагировало… И если это действительно их реакция, жди беды…
Гигант окидывает Питри ровным, равнодушным взглядом, словно бы прикидывая: наступить на этого мелкого сайпурца, раздавить как букашку – или повременить?
Питри сгибается в осторожном поклоне:
– Рад видеть вас, посол Тивани, в ч‑чудесном городе Мирград! Меня зовут Питри Сутурашни. Надеюсь, вы хорошо доехали?
Молчание.
Застывший в поклоне Питри осторожно приподымает лицо и косится. Гигант разглядывает его, вздернув бровь, удивленно и чуть презрительно.
Откуда‑то из‑за спины гиганта доносится звук – кто‑то прочищает горло. Гигант, ни полслова не говоря, разворачивается и топает к будке станционного смотрителя.
Питри задумчиво чешет в голове и смотрит ему вслед. Покашливание повторяется, и тут до него доходит, что в дверях вагона стоит еще кто‑то.
Это маленькая, ростом даже ниже Питри, сайпурка. Темнокожая, очень просто одетая: голубой пиджак и платье – впрочем, платье приметное, сайпурского кроя. На носу у нее очки, и она внимательно смотрит на него через толстенные линзы. На женщине легкий серый плащ, голубая шляпка с узкими полями и бумажной орхидеей на тулье. Какие‑то у нее глаза не такие… У гиганта взгляд невероятно спокойный, прямо до дрожи неживой, а у нее все наоборот: глаза большие, темные, они подобны глубоким колодцам, в которых плещутся рыбы.
Тут женщина улыбается. Улыбка у нее не то чтобы приятная или неприятная – она как превосходное серебряное блюдо, которое выставляют по большим праздникам, а потом начищают и убирают в шкаф.
– Благодарю, что встретили меня в такой поздний час, – говорит она.
Питри смотрит на нее, потом на гиганта – тот, кстати, как раз протискивается в будку к смотрителю, и смотритель явно нервничает.
– П‑посол Тивани?
Она кивает и сходит на перрон.
Женщина?! Этот загадочный Тивани – женщина?! Но почему же они…
О, будь проклят Департамент связи! Чтоб им провалиться, сплетникам и лгунам!
– Полагаю, что Главный дипломат Труни, – невозмутимо продолжает женщина, – занят ликвидацией последствий убийства? В противном случае он бы встретил меня лично, не правда ли?
– Э‑э…
Вообще‑то он, Питри, не в курсе того, чем занят ГД Труни. Ему до ГД Труни как до звезд небесных, но не признаваться же в этом вслух?
А она все так же смотрит на него сквозь очки. Медленно смигивает. На Питри накатывает тишина, подобная океанскому приливу, и эта тишина заливает его с головой. Он пытается что‑то придумать, что‑то сказать – и выдавливает наконец:
– Рад видеть вас в Мирграде!
Нет, нет, неправильно, не так! Но не молчать же? И он глупо договаривает:
– Надеюсь, вы хорошо доехали?
Нет! Что он несет, что он несет!
Она некоторое время молча смотрит на него и наконец произносит:
– Вас зовут Питри, так вы сказали?
– Д‑да.
За спиной раздается крик. Питри оборачивается и смотрит на того, кто кричит, а Тивани нет – она продолжает разглядывать Питри, как диковинного жука. А Питри видит, как гигант выдирает у станционного смотрителя из рук какую‑то штуку – это какой‑то планшет, да. А смотрителю это явно не нравится. Гигант склоняется над ним, снимает с правой руки серую перчатку и разжимает пальцы, показывая… что‑то. Смотритель, только что багровый, как свекла, мгновенно бледнеет. Гигант отдирает какую‑то бумажку, возвращает планшет смотрителю и выдвигается из будки.
– Кто… это?
– Это мой секретарь, – безмятежно отзывается Тивани. – Сигруд.
Гигант вынимает спичку, чиркает ее о ноготь большого пальца и подпаливает бумажку.
– С‑секретарь? – выдавливает Питри.
Пламя лижет пальцы гиганта, но тот ничем не выдает боли. Если он ее вообще чувствует… А когда бумажка окончательно прогорает, он дует на нее. Р‑раз – и полетели, полетели огненные бабочки пепла по платформе. Потом гигант натягивает серую перчатку и обводит станцию холодным, спокойным взглядом.
– Да, – отвечает Тивани. – А теперь, если вам нетрудно, не могли бы мы отправиться непосредственно в посольство? Уведомило ли посольство официальных лиц Мирграда о моем прибытии?
– Э‑э‑э…
– Понятно. Находится ли тело профессора на территории посольства?
У Питри голова идет кругом. А в самом деле, куда девают тело, когда оно умирает? С духом‑то все понятно, а вот с телом‑то что происходит?
– Понятно, – вздыхает Тивани. – Вы на машине приехали?
Питри кивает.
– Отлично. Идемте же к машине.
Питри снова кивает. А голова все равно идет кругом! И вот он ведет госпожу Тивани через длинные тени перрона в улочку, где стоит машина. И все оборачивается и оборачивается, смотрит и не верит своим глазам.
Это что же, они ее, что ли, сюда прислали?! Вот эту девчонку? Серую мышку с тоненьким голоском? Сюда, в логово врага, оплот ненависти? Ее же к утру сожрут и косточками плюнут…
Даже сейчас, после многолетних разысканий и изучения предметов культуры, мы не в состоянии восстановить их зримый облик. Скульптуры, картины, фрески, барельефы и резные панно либо непоследовательны в их представлении, либо слишком абстрактны. Так, Колкана изображали и как гладкий камень в тени дерева, и как темную гору в свете яркого солнца, и даже как глиняного человека, сидящего на вершине горы. И тем не менее четкие визуальные образы дают нам более ясное представление, чем те, где объекты нашего исследования возникают в виде абстрактных рисунков или цветовых узоров, едва намеченных кистью художника. Так, к примеру, если верить древним живописцам Континента, Божество Жугов являлось в облике стаи скворцов – ни больше ни меньше.
Данные исследований отрывочны, и мы не можем сделать никаких определенных выводов, исходя из этих сведений. Действительно ли запечатленные скульпторами и художниками существа представали перед людьми в таком облике? Или мы имеем дело с ограничениями человеческого восприятия, и произведения древних мастеров свидетельствуют об опыте, отличном от обычного зрительного?
Возможно, жители Континента не были в состоянии полностью осмыслить представавшее их глазам. А теперь, когда Божества мертвы, мы так никогда и не узнаем правды.
Проходит время, и все замолкают – и люди, и вещи. И боги, похоже, не исключение.
Д. Ефрем Панъюй. Искусство Континента: его сущность и особенности
Свет цивилизации
Она едет и смотрит по сторонам.
Она смотрит на полуобрушенные арки, на просевшие, некогда могучие своды, на проржавевшие шпили и путаные улочки. Смотрит на потускневшие ажурные узоры на фасадах, на пестрые изразцы провалившихся куполов, темные от сажи стекла тимпанов, перекошенные, через одно битые окна. Смотрит на людей – худых от недоедания, оборванных, рахитичных. Как они шныряют по длинным галереям, жмутся в тени дверных ниш – нищие города призрачной славы, города сгинувших диковин. Она смотрит и видит то, что ожидала увидеть, и все же… вид унылых развалин тревожит воображение, и оно живо рисует город таким, каким он был семьдесят, восемьдесят, девяносто лет назад…
Мирград. Град, Стеной обнесенный. Святейшая гора. Престол мира. Город лестниц.
Она, кстати, так никогда и не понимала – при чем тут лестницы? Стены, горы, престолы – понятно, звучит величественно. Но лестницы?
А вот теперь Ашара – или просто Шара, как она предпочитает зваться, – наконец понимает, при чем тут лестницы. Ибо они тут повсюду: вьются в воздухе, ведут в никуда, вздымаются огромными холмами, уводя вверх прямо с тротуаров, переплетаются на разной высоте, как ручьи на лесном склоне, нежданно возникают перед глазами, подобно водопадам и белопенным потокам, и буквально через несколько ярдов открывается нежданный и захватывающий вид…
Наверное, это новое имя. Его могли дать только после Войны. После того, когда все… исчезло.
Так вот как выглядит Миг. Точнее, его последствия…
Интересно, куда вели все эти лестницы раньше, до Войны? Явно не туда, куда сейчас. Просто не верится, что она здесь, что она приехала сюда, что это происходит именно с ней…
Мирград. Город Богов.
Она смотрит в окно машины, и перед ней проплывает город – некогда столица мира, а ныне место запустения и погибели. Но жители упорно отказываются покидать его – Мирград до сих пор третий или четвертый город в мире по населенности. Хотя раньше он был гораздо, гораздо больше… И почему они держатся за эти руины? Зачем живут в опустевшем, выпотрошенном городе, среди вечного холода и теней прошлого?
– У вас глаза не болят? – вдруг спрашивает Питри.
– Простите?.. – удивляется Шара.
– Проблем со зрением не возникает, нет? У меня, знаете ли, иногда прям плывет все перед глазами – поначалу‑то, когда я только приехал, такое часто случалось. Знаете, смотришь вот так вокруг, и вдруг, в некоторых местах… словом… что‑то там не так, в этих местах. И прямо мутит тебя от этого. Говорят, раньше такое сплошь и рядом случалось, а сейчас уже пореже.
– И на что это похоже, Питри? – спрашивает Шара, хотя ответ ей известен: об этом феномене она много, очень много читала. И слышала о нем тоже много.
– На что похоже?.. Даже не знаю, как сказать… Словно бы в стекло смотришь.
– В стекло?
– Нет, ну не в стекло, конечно. А словно бы в окно. Но окно это выходит на какое‑то место, а места этого больше нет. Не знаю, как сказать точнее… В общем, увидите – сами все поймете.
Историк в ней борется с оперативником: «Нет, ты только посмотри на эти арки, на названия улиц, на зазубрины на стенах, смотри, вот тут здание волной пошло» – хлопает в ладоши историк. «Наблюдай за людьми, за их походкой, подмечай, как они оглядываются» – это уже оперативник. А улицы, кстати, почитай что пусты – с другой стороны, это логично, время уже за полночь. Здания все низкие, маленькие… Машина выбирается на горку, с нее открывается вид на город – сплошь плоские крыши, жмущиеся к земле дома. И так до самых Стен. Надо же, ни одного высокого здания, как непривычно…
А ведь раньше здесь возносились к небу величественные строения. До Войны. А теперь перед глазами пусто – ни шпиля, ни башни. Неужели все это взяло и исчезло в одно мгновение?
– Вы, наверное, в курсе, – говорит Питри, – но в окрестностях посольства лучше передвигаться на машине. Район вокруг… не самый хороший. Люди говорят, что, когда посольство въехало в здание, народ поприличнее быстренько перебрался в другие районы. Говорят, рядом с шалотниками жить не хотели…
– Ах, ну да… – бормочет Шара. – Я и забыла, что они нас так здесь называют.
Конечно, шалотники, – ведь мы, сайпурцы, этот шалот куда только не кладем! С другой стороны, могли бы и поточнее обзываться: ведь настоящий сайпурец луку‑шалоту твердо предпочитает чеснок.
Шара косится на Сигруда. Тот смотрит прямо вперед – во всяком случае, так кажется. Понять, на что смотрит Сигруд в какой‑то конкретный момент, обычно нелегко. Он сидит совершенно неподвижно, излучая презрительное равнодушие к окружающим – истукан истуканом. Так или иначе, но зрелище его явно не впечатляет. Мирград ему неинтересен. Очередной город из очередной поездки, угрозы нет, его, Сигруда, вмешательства не требуется. Вот Сигруд и не обращает на город никакого внимания.
Так, надо сосредоточиться – следующие несколько часов обещают быть очень нелегкими. Предстоит разобраться с парой заковыристых дел. А еще Шара пытается прогнать мысль, назойливо бьющуюся в голове со вчерашнего дня. С той самой минуты в Аханастане, когда в ладони ей легла лента телеграфа. Она пытается прогнать эту мысль и не может.
«Бедный мой Ефрем… Как такое могло с тобой случиться?»
* * *
Кабинет ГД Труни похож на обычный чиновничий кабинет в Сайпуре. Вот только обставлен он с крикливой роскошью: жалюзи темного дерева, на полу ковер с цветочным рисунком, светло‑синие стены, над столом – медные лампы с яркими плафонами наборного стекла. Со стены свешивает крупные листья родной сайпурский папоротник «слоновье ухо», хрупкие волнистые листья серо‑зеленой волной струятся из выстланного мхом вазона. А под папоротником кипит на крохотной свечке чайничек с водой – из носика поднимается струйка пара и увлажняет растение, привычное к тропическому климату. Какая уж тут метизация культур, не говоря о тесном взаимодействии на уровне искусства и науки, ведущем к укреплению межрегиональных связей, – и в помине здесь нет того, о чем так громко заявляют на заседаниях министерских комитетов в далеком Сайпуре.
Однако то, как обставлен этот кабинет, – далеко не самое страшное. Самое страшное висит на стене за письменным столом.
Шара смотрит на стену и не может отвести глаз – гипнотическая притягательность ужасного, ничего не поделаешь. В душе поднимается ярость: как?! Как можно быть таким идиотом?!
Труни размашистым шагом входит в кабинет. Выражение лица у него трагически‑мрачное, словно бы это он умер, а не Ефрем.
– Культурный посол Тивани, – приветствует он гостью.
Выставляет вперед левую ногу, вскидывает правое плечо и отвешивает картинно‑вежливый поклон:
– Вы оказали нам честь своим визитом, пусть нынешние обстоятельства и омрачают радость от вашего прибытия.
Интересно, какую подготовительную школу он посещал в Сайпуре? Естественно, она ознакомилась с его досье и лишний раз убедилась в том, что бесперспективных в силу своей тупости отпрысков влиятельных семейств распихивают по сайпурским посольствам за границей. А ведь этот глупец уверен, что она из точно такой же семьи, – потому и старается произвести впечатление.
– Пребывание здесь – честь для меня.
– И для нас тоже. Мы…
Тут Труни подымает взгляд и обнаруживает, что в кресле в углу развалился Сигруд. Сидит себе спокойненько и набивает трубку.
– Э‑э‑э… К‑кто это?
– Это Сигруд, – отвечает Шара. – Мой секретарь.
– Его присутствие обязательно?
– Сигруд – мой помощник во всех делах. В том числе конфиденциальных.
Труни внимательно разглядывает его:
– Он глухой? Тупой?
Сигруд косится на него одним глазом. Затем возвращается к своему занятию.
– Ни то ни другое.
– Ну что ж… – говорит Труни. Промакивает лоб платком и берет себя в руки. – Что ж, как вижу, профессор оставил после себя достойную память, – и он усаживается за стол, – если министр Комайд немедленно выслала служащего за его останками. Вы ведь всю ночь провели в дороге?
Шара кивает.
– Батюшки мои, какой ужас! Где чай?! – вдруг ни с того ни с сего орет он. – Где чай, я вас спрашиваю?!
И он хватает со стола колокольчик и звонит, звонит в него с перекошенным лицом, а потом еще и долбит им по столу, требуя немедленного исполнения приказа. В комнату бочком протискивается девушка не более пятнадцати лет от роду, в руках у нее огромный, как линкор, поднос с чаем.
– Ты где запропастилась?! – рявкает он. – Не видишь – у нас гостья!
Девушка испуганно опускает глаза и разливает чай по чашкам. Труни поворачивается к Шаре, словно бы они одни в комнате:
– Я так понимаю, вы были поблизости, в Аханастане? Преотвратный город – во всяком случае, таково мое личное мнение. Там полно чаек, а эти мерзкие птицы – прирожденные воры. А местные берут с них пример!
Небрежным движением двух пальцев он отсылает девушку, которая низко кланяется, прежде чем попятиться к двери.
– Однако же наш долг – принести им свет цивилизации. Я имею в виду – местным, а не чайкам, конечно.
И он счастливо смеется собственной шутке.
– Не хотите ли чаю? Это наш лучший сирлан!
Шара натянуто улыбается и отрицательно качает головой. На самом деле она жить без кофеина не может и многое бы отдала за чашку чаю, но провалиться ей на этом месте, если она примет от ГД Труни хоть что‑нибудь.
– Как угодно. В Мирграде – уверен, вы об этом наслышаны, – все по‑другому. Кое‑что здесь неустанно сопротивляется нашему влиянию, и я имею в виду не только городские стены. Помилуйте, всего три месяца назад губернатору полиса пришлось вмешаться и помешать расправе над женщиной, которая сошлась с другим мужчиной, – прошу прощения, что вынужден говорить о таких неприличных вещах с молодой девушкой, но они хотели повесить эту женщину за то, что она сошлась с другим мужчиной, после того как умер ее муж! Причем этот несчастный муж умер много лет назад! Отцы Города остались глухи к моему мнению, но Мулагеш они… – Тут он осекается: – М‑да. Не странно ли, что город, наиболее пострадавший в прошлом, так упорно противится всему новому?
Шара улыбается и кивает:
– Полностью согласна с вами.
Над его плечом висит эта картина, и она прямо‑таки притягивает ее взгляд…
– Так, значит, останки доктора Панъюя находятся в этом здании?
– Что? Ах да. – Он пытается прожевать только что откушенный кусок печенья. – Простите… да, да, тело здесь. Какой кошмар! Ужасная трагедия.
– Могу ли я осмотреть его перед отправкой?
– Вы хотите осмотреть останки? Но они… прошу прощения, но труп выглядит, мгм, крайне непрезентабельно.
– Я в курсе обстоятельств его смерти.
– Вот как? А вы в курсе, что это была страшная смерть? Насильственная! Ужасная смерть, девочка моя.
Девочка моя, значит. Ну‑ну.
– Мне уже сообщили об этом. Но я должна осмотреть тело.
– Вы уверены?
– Абсолютно.
– Ну что ж… мгм.
И он расплывается в любезнейшей из улыбок.
– Вот что я вам скажу, девочка моя. Я вас очень хорошо понимаю, ибо сам был таким же: молодой КП, патриот своей страны, изображал бурную деятельность в этом политическом цирке… Вы меня понимаете – старался изо всех сил, чтобы меня заметили. Но, поверьте мне, все это впустую. Это как обрывать телефон, когда вас никто не слушает. На другом конце провода просто никого нет. Усвойте это. Министерству попросту не до культурных послов, они никому там не сдались. Это что‑то вроде дедовщины, моя дорогая: пока не отслужил свое – не мельтеши. Так что не утруждайте себя лишний раз. Займитесь лучше чем‑нибудь более приятным и полезным. Уверен, скоро они пришлют разбираться с этим делом кого‑нибудь посерьезнее.
Шара даже не сердится: ярость перекипела и уступила место жалостливому изумлению. Думая над достойным ответом, она обводит глазами комнату – и перед ней опять оказывается эта картина.
Труни примечает, куда она смотрит:
– Ах! Вижу, вам пришлась по душе жемчужина моей коллекции.
И он вальяжно указывает на полотно:
– «Ночь Красных Песков» Ришны. Работа, исполненная подлинно патриотического духа. Не оригинал, к сожалению, копия, но очень старинная. И весьма точная.
Хотя Шаре многажды приходилось видеть эту картину – еще бы, в Сайпуре она висит чуть ли не в каждой школе и ратуше – она, тем не менее, пробуждает в ней мучительное любопытство и смутную тревогу. На картине изображено поле битвы – бескрайние пески ночной пустыни. На ближайшей к зрителю гряде барханов выстроилась немногочисленная и убого экипированная армия сайпурцев. А напротив – впечатляющая стена закованных в броню мечников. На них тяжелые, сверкающие, массивные доспехи, полностью закрывающие тело, забрала шлемов – разевающие в яростном крике пасть демоны, мечи потрясают воображение своей длиной – футов шесть, не меньше, и каждый клинок горит холодным огнем. Словом, глядя на картину, сразу понимаешь: сейчас эти стальные воины врежутся в строй нищих, оборванных сайпурцев и пройдут через него, как нож через масло. И все же что‑то испугало этих несгибаемых меченосцев – все взгляды обращены на сайпурца, который стоит на вершине высокого бархана позади строя своих воинов. Храбрец в развевающемся на ветру плаще – предводитель убогого войска, несомненно. И в руках у него странное оружие: ствол длинный и тонкий, хрупкий, как тельце стрекозы, и из дула его вырывается огненный шарик, летящий по дуге над головами вражеских солдат. И крохотный этот снаряд попадает в…
Во… что‑то непонятное. Возможно, в человека – только огромного и укрытого тенью. Трудно разглядеть фигуру: возможно, художник и сам не знал, как выглядело то, что он хотел нарисовать.
Шара разглядывает предводителя сайпурцев. Естественно, она в курсе, что картина грешит историческими неточностями: кадж на самом деле стоял перед строем сайпурцев в Ночь Красных Песков, и он не стрелял лично. Он вообще предпочел держаться подальше от оружия. Некоторые историки, насколько она помнит, считают, что это был акт личного мужества, другие полагают, что кадж, на самом‑то деле, еще не имел случая применить свое экспериментальное оружие на деле и не знал, чем все закончится – успехом или тотальной неудачей. На случай неудачи он и держался подальше – мало ли что. И тем не менее. Где бы он на самом деле ни стоял, именно в момент того судьбоносного выстрела все и началось.
Так. Довольно вежливости.
– Вы именно в этом кабинете принимаете Отцов Города, посол? – спрашивает Шара.
– Мммм… в смысле? Ах да, конечно.
– Увидев эту картину, они что‑нибудь говорили?
– По правде говоря, не припоминаю. Хотя временами они просто застывали, глядя на нее. Я полагаю, от восхищения. Великолепная работа, не находите?
Она улыбается:
– Главный дипломат Труни, знаете ли вы, с какой целью в этот город прибыл профессор Панъюй?
– Э‑э‑э‑э… в смысле… да, конечно, знаю. Переполох поднялся знатный! Он же полез во все эти их пыльные старые музеи, разворошил все эти старинные свитки… Письма так и сыпались. Я даже сохранил некоторые…
И он начинает рыться в ящике стола.
– А вы в курсе, что решение о поездке принимала министр иностранных дел Винья Комайд?
– Да, и что?
– В таком случае вы, должно быть, осознаете, что расследование смерти профессора и ее обстоятельств не входит в сферу полномочий посольства, губернатора полиса и даже регионального губернатора, а осуществляется непосредственно Министерством иностранных дел?
Глазки цвета птичьей неожиданности забегали – задумался, этажи иерархии просчитывает.
– Ну… да, это было бы логично…
– В таком случае имею вам сообщить, – чеканит Шара, – что мое звание культурного посла в данном случае – техническая формальность.
Усы Главного дипломата приходят в судорожное движение. Труни стреляет глазками в Сигруда, словно бы пытаясь удостовериться, правда ли это, но тот неподвижно сидит в кресле, сплетя пальцы.
– Т‑техническая формальность?
– Именно. А поскольку, как я вижу, вы склонны считать мое появление в Мирграде чем‑то вроде технической формальности, вынуждена вам сообщить, что мой приезд вызван совершенно иными причинами.
И она запускает руку в свою сумочку, вынимает кожаный медальон и пододвигает его к Труни. Тот мгновенно узнает аккуратный оттиск герба Сайпура по центру и скромные буковки по низу: МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ.
Увиденное не сразу вмещается Главному дипломату в голову. Потом он выдает ошеломленное:
– Ничесе… м‑да.
– Итак, – цедит Шара, – вы теперь в курсе, что перед вами – ваше непосредственное начальство.
И она тянет руку к колокольчику, решительно берет его со стола и оглушительно звонит. В кабинет входит давешняя девушка и явно не знает, как себя вести, потому что вместо босса к ней обращается Шара:
– Бригаду сюда. Немедленно снять и вынести эту картину.
Труни вскипает, брызгая слюной:
– Что? Что вы хотите этим сказать, снять и…
– Я хочу этим сказать, – жестко перебивает его Шара, – что собираюсь придать этому кабинету достойный вид. Чтобы люди входили сюда и видели, что здесь сидит ответственный работник. И начну я непосредственно с этой картины – потому что она представляет в несоответствующем романтическом виде трагический момент истории Континента, за которым последовало грандиозное кровопролитие.
– Еще бы! Между прочим, это великий момент для нашего народа, сударыня…
– Да. Для нашего народа – да. А для их народа – нет. И вот что я вам скажу, господин Труни. Я практически уверена, что причина тому, что Отцы Города не прислушиваются к вашему мнению и не уважают вас, а в последние пять лет – если вы обратили на это внимание! – вы не получили никакого повышения, так вот причина этим неприятностям – только одна! Вы умудрились повесить у себя в кабинете картину, которая оскорбляет и приводит в ярость – да, господин Труни, в ярость! – людей, с которыми вы должны были сотрудничать. Сигруд!
Гигант мгновенно оказывается на ногах.
– Поскольку обслуживающий персонал, похоже, медленно реагирует на команды, которые отдает не господин Труни, на них отреагируешь ты! Немедленно сними со стены эту картину и сломай – да, именно сломай ее! – об колено! И, Труни, – присядьте. Нам нужно обсудить условия вашей отставки.
* * *
Вышвырнув наконец Труни, Шара возвращается к письменному столу, наливает себе большую чашку чая и выпивает ее. До дна. И да, она очень довольна, что картину убрали. Пусть это и непатриотично, но она довольна. И чем дольше она работает на Министерство, тем отвратительней такие проявления шовинизма.
И она поднимает взгляд на Сигруда. Тот заседает в уголке, водрузив ноги на письменный стол. В руках у него обрывок изничтоженного холста.
– Что скажешь? – говорит она. – Я не перегнула палку?
Он отвечает ей красноречивым взглядом: мол, сама‑то как думаешь?
– Ну и замечательно, – говорит Шара. – Я даже рада это слышать. Сказать по правде, я получила огромное удовольствие.
Сигруд вежливо откашливается и произносит своим голосом дикаря, голосом дыма и грязи, с акцентом, бьющим по ушам, как кувалда:
– Кто такая Шара Тивани?
– Мало кому известный культурный посол, ее отправили проходить службу в Жугостан шесть лет тому назад. Она погибла – несчастный случай на воде. Но девушка проявила недюжинные бюрократические способности: все инстанции завалены ее отчетами. И когда истек срок ее допуска, и пришло время вычеркнуть ее из ведомостей, я решила не спешить с этим. И воспользовалась ее документами.
– Потому что вы тезки?
– Возможно. Но мы и в другом похожи. Скажи честно: разве я не выгляжу так же? Мелкая серая мышка? Безобидная чинуша‑бумагомарака?
Сигруд криво усмехается:
– Никто не поверит, что ты – КП и мышка. Ты же Труни уволила.
– А я и не хочу, чтобы верили. Я хочу, чтобы они не знали что и думать. Беспокоились. Гадали, кто я такая на самом деле.
И она подходит к окну и оглядывает затянутое дымом печных труб небо. Если разворошить гнездо шершней, они вылетают и бросаются на тебя. Но, по крайней мере, у тебя есть шанс разглядеть каждого из этих шершней.
– Ну, если тебе так уж охота, чтобы они вылетели и бросились, – усмехается Сигруд, – назвалась бы своим настоящим именем.
– Я сказала, что хочу разворошить гнездо, а не погибнуть смертью храбрых.
Сигруд насмешливо улыбается и принимается разглядывать обрывок холста.
– Что ты там хочешь увидеть? – удивляется Шара.
И он разворачивает обрывок к ней. Оказывается, это часть картины, на которой изображен кадж: строгий патрицианский профиль, освещенный вспышкой выстрела.
Сигруд гудит:
– Даже я заметил фамильное сходство.
– Прекрати! – рявкает Шара. – И убери это наконец!
Сигруд улыбается, сворачивает обрывок картины и вышвыривает его в мусорную корзину.
– Вот и хорошо, – кивает Шара.
И наливает себе вторую чашку чаю. Все тело ликует.
– Ну что ж, теперь пора браться за дело. Пожалуйста, пригласи сюда Питри.
И, уже тише, добавляет:
– Нам надо осмотреть тело.
* * *
В комнатке жарко, душно, пусто. К счастью, разложение еще не затронуло тело, и здесь не пахнет. Шара смотрит на то, что лежит на койке. На свешивающуюся тонкую ногу. Словно бы Ефрем взял и прилег подремать…
Она не видит своего героя. Не видит щуплого, тихого и милого человека, с которым она когда‑то познакомилась. Она видит запекшуюся, ободранную плоть, почти утратившую сходство с человеческим лицом. Конечно, потом она видит что‑то знакомое: тонкую, как у птицы, шею, льняной костюм, длинные точеные запястья и пальцы и, конечно, конечно, его нелепые яркие носки… Но это не Ефрем Панъюй. Нет. Не он.
Она касается лацканов пиджака – их как в лапшу нашинковали.
– Что случилось с его одеждой?
Питри, Сигруд и охранник наклоняются посмотреть.
– Простите? – спрашивает охранник.
Поскольку в посольстве нет морга, бренные останки доктора Ефрема Панъюя перенесли в сейфовое хранилище. И теперь они лежат здесь на кушетке, подобно ценному грузу, дожидающемуся официального разрешения на вывоз. Впрочем, в каком‑то смысле это так и есть.
– Посмотрите на его одежду, – говорит Шара. – Швы, манжеты – все вспорото. Даже на брюках манжеты – и те взрезали.
– И что?
– Вы получили тело в таком состоянии?
Охранник удостаивает тело подозрительного взгляда:
– Ну мы точно ничего с ним не делали.
– В таком случае это сделала мирградская полиция?
– Ну… наверное… Простите, госпожа, я не очень‑то в курсе.
Шара стоит неподвижно. Она, конечно, видела такое раньше. И даже сама проводила досмотр, пару раз точно: чем больше на человеке надето, чем больше на одежде карманов, подкладок, отворотов и манжет, тем проще спрятать конфиденциальные материалы.
И тут, безусловно, напрашивается очевидный вопрос. С чего бы кому‑то в Мирграде думать, что историку, прибывшему в город с дипломатической миссией, есть что прятать под манжетой?
– Вы можете идти, – говорит она.
– Что?
– Можете оставить нас.
– Ну… Это хранилище для особо ценных предметов, госпожа. Я не могу вас просто взять и оставить…
Шара поднимает на него глаза. Может, усталость или горе растопили всегдашнюю бесстрастность или усвоенная от поколений предков привычка отдавать приказы дала себя знать – так или иначе, охранник смущенно покашливает, чешет за ухом и быстренько обнаруживает какое‑то срочное дело в коридоре.
Питри направляется следом, но она останавливает его:
– Нет, Питри. Ты останься. Пожалуйста.
– Вы уверены?
– Абсолютно. Мне хотелось бы выслушать мнение сотрудника посольства. Пусть и не облеченного особыми… полномочиями.
И она оборачивается к Сигруду:
– Что скажешь?
Сигруд склоняется над худеньким телом. Внимательно осматривает череп – ни дать ни взять эксперт, устанавливающий подлинность картины. К явному неудовольствию Питри, Сигруд поддевает кусочек кожи и разглядывает проломы в черепе.
– Какой‑то рабочий инструмент, – выносит он свой вердикт. – Может, гаечный ключ. Что‑то с выступами.
– Уверен?
Тот кивает.
– То есть здесь – никаких зацепок?
Сигруд пожимает плечами. Может, никаких. А может, и есть какие‑то.
– Первый удар нанесли в лоб.
И он показывает на то, что некогда было левой бровью профессора.
– Отметины здесь глубокие. Остальные… не такие глубокие.
«Это мог быть любой инструмент, – думает Шара. – Любое оружие. И это мог сделать кто угодно».
Шара смотрит и смотрит на тело. И уже второй раз за ночь говорит себе: «Не обращаем внимания на частности, зрим в корень». Но… вот он лежит, ее учитель. С размозженным лицом. Тонкие запястья и шея. Рубашка. Галстук. Такие знакомые. Это тоже частности? Как на них не обращать внимания?
Одну секундочку. Одну секундочку. Галстук?..
– Питри… вам часто приходилось видеть профессора? – спрашивает она.
– Ну… я его видел, да. Но мы не были знакомы, если вы это имеете в виду.
– Тогда вы, наверное, не сможете припомнить… – осторожно формулирует она, – или сможете… давно ли профессор стал носить галстуки?
– Галстуки?.. Не знаю, госпожа…
Шара протягивает руку и подхватывает галстук за кончик. Какой он… Полосатый, красный и молочно‑белый. Шелковый, прекрасной выделки. Изыск северной моды, совсем недавно обретший популярность.
– Доктор Ефрем Панъюй, которого знала я, – тихо говорит она, – предпочитал шейные платки. Так принято в академических кругах, насколько я знаю. Профессура носит шейные платки – обычно оранжевые, розовые или красные. Цвета университета. А вот в галстуке я его не видела ни разу. Вы разбираетесь в галстуках, Питри?
– Мгм. Ну… немного. Их здесь все носят.
– Именно. Здесь. А не в Сайпуре. И не кажется ли вам, что это галстук необычно тонкой работы?
И она переворачивает его – поглядите, мол.
– Очень тонкая работа, да. И шелк такой… тонкий.
– Ну… да… А что?
Не отрывая взгляда от галстука, она протягивает Сигруду ладонь:
– Нож, пожалуйста.
В ручище гиганта мгновенно возникает что‑то тоненькое и блестящее – похоже на скальпель. Он вручает его Шаре. Та поправляет очки на переносице и низко склоняется над телом. Сквозь рубашку Ефрема просачивается слабый запах разложения. Шара старается не обращать на него внимания – это действительно частность. Неприятная частность, на которую нельзя отвлекаться.
Она пристально рассматривает белые полосы на шелке. «Нет, белые ему бы не подошли. Слишком заметно получилось бы…»
Вот оно – невероятно тонкая красная нить, едва заметные стежки на красном. Маленький квадрат, похожий на карманчик, на обратной стороне галстука.
Внутри белый лоскуток. Нет, не от галстука, от чего‑то другого. Она осторожно вынимает его и расправляет на свету.
Несколько строчек угольным карандашом – похоже на шифр…
– Им бы и в голову не пришло искать в галстуке, – тихо говорит она. – Особенно в дорогом галстуке. Они не ожидали от сайпурца такого трюка, правда? И он об этом прекрасно знал.
Питри изумленно таращится на вспоротый галстук.
– Где же он научился таким трюкам?
Шара отдает скальпель Сигруду.
– А вот это, – говорит она, – очень хороший вопрос.
* * *
В окно кабинета прокрадывается утренний свет, осторожно ползет по пустой столешнице и голому ковру, истыканному ножками вынесенной мебели. Шара подходит к окну. Как же странно: по идее, городские стены должны закрывать солнечный свет – во всяком случае, пока оно не стоит в зените, но она видит, как светило поднимается над горизонтом… Стены странно прозрачны, смотришь сквозь них – и солнце словно бы затянуто легкой дымкой.
«Как же звали того человека, – думает Шара, – что писал об этом?» Она прищелкивает пальцами, пытаясь вспомнить.
– Вочек, – наконец выговаривает она. – Антон Вочек. Точно.
Профессор Мирградского университета. Автор теории – старой, правда, он сформулировал ее несколько десятков лет тому назад. Тем не менее. Профессор настаивал: тот факт, что Чудесные Стены никуда не делись – а это самое старое и знаменитое чудо из многих чудес Мирграда, – указывает на то, что одно или даже несколько Божеств‑основателей города до сих пор в каком‑то смысле живы. Подобное нарушение СУ не осталось безнаказанным: естественно, профессор тут же ушел в подполье, и никто его с тех пор не видел. Тем не менее теория не снискала популярности у континентцев. Ибо, если Божества живы, логично спросить, где же они? Почему не спешат на помощь своему народу?
«Вот главная проблема с чудесами, – вспоминает она слова Ефрема. – Голая фактология. Либо чудо есть, либо его нет».
Словно только вчера они об этом говорили… А на самом деле – что‑то около года назад. Когда Ефрем Панъюй прибыл на Континент, Шара обучила его базовым техникам: экстренно эвакуироваться из опасного места, избегать слежки, преодолевать бюрократические препоны и – хотя она полагала это избыточным – как создавать и поддерживать тайники для обмена сообщениями. Дополнительные, так сказать, меры безопасности: мало ли что случится, сайпурцев на Континенте совсем не любят… Естественно, поручить такое Шаре – самому опытному из действующих на Континенте оперативников – было все равно, что отправить ее подтирать нос ребенку. Другие бы на ее месте обиделись на такое поручение, а она – она упорно добивалась, чтобы ей дали эту работу. Потому что из всех сайпурцев она больше всего почитала и уважала Ефрема Панъюя: реформатора, лектора и известнейшего историка. Ефрем Панъюй! Человек, которому Сайпур обязан новой концепцией своего прошлого, человек, воскресивший судебную систему Сайпура, человек, который вырвал сайпурские школы из рук богачей и подарил образование жителям трущоб. Так странно было сидеть напротив этого великого человека в Аханастане и смотреть, как он терпеливо кивает в ответ на ее объяснения: мол, когда на заставе в Мирграде требуют показать документы, на самом деле им нужны не документы, а банкнота в двадцать дрекелей. Шара надеялась, что голос не дрожал от благоговейного ужаса… Да уж, опыт совершенно ирреальный, но Шара бережно хранила это воспоминание в памяти. И гордилась им.
Она завершила инструктаж, и Ефрем отправился в Мирград. А она все гадала: встретятся они еще – не встретятся… И вот вчера на стол легла телеграмма: что его нашли мертвым. Точнее – нет. Не мертвым. Убитым. Это уже выбило ее из колеи, а обнаружив, что покойный умел прятать тайные послания в своей одежде – чему она совершенно точно его не учила! – Шара и вовсе не знала что и думать…
«Интересно, – думает она, – он точно здесь историческими разысканиями занимался?»
Шара трет глаза. Спина затекла – сколько в поезде ехали, еще бы… Но она смотрит на часы и думает, думает…
В Сайпуре уже без чего‑то восемь.
Шара очень не хочет этого делать. Она устала, в конце концов. Она слишком слаба. Однако, если не сделать это сейчас, потом придется дорого заплатить за промедление. Вроде бы ничего особенного – всего лишь короткая поездка в Мирград, не отчиталась – ну и что, простительный промах. Вот только из Сайпура такой промах может выглядеть как акт государственной измены.
И она приоткрывает дверь своего нового кабинета. В коридоре никого. Она закрывает дверь. Запирает ее на замок. Подходит к окну и закрывает наружные жалюзи – фух, как хорошо сразу стало. Все‑таки ее утомило странное, расплывчатое солнце. А потом она наглухо задвигает окно.
Шмыгает носом, разминает пальцы. Облизывает указательный и принимается писать на оконном стекле.
Шаре часто приходится нарушать закон. Работа такая. Но одно дело – нарушить законы страны, когда ты на вражеской территории. И совсем другое – проделать то, что Шара делает сейчас. В Сайпуре того, что она делает, смертельно боятся. А здесь, на Континенте, это запрещают, искореняют и всячески преследуют нарушителей. Хотя именно на Континенте впервые проделали это.
Ибо сейчас, непосредственно в кабинете ГД Труни, Шара собирается совершить чудо.
Как и всегда, почти ничего не замечаешь: легкое движение воздуха, холодок на коже, словно бы кто‑то дверь приоткрыл и сквозняком потянуло. Она выводит знак за знаком, и стекло под ее пальцем размягчается. Последние буквы она выписывает словно бы по воде.
Стекло стало другим: его заволокло инеем, а потом мороз отступает, однако через окно больше не видно жалюзи. В стене зияет дыра. И в дыре Шара видит другой кабинет, где за массивным столом тикового дерева сидит высокая красивая женщина и изучает содержимое толстой папки.
«Как непривычно себя ощущаешь, – мелькает в голове, – когда вот так вот берешь – и в прямом смысле меняешь мир…»
Вообще‑то Шара считает, что она выше подобных чувств, но все‑таки ее не на шутку сердит вот что: внушительные технологические достижения Сайпура по‑прежнему уступают большей части божественных фокусов. Божество Олвос совершала это маленькое чудо уже сотни лет назад: именно так Она могла заглянуть в одно замерзшее озеро и разговаривать с кем‑то другим через другое замерзшее озеро, где бы то ни находилось. Шара так и не сумела понять, почему это чудо срабатывает не только со льдом, но и со стеклом. Самая распространенная теория такова, что стекло на Континенте обозначалось словом, очень похожим на слово «лед», и из‑за этого лингвистического казуса чудо сработало и на той и на другой поверхности. Хотя… Божествам очень нравилось стекло, они использовали его в самых разных целях, подчас очень странных: так, они могли поместить вещь или даже человека в стекло шириной не толще волоска – прямо как солнечный луч в кристалл.
Женщина за истаявшим стеклом поднимает взгляд. Странная перспектива – словно в иллюминатор смотришь… На самом же деле по другую сторону стекла жалюзи, а за ним – пустота, стофутовый обрыв. Все это игра цвета и звука: где‑то в Галадеше, за Южными морями, в Сайпуре, из окна кабинета этой женщины выглядывает Шара, а за ее спиной проступают очертания комнаты ГД Труни.
Женщина вздрагивает от неожиданности, губы ее приходят в движение. Голос тоже слышен, далекий и резкий, как металлическое эхо в водосточной трубе:
– Ой! Ой!
– Можно подумать, вы ожидали увидеть кого‑то другого, – говорит Шара.
– Нет. Я ждала, когда ты выйдешь на связь, но не ожидала, что ты прибегнешь к… экстренным средствам связи.
«Экстренное средство связи» искажает голос, но даже так чувствуется, какой он низкий и хриплый. Прокуренный.
– Вы бы предпочли, чтобы я к нему не прибегала?
– Ты так редко используешь выданные тебе средства… – говорит женщина, поднимается и подходит к стеклу, – …по назначению.
– Вы правы. Потому что ситуация… не экстренная, – признает Шара. – Я хотела бы сообщить, что я… в общем, в Мирграде нужно кое‑что сделать. По линии оперативной работы.
Женщина в зеркале стекла улыбается. Несмотря на возраст, она все еще удивительно красива: локоны цвета воронова крыла рассыпаны по плечам, и только в падающей на лоб пряди видна седина. Хотя в ее годы многие женщины перестают следить за фигурой, дама в зеркале выглядит превосходно: все изгибы на месте, и это такие изгибы, которых у Шары нет и не будет. Но секрет обаяния тетушки Виньи не в красоте. Нет, все дело в глазах – они у нее большие, широко расставленные, темно‑карие. И смотрит тетушка Винья так, словно бы припоминает события долгой и бурной жизни. Жизни, которой можно до смерти позавидовать.
– Ну какая же это оперативная работа? – усмехается Винья. – Обычное дипломатическое поручение.
Шара с облегчением вздыхает – про себя:
– Как вы узнали?
– Документы на имя Тивани, – отвечает Винья. – Они у тебя много лет без дела лежали. Я обычно замечаю такие вещи. Когда кто‑нибудь, скажем так, утаскивает с фуршета в рукаве пару печенюшек. А потом это имя всплывает в ночь, когда приходят известия о судьбе бедняги Ефрема. Я верно поняла, чем ты там занимаешься?
«Зря я это сделала, – проносится в голове у Шары. – Я слишком устала для этого разговора».
– Шара, что на тебя нашло? – Голос тетушки звучит мягко и успокаивающе. – Ты же прекрасно знаешь, что я бы ни за что не разрешила тебе ехать.
– А почему нет? Остальные оперативники не успели бы прибыть так быстро. Я – самая подходящая кандидатура, чтобы вести расследование.
– Нет. Не самая. Потому что ты лично в нем заинтересована. Тебя с Ефремом связывают личные отношения. Для тебя найдутся другие дела. И да, ты обязана была уведомить меня, прежде чем ехать.
– Осмелюсь попросить вас проверить почту, – чеканит Шара.
Тень раздражения омрачает лицо Виньи. Она подходит к двери, опускает руку в щель почтового ящика и перебирает накопившуюся стопку депеш. И вытаскивает бумажный листок.
– Прибыло четыре часа назад, – говорит она. – Очень вовремя.
– Именно. Итак, – кивает сама себе Шара. – Все формальности соблюдены. Я не нарушила ни одной директивы. Я – самый старший по званию оперативник. И я прекрасно разбираюсь в материале. Лучше, чем я, историю Мирграда не знает никто.
– О да, – соглашается Винья. И снова подходит к стеклу. – Ты прекрасно разбираешься в истории Континента. Пожалуй, нет в мире человека, который знал бы больше об их мертвых богах. Ефрем знал больше, но он умер.
Шара опускает взгляд.
– Прости, – вздыхает Винья. – Я причинила тебе боль. Но ты должна понять… мне довольно трудно выказывать сострадание подобно обычному человеку. Даже в этом случае.
– Я знаю, – отвечает Шара.
Семь с лишним лет назад тетушка Винья заступила на должность министра иностранных дел. Она всегда была мотором и сердцем Министерства и всегда держала в руке нити важнейших решений. Просто в какой‑то момент настало время официально признать этот факт. Однако с тех пор, как она заняла руководящий пост, полномочия Министерства расширились, а сферы ответственности распространились… практически на все. Теперь Министерство присматривает и за торговлей, и за промышленностью, и за политическими партиями. Даже проблемами окружающей среды занимается. И теперь всякий раз, когда Шара оказывается рядом с Сайпуром – а это случается нечасто, – до нее доходят слухи, что Винья Комайд, матриарх знаменитой семьи Комайд, не просто большая шишка, а одна из самых больших шишек в галадешском политикуме, – так вот люди поговаривают, что она не прочь занять кресло премьер‑министра. При самой мысли об этом Шара волнуется и трепещет: а вдруг, если тетя займет высшую должность в Сайпуре – да что там в Сайпуре, в мире! – она сможет наконец‑то вернуться домой… Но что это будет за дом?..
– Если бы не ты обучала Ефрема, – говорит Винья, – если бы не ты вела его, не ты тестировала – а ведь ты сама вызвалась и проводила с ним так много времени… ты же сама все понимаешь, дочка. Если бы не это, я бы мигом тебя вызвала… Но кураторам нельзя заниматься делами, связанными со смертью их оперативников. Ты это тоже знаешь.
– Я не была его куратором. Я его только обучала.
– Согласна. Но и ты согласись: за тобой числится один серьезный проступок. Безответственное поведение, и причиной стала как раз личная заинтересованность.
Шара горько вздыхает:
– Я просто поверить не могу, что мы говорим об этой… истории. Сколько можно?
– Не мы, а я говорю. А ты отказываешься слушать. А в политических кругах мне эту историю припоминают до сих пор – всякий раз, когда я заговариваю о расширении финансирования.
– Это случилось семнадцать лет назад?
– Шестнадцать. Уж я‑то знаю. У избирателей короткая память. А у политиков – очень долгая.
– Но после того, как я уехала, разве я доставляла хоть какие‑нибудь неприятности? Ни одного скандала, ни одного нарекания. Вы же знаете меня, тетушка. Я прекрасный работник.
– Нет, сокровище мое, я не стану этого отрицать…
И Винья со вздохом замолкает. И глубоко задумывается.
Шара сидит с бесстрастным лицом, на котором, она надеется, невозможно ничего прочесть. Сидит и быстро перебирает в памяти свои реплики – что она успела сказать за эти пять минут. Беседа развивалась совсем не так, как она предполагала: Шара ждала, что тетя ее сурово отчитает, поскольку все выглядит так, словно она ненароком вмешалась в какую‑то глубоко секретную и весьма опасную операцию, участником которой, судя по всему, был Панъюй. Но пока тетушка Винья не подает виду и говорит о Панъюе словно тот обычный историк, которому дали поручение по дипломатической линии… «Что значит: либо она не в курсе, – думает Шара, – либо не хочет, чтобы я знала, что она в курсе».
Потому‑то Шара сидит и молчит. Если сидеть, молчать и смотреть, можно очень многое узнать – несмотря на все попытки собеседника скрыть истину. Винья, конечно, ее тетя. Но не бывает такого, чтоб начальник и находящийся у него в подчинении оперативный работник не ощущали себя в каком‑то смысле соперниками.
– Что ж, – говорит наконец Винья. – Что ж. Раз так, излагай. Что там сейчас за ситуация?
Интересно дело оборачивается. Ну ладно.
– Люди живут очень бедно. Они недовольны. И будет изрядным преуменьшением сказать, что ГД Труни не слишком хорошо руководил посольством.
– Труни?.. Господи ты боже мой, я и забыла, что они засунули его туда… Молодые девицы в поле зрения были?
Шара вспоминает девушку, приносившую чай.
– Одна.
– Беременная?
– Я ничего такого не заметила.
– Слава морям! Замечательно, хоть здесь обошлось…
– А как быть с Мулагеш? Губернатором полиса? Она демонстративно держалась… подальше от мирградской политики. Строго следовала инструкциям, так сказать. Могу я на нее положиться?
– Возможно. Она из армейских. Участвовала в подавлении восстаний. Железная женщина. Ты с такими всегда хорошо ладила. Так, а что там с профессором?
– Я нахожусь в процессе сбора информации, – сообщает Шара.
Она сейчас сама беззаботность и услужливость. Все в порядке, все хорошо, сообщает ее голос.
– А когда ты узнаешь, кто и почему его убил, что станешь делать? – спрашивает Винья.
– Оценю ситуацию на предмет возможной угрозы безопасности Сайпура.
– Значит, о мести и не помышляешь?
– Как можно думать о мести, – чеканит Шара, – когда глаза всего мира устремлены на тебя? Мы должны быть благоразумны и не проливать крови. Я, как и всегда, готова стать послушным орудием в руках руководства нашей страны.
– Ну хватит высоких слов, – отмахивается Винья, – можно подумать, кто‑то верит во всю эту риторику…
И задумчиво глядит в сторону.
– Скажем так, Шара. Я буду щедра к тебе. Я дам тебе сроку… ну, скажем… неделю.
Шара вспыхивает:
– Неделю?!
– Да. За эту неделю ты должна выяснить, есть ли в этом деле что‑то важное для Сайпура. В конце концов, весь Мирград до последнего человека мечтал убить беднягу! Может, это был дворник, откуда мы знаем? Так что я дам тебе неделю на то, чтобы доказать обоснованность твоего присутствия в Мирграде. В противном случае я тебя отзову и отправлю кого‑то другого уладить оставшиеся формальности. Это дело не для тебя, дорогая, Министерство сможет тебе предложить задания, достойные твоего опыта и умений, не сомневайся.
– Неделя…
И Шара лихорадочно думает про себя: сказать про записку? Не сказать? Потом решает: нет, если скажу, вреда будет больше, чем пользы.
– Что такое? Не эта ли храбрая девушка только что сообщила мне, что она – самый старший по званию оперативник на указанной территории? Да еще таким тоном, словно она дунет – и все разлетится, как карточный домик… – И Винья поводит тонкими пальцами, показывая, как, крутясь в воздухе, разлетаются карты. – Если ты такая опытная и умная, моя дорогая, тебе и пары часов хватит! Не правда ли?
Шара поправляет очки на переносице. Ничего не поделаешь, тетя ее переиграла.
– Ладно.
– Вот и хорошо. Держи меня в курсе. И да, постарайся сделать так, чтобы твой человек никого не убил. По крайней мере в ближайшие несколько дней.
– Не могу ничего обещать.
– Знаю. Я на всякий случай попросила.
– Если я в течение неделю сумею справиться с ситуацией, – медленно выговаривает Шара. – Если я совершу невозможное и закрою дело, есть ли у меня шанс…
– На что?
– На то, что меня переведут.
– Переведут? Куда?
– Обратно в Галадеш.
Винья непонимающе глядит на нее, и Шара напоминает:
– Мы же говорили об этом. В прошлый раз.
– Ах да, да, – спохватывается Винья. – Действительно, в прошлый раз, да…
«Все ты помнишь, – думает Шара. – Потому что мы говорили об этом и в позапрошлый раз, и позапозапрошлый раз…»
– Должна признать, – улыбается Винья, – что ты единственный оперативник, который желает, чтобы его перевели на кабинетную работу в головном офисе. Я думала, тебе нравится на Континенте. Ты же столько их изучала, столько опыта накоплено…
– Я не была в Сайпуре, – тихо говорит Шара, – шестнадцать лет.
– Шара… – Винье, судя по улыбке, очень неловко. – Ты прекрасно знаешь: ты – мой самый ценный сотрудник на Континенте. Ты лучше всех представляешь себе, что такое Божества… более того, в Галадеше ведь никто не подозревает, что Божественное не исчезло окончательно, что на Континенте сохраняются следы его присутствия…
Сколько раз Шара это слышала, сколько раз…
– Министерство придерживается точки зрения, что рассекречивать информацию о существовании Божественного, точнее, его остаточном присутствии нецелесообразно. Сайпурцы предпочитают верить в то, что все это стало историей. Точнее, прахом. Что ничего этого больше не существует. Они не должны узнать, что на Континенте активны некоторые чудеса. И им точно не следует знать, что там остались кое‑какие божественные существа. Которых вы с напарником так замечательно… элиминируете.
Шара молчит. Тетушка даже отдаленно не представляет себе, что это значит – уничтожить божественное существо.
– Пока Божества пребывают в своем нынешнем состоянии – то есть технически мертвом – нас все устраивает. И даже более чем устраивает. Незачем говорить людям то, что они не хотят слышать, – продолжает Винья.
Шара вздыхает и проговаривает очевидное:
– А поскольку я видела слишком много вещей и существ, существование которых мы не можем официально признать, я не могу вернуться домой.
– Учитывая, кто ты, мы уверены: как только ты вернешься, тебя станут усиленно расспрашивать. А поскольку ты знаешь слишком много о том, что никому знать не надо…
Шара закрывает глаза.
– Подожди немного, родная моя, – вздыхает Винья. – Ты же видишь, я делаю для тебя все, что могу. Сейчас входят в силу политики, которые прислушиваются к моему мнению. Скоро у них не останется другого выбора – им придется согласиться со мной…
– Проблема в том, – тихо говорит Шара, – что мы, оперативники, сражаемся ради того, чтобы дома было все спокойно. Но… время от времени нам нужно возвращаться домой. Просто для того, чтобы помнить – какой он, этот дом, ради которого мы сражаемся.
Винья презрительно отфыркивается:
– Что за сантименты! Ты – Комайд, детка. Ты – дочь своих родителей. Ты мое дитя. Ты патриотка. Где ты – там Сайпур.
«У меня на глазах умерло столько людей, – хотела бы сказать Шара. – И я подписала столько смертных приговоров, что перестала быть похожей на родителей. Я стала другой. Совсем другой».
Винья улыбается, глаза блестят от слез:
– Пожалуйста, береги себя, девочка моя. В Мирграде вес истории ощущается сильней, чем в прочих местах. Я бы на твоем месте следила за каждым своим шагом. Ведь ты – прямой потомок человека, который не оставил от прежнего Континента камня на камне.
И она протягивает руку, протирает стекло и исчезает из виду.
Задача Министерства иностранных дел состоит в том, чтобы упорядочивать то, что в принципе не поддается упорядочиванию.
Так или иначе, если нечто невозможно сделать, это не значит, что жители Сайпура не должны ожидать, что это все‑таки будет сделано: в конце концов, разве перед Войной невозможное не случалось на Континенте каждый день и каждый час?
И разве не по этой причине в Сайпуре и остальном мире людям снятся по ночам кошмары?
Из письма премьер‑министра Анты Дуниджеш министру Винье Комайд. 1712 г.
Запретное
Мирградский университет прячется в тени городских стен на западной окраине. Это целый каменный лабиринт комнат, переходов, двориков. На потемневших от дождя стенах расцветают темные пятна мха, плиты полов и тротуаров стерты до гладкости – наверняка множеством ног, ходивших по этому камню в течение долгих веков… Толстые и раздутые печные трубы напоминают осиные гнезда, а не детали архитектуры – так не строят, по меньшей мере, вот уже несколько столетий.
Однако Шара заходит в здание и оглядывается: ого, а с водопроводом и канализацией дела обстоят более чем замечательно. Труб почти не видно – разве что тут выглядывает колено стояка, там на потолке виднеются противопожарные оросители. Ну и, конечно, везде, как и положено, раковины и краны. Вполне современного вида.
Шара пытается скрыть улыбку. Она прекрасно знает: университет выглядит старинным, но на самом деле постройке лет двадцать с небольшим.
– В каком мы крыле? – спрашивает она.
– Лингвистическом, – отвечает Нидайин. – Они предпочитают говорить не «крыло», а «камера».
Шара медленно смигивает: как грубо и быстро ее поправили, однако. Нидайин – типичный работник посольства: заносчивый, самодовольный, самоуверенный. И, тем не менее, он занимает должность посольского представителя по связям с общественностью, а значит, в его обязанности входит сопровождать послов и дипломатов во время важных визитов – например, в университет.
– Какие длинные тут камеры, – бормочет Питри, оглядываясь. – На коридор больше похоже, а не на комнату…
– Слово «камера», – с нажимом произносит Нидайин, – имеет глубоко символическое значение.
– И какое же?
Нидайин явно не ожидает, что его примутся экзаменовать по этому вопросу. Поэтому он гордо отвечает:
– К расследованию это не относится, уж будьте уверены. Так что неважно, какое.
Среди каменных стен гуляет эхо шагов. После смерти доктора Панъюя университет опустел. Возможно, это все голубоватые отсветы ламп на стенах (кстати, лампы газовые), но Шара не может отделаться от ощущения, что они внутри чего‑то… живого. То ли в улье, то ли в брюхе огромного животного. Возможно, архитекторы именно этого эффекта и добивались.
Интересно, как Ефрем относился к этому зданию. Она уже осмотрела его комнаты в посольстве: естественно, пусто. Голо. Хоть шаром покати. Но другого Шара и не ждала: Ефрем был из тех людей, что живет работой. А уж такая работа поглощала его целиком – еще бы, город какой! Легендарный город. Кладезь для историка. Наверняка какой‑нибудь ящик стола университетского кабинета Панъюя ломится от карандашных рисунков: здешние карнизы, ворота, и конечно – десятки набросков с дверными ручками. Ефрема буквально гипнотизировало все, что люди делали руками. «Сразу видно, как они взаимодействуют с миром, – пояснил он ей как‑то. – В глазах отражается душа, а вот материя, подсознательное, основа поведения – все это в руках. Понаблюдай за руками человека – и узнаешь его сердце». Возможно, он говорил правду – потому что сам Ефрем, приближаясь к очередному открытию, всегда трогал предметы: проводил пальцами по столешницам, постукивал по стенам, ковырял землю, оглаживал спелые фрукты… Ибо для Ефрема Панъюя и целого мира было мало – он хотел видеть и знать больше и больше.
– Так, я заинтригован, – заявляет Питри.
– Я же сказал – это неважно, – упирается Нидайин.
– Тебе откуда знать? – сердится Питри.
– Уж я‑то знаю, – заявляет Нидайин. – Просто у меня под рукой нет справочных материалов. А я бы не хотел давать непроверенную информацию.
– Чепуха какая, – не сдается Питри.
Сигруд тихонько вздыхает. По его меркам, это все равно, что кулаком по столу треснуть.
Шара прочищает горло и говорит:
– В университете шесть камер, потому что континентцы представляли себе мир в виде сердца с шестью камерами, и каждая считалась домом определенного Божества. От Божества к Божеству перетекала сила – и так рождалось течение времени, судьбы, событий. Так обращалась кровь мира. Университет – это микрокосм, отражающий общее устройство вещей. Приходя сюда, можно было научиться всему обо всем. Во всяком случае, так было задумано.
– Это правда? – изумляется Питри.
– Да, – кивает Шара. – Но это – не изначальный университет. Настоящий был уничтожен во время Войны.
– Во время Мига, хотели вы сказать, – поправляет ее Нидайин. – Исчез вместе с большинством построек Мирграда. Правильно?
Шара не обращает на него ровно никакого внимания.
– Университет выстроили заново, основываясь на довоенных изображениях и рисунках. Мирградцы настаивали, чтобы здание восстановили в прежнем облике. Они даже разобрали огромное число старинных зданий, чтобы строительство велось из подлинного древнего камня. Они хотели вернуть ему подлинный облик – правда, с некоторыми оговорками, – тут она осторожно дотрагивается до газового рожка, – ведь им пришлось согласиться на кое‑какие современные новшества.
– Откуда вы все это знаете? – спрашивает Питри.
Шара поправляет очки:
– Что здесь сейчас преподают?
– Мгм… сейчас – в основном экономику, – отвечает Нидайин. – Основы торговли. Базовые рабочие навыки. В основном, потому, что полис приложил массу усилий, чтобы войти в число мировых финансовых игроков. Это все дело рук движения «За Новый Мирград». Правда, в последнее время они не столь активны – некоторые люди воспринимают их действия как призыв к модернизации. Что так и есть, на самом деле. Так что вокруг кампуса время от времени проходят демонстрации протеста. Либо из‑за «Нового Мирграда», либо, мгм…
– Из‑за доктора Панъюя, – продолжает за него Шара.
– Да.
– Я так понимаю, – говорит Питри, отсутствующим взглядом скользя по дверям, – что они не могут преподавать историю.
– В большом объеме – нет, – соглашается Нидайин. – Материалы курса строго цензурируются на предмет соответствия СУ. Из‑за Светских Установлений у них, по правде говоря, ничего толком преподавать здесь не получается. И у них проблемы с обучением естественным наукам и базовым физическим законам. Потому что в прошлом здесь не работали базовые физические законы. А в некоторых местах – так и до сих не работают.
«Естественно, – думает Шара. – Как здесь преподавать естественные науки, если каждый здешний рассвет опровергает законы природы?»
Сигруд резко останавливается. Дважды принюхивается, а потом оборачивается к одной из дверей по правой стороне коридора. Она ничем не отличается от других дверей: толстое дерево, толстое стекло посередине. Никаких надписей.
– Это кабинет доктора Панъюя? – спрашивает Шара.
– Да, – отвечает Нидайин. – А как он…
– Сюда кто‑нибудь, кроме полицейских, заходил?
– Не думаю.
Но Шара все равно морщится. Одна полиция чего стоит…
– Нидайин, Питри, – я была бы признательна, если бы вы прошлись по комнатам и кабинетам этой камеры университета. Нам нужно знать, кто из сотрудников мог находиться рядом, а также в каких отношениях эти сотрудники состояли с доктором Панъюем.
– Вы уверены, что нам следует начинать расследование таких масштабов? – спрашивает Нидайин.
Шара одаривает его не то чтобы холодным – так, еле теплым взглядом.
– В смысле… я бы не хотел показать грубым, но… вы же просто исполняете обязанности Главного дипломата, – выговаривает он.
– Да, – соглашается Шара. – Исполняю. И следую приказам губернатора полиса, в чем вы сейчас убедитесь.
И предъявляет ему розовую ленточку телеграммы.
Нидайин открывает ее и читает:
«К‑ПОС ТИВАНИ ПРЕДВ РАССЛЕД ПОЛИС ОКАЗ ВСЕМЕРН СОДЕЙСТВ ТЧК ГШК512»
– Вот оно что, – говорит Нидайин.
– Всего лишь предварительное расследование, – кивает Шара. – Но по свежим следам работать проще, и мы должны этим воспользоваться. Во всяком случае, так меня учили. Вы согласны?
– Да, – кивает Нидайин. – Согласен совершенно.
И они с Питри принимаются обходить соседние кабинеты. Отойдя на двадцать шагов, они снова начинают ругаться.
Ничего, это их должно занять на какое‑то время…
Она засовывает телеграмму в карман пальто. Скорее всего, эта бумага больше не потребуется.
Естественно, губернатор полиса Мулагеш никакой телеграммы не отправляла, просто хорошо, когда у тебя в любом Департаменте связи сидят друзья, готовые помочь в любом деле.
– А теперь, – бормочет Шара, – посмотрим, что там.
* * *
Кабинет доктора Ефрема Панъюя по колено заполнен, как водой, клочками бумаги, и письменный стол плывет по этому желтоватому морю подобно огромной барже. Шара включает газовые лампы и оглядывает комнату, пытаясь представить масштабы бедствия: стены увешаны пробковыми досками, в них торчат бесчисленные кнопки. На некоторых еще остались обрывки бумаги.
– Полицейские их содрали, все до единого, – тихо говорит она. – Уверена, что так и было.
Кабинет мал и грязен – и совсем не подходит для такого известного исследователя. В стене окно, но оно забрано витражным стеклом таких темных тонов, что вовсе не пропускает света.
– Нам придется сложить это все в пакеты и отвезти в посольство.
Она делает паузу. Потом спрашивает:
– Скажи мне. За нами следили по дороге сюда, сколько их было?
Сигруд поднимает два пальца.
– Профессионалы?
– Вряд ли.
– Нидайин или Питри их заметили?
Сигруд одаривает ее красноречивым взглядом: сама‑то, мол, как думаешь?
Шара улыбается:
– Я же тебе говорила. Развороши гнездо шершней… Впрочем, к делу. Что ты об этом думаешь?
Сигруд принюхивается и трет нос:
– Ну… Очевидно, кто‑то что‑то искал. Но я думаю, что не нашел.
Шара согласно кивает – приятно, когда кто‑то подтверждает правильность твоих выводов. Единственный серый глаз Сигруда обшаривает волны бумажного моря.
– Если бы они что‑то искали и нашли это, они бы остановились. Но, судя по тому, что я вижу, они не останавливались.
– Отлично. Я вижу то же самое.
Остается главный вопрос: а что же они искали? Записку из галстука Панъюя? Шара еще не уверена, но ей все больше кажется: нет, Ефрема убили вовсе не из‑за того, что он, еретик и чужак, приехал в город богов.
«Предположения ничего не стоят, – напоминает себе Шара. – Ты ничего не знаешь наверняка, пока не узнаешь это наверняка».
– Ну хорошо, – говорит Шара. – Где?
Сигруд снова принюхивается, пробирается сквозь горы обрывков к столу и ногой разгребает бумагу не со стороны, с которой ставят стул, а с противоположной. На каменном полу четко просматривается темное большое пятно. Она подходит все ближе и наконец чувствует запах с медным привкусом – пахнет засохшей кровью.
– Значит, когда сюда вошли, он не сидел за столом, – бормочет Шара.
– Думаю, что нет.
Если бы только знать, как профессор лежал, когда его нашли, что было рядом, что было на нем… В полицейском отчете что‑то такое написали, но, как ему доверять, этому отчету, если они даже изрезанную одежду Панъюя не упомянули. Значит, надо работать с тем, что есть.
– Не мог бы ты принести мне сумку для этих бумаг? – тихо говорит она.
Сигруд кивает и уходит.
Шара оглядывается. Делает осторожный шаг вперед, наклоняется и поднимает обрывок бумаги:
…проблема в том, что биография каджа и в особенности необычная история его восхождения к власти не делают менее значимыми его действия. Да, его отец был из коллаборационистов, но нам ничего не известно о его матери. Мы знаем, что кадж был ученым, увлекался естественными науками и экспериментаторством, и, хотя никто из его близких не погиб в резне, он…
Она поднимает другой:
…остается только догадываться, в каких целях использовалась в изначальном университете камера Олвос. Рассказывали, что она не одобряла действия континентцев и других Божеств. Она считалась Божеством надежды, света и стойкости, и, когда Олвос покинула мир в 775 году, на заре Золотого Века Континента, это восприняли как огромную трагедию. Точные причины ее ухода стали предметом жаркой дискуссии: появился ряд текстов, в которых прямо говорилось, что Олвос предсказала: на пути, избранном другими Божествами, всех ждет лишь горе. Многие из этих текстов были мгновенно уничтожены, возможно другими Божествами…
И еще один:
…судя по всему, пребывание каджа на Континенте, до самой его смерти от инфекции в 1646 году, не изобиловало событиями. Он спал, ел, жил один, к другим обращался, только чтобы отдать приказ. Его бессменный помощник Сагреша вспоминает в одном из своих писем: «Он словно бы увидел родину тех, кто нас завоевал и так долго нами правил, и до боли разочаровался. И хотя он ни разу не сказал этого вслух, я словно бы слышала его мысли: „Разве не должна земля богов быть под стать богам?“» И хотя кадж, конечно, не мог знать, что на нем лежит прямая ответственность за бедственное состояние земель Континента, ибо именно кадж убил Божество Таалаврас, и именно это вызвало Миг…
Знакомые строки – она уже читала это. Старые опубликованные работы. Видимо, он привез сюда свои книги, а полиция изодрала их в клочья во время «обыска». Возможно, уничтожение знаменитых сайпурских монографий доставило им море удовольствия. А может, это вовсе и не полиция сделала.
Тут взгляд ее наталкивается на что‑то большое и толстое в углу. Это что‑то оказывается внушительным сейфом с мощной дверью. И дверь эта, заметьте, распахнута настежь. Шара осматривает замок – сложный. Очень сложный. Сама она не эксперт‑медвежатник, но нескольких знавала. Знакомцы спасовали бы перед таким замком. Однако видимых повреждений нет, следов взлома нет, на двери тоже ни царапины. И внутри сейфа пусто. Словно так оно и было всегда.
Шара садится подумать. И тут на глаза ей попадается уголок бумажки – он торчит из кучи мусора, но выглядит совершенно иначе: это не клочок страницы из академической публикации, а официальный бланк с печатью Министерства иностранных дел в левом углу и печатью губернатора полиса в правом.
Шара выуживает его из кучи. Это запрос. Заполнен от руки лично Ефремом. Что именно он запрашивал, не очень понятно – в бланке есть только код. ACCWHS14–347. Ефрем расписался внизу, но требуется еще одна подпись. Внизу на бланке читается: ТУРИН МУЛАГЕШ, ГУБЕРНАТОР ПОЛИСА, МИРГРАД.
– Нашла что‑нибудь? – доносится из‑за двери голос Сигруда.
– Пока не знаю, – отвечает Шара.
Пока они запихивают в сумку бумаги, Шара обнаруживает, что это не единственный документ, имеющий отношение к губернатору полиса, который попал в руки Ефрема: среди обрывков – множество пропусков, явно выданных охранником, когда Ефрем проходил… куда‑то.
Собрав все, она пересчитывает: девятнадцать пропусков. Ефрем вряд ли специально хранил их: они же наверняка все одноразовые. Просто приходил в кабинет и выворачивал карманы.
Шара поглядывает на сейф в углу: а ведь наверняка Ефрем приносил сюда не только пропуска…
Тут в дверь вваливаются очень задерганные Нидайин с Питри. У Нидайина в руках длинная, захватанная бумажка.
– Вот, – говорит он. – Мы закончили. Всего получилось шестьдесят три человека, и мы записали, с каких они кафедр, на какой должности, в каких отношениях состояли с профессором и…
– Отличная работа, – кивает Шара. – Сигруд, присовокупи это, пожалуйста, к нашей коллекции. Думаю, мы сделали все, что нужно. Пора отправляться обратно в посольство. И да, Питри. Думаю, тебе придется снова заправить машину. Полагаю, нас ждет небольшая поездка за пределы Мирграда.
– А куда мы едем? – спрашивает Питри.
Шара перебирает в кармане пропуска:
– Честно говоря, пока не знаю.
* * *
Они выходят из университета и подходят к машине. Шара замедляет шаг.
Сигруд идет сзади. И с легким присвистом выдыхает через нос.
Она смотрит вниз и в сторону, на его руки.
Он едва заметно пристукивает по правому бедру указательным и средним пальцами. Шара смотрит вправо.
Выглядят они как обычные люди, которые решили выпить чашечку чая в кафе. С другой стороны, а как им еще выглядеть? Вот мужчина в плотном сером пальто, с масляными волосами и двухдневной щетиной медленно разворачивает обертку сигары. А вот женщина, пятидесяти или пятидесяти пяти лет, изможденная, несчастная, с красными стертыми руками. Седые волосы стянуты в тугой узел. Женщина не поднимает глаз от шитья, но Шара видит: ее руки дрожат.
Нет. Это не профессионалы.
– Мы высадим тебя за углом, – тихо говорит Шара. – И ты проследишь за ними.
Сигруд кивает и лезет в машину.
* * *
Выехать из Мирграда не так‑то просто: бесконечно предъявляешь пропуск – один, другой, на блокпостах, перед блокпостом, конечно, пробка, машина подолгу стоит в заторах, потом опять возникает полосатый красно‑белый шлагбаум, и постовой ищет имя‑фамилию в бесконечных списках… И все служащие – затянутые в черную или фиолетовую униформу с рядами медных блестящих пуговиц – все как один континентцы. Неужели мы навели в городе такой порядок, что местные готовы задушить Мирград собственными руками? Однако документы Шары, как по мановению волшебной палочки, поднимают любые шлагбаумы, постовые лихорадочно машут рукой – проезжайте, мол, быстрей‑быстрей, иногда даже отдают честь. Поэтому они с Питри выбираются из лабиринта блокпостов всего‑то за полчаса – рядовым гражданам Мирграда это удается, только если они встают очень и очень рано.
Со «штаб‑квартирой» губернатора полиса на Континенте всегда очень непросто. Шара знает: официальная позиция Сайпура такова, что штаб‑квартира губернатора, будь то регионального, будь то полисного уровня, – явление временное. Она, как сайпурский чиновник, сама не раз повторяла это на разные лады. Далее обычно утверждалось, что губернатор и его штаб‑квартира пребывают на территории Континента исключительно в целях наблюдения за деятельностью ограниченного воинского контингента Сайпура, целью которого является обеспечение мира и безопасности на Континенте. Каковой контингент будет пребывать на Континенте до тех пор, пока мир и безопасность не укрепятся, и Континент более не будет нуждаться в усилиях по их обеспечению. И с тех пор каждый континентец каждый день повторял: ну и когда же придет это время?
Судя по бетонным стенам в двадцать футов высотой, пулеметным гнездам, железным воротам и доносившимся с верха стены командам часовых (кстати, стены Мирграда находились всего‑то в двух милях), мир и безопасность Континента еще нуждаются в укреплении. Во всяком случае, такое впечатление производит штаб‑квартира губернатора полиса Мулагеш. Впечатляющее сооружение – такие на века строят.
Внутри все выглядит аскетично – ничего лишнего. Из больших, от пола до потолка, окон за губернаторским столом прекрасно просматриваются пологие зеленые холмы, обнесенные бетонной стеной. На плацу маршируют солдаты, дюжины голубых тюрбанов поворачиваются по команде.
– Губернатор Мулагеш скоро будет, – говорит адъютант – молодой человек с точеным и голодным злым лицом. – Она на дистанции.
– В смысле где? – переспрашивает Шара.
Адъютант улыбается, явно думая, что вот это вот – вежливая улыбка.
– Пробежка у нее.
– О. Понятно. Что ж, я подожду – не проблема.
Он снова улыбается, словно бы желая сказать: можно подумать, у тебя выбор есть.
Шара осматривается в чужом кабинете. Интерьер прост, как топор: сплошные гладкие серые поверхности. Голая функциональность.
Боковая дверь открывается, и в комнату входит невысокая женщина лет сорока пяти в обычном спортивном сером топе, голубых бриджах и в сапогах. Она мокра от пота, пот крупными каплями стекает по широченным и очень смуглым плечам. Женщина останавливается и окидывает Шару очень холодным изучающим взглядом. Потом так же холодно улыбается и направляется к столу. Берется за угол, вскидывает правую ногу, хватается за лодыжку правой рукой и растягивает мышцу бедра.
И небрежно бросает:
– Ну привет, что ли.
Шара улыбается и встает. Турин Мулагеш – под стать своему кабинету: жесткая, холодная, подтянутая и профессиональная. Она рождена, чтобы сражаться и наводить порядок среди хаоса, и иначе жить не может. А еще она очень мускулистая, таких женщин Шаре еще видеть не приходилось: бицепсы бугрятся, шея и плечи перетянуты канатами сухожилий. Шаре приходилось слышать о подвигах Мулагеш во время кампании по подавлению восстаний, вспыхивавших тут и там после Лета Черных Рек. Что ж, теперь она видит чудовищный шрам на левой скуле губернатора, разбитые костяшки пальцев – и верит каждому слову. А еще очень странно видеть на совершенно бюрократической должности такого человека…
– Добрый день, губернатор Мулагеш, – говорит Шара. – Я…
– Я знаю, кто вы, – обрывает ее Мулагеш.
Опускает ногу, выдвигает ящик и вытаскивает сигариллу.
– Вы – новенькая. Как там вас называют? Главный посол?
– Да. Ашара Тивани, технически культурный…
– Да‑да. Культурный посол. Вчера приехали, да?
– Да, точно.
Мулагеш плюхается в кресло и кладет ноги на стол.
– Такое впечатление, что нам этого Труни всего две недели назад подсунули. И как меня еще в отставку не выпинали? Я, чесслово, думала, что он город спалит. А мне – отвечай. Придурок сраный…
И она вскидывает взгляд на Шару. Глаза у нее серые. Цвета стали.
– А может, он тут все и поджег. В конце концов, это он отвечал за безопасность Панъюя.
И она тыкает в Шару незажженным концом сигариллы:
– Вы ж из‑за него здесь, правда?
– Это одна из причин, да.
– А другая, как я полагаю, – говорит Мулагеш и затягивается, – это выяснить для Министерства, насколько мои действия – точнее, мое бездействие – могли поспособствовать гибели нашего культурного эмиссара? Потому что гибель его произошла, как ни крути, во вверенном мне городе. Так?
– Я бы не стала заниматься этим в первую очередь, – быстро ответила Шара.
– Поди ж ты, – усмехается губернатор. – Я смотрю, вам нет равных в искусстве дипломатических формулировок…
– Но это правда, – пожимает плечами Шара.
– Я думаю, что это правда для вас. А вот что по этому поводу думает Министерство – другой вопрос.
Мулагеш вздыхает, и голова ее окутывается веночком дыма.
– Слушайте, я на самом деле рада, что вы приехали. Потому что, может, хоть к вам они прислушаются – а то я уж год как им про это талдычу, а толку чуть. Так вот, я как услышала про эту вашу культурную экспедицию, или как там еще называлась эта хрень, я сразу сказала: кончится все очень хреново. Мирград – он как слон. У него ооочень долгая память. В Аханастане, Таалвастане – в общем, в остальных городах – там народ как‑то собрался в кучку. Модернизация там идет и все такое. Туда железную дорогу тянут, медобслуживание есть… женщинам они право голоса предоставили – прикиньте?
И она фыркает, харкает и сплевывает в корзину для мусора.
– А здесь… – и она тыкает пальцем в окно, куда‑то в сторону Мирграда, – …все думают, что в Золотом Веке живут. Ну или должны жить. Время от времени они про это дело забывают, мы получаем передышку. А потом какой‑то ублюдок опять ворошит это гнездовище, и – бац! – я разгребаюсь с очередным кризисом. Причем вмешиваться я не могу, как вы понимаете. Потому как официальная позиция у нас – «руками не трогать». Ну в Галадеше‑то им по хрен, как мы тут выкручиваемся, между ними и нами целый океан, пока переплывешь, заманаешься. А вот у нас стены‑то ихние – прям под носом. И вся эта их официальная позиция с нашего расстояния до тех стен видится как хрень собачья, и вообще…
Шара решает перебить горячую тираду:
– Губернатор Мулагеш, позвольте, прежде чем мы продолжим…
– Да?
– Кто убил доктора Панъюя? По вашему мнению?
Мулагеш ошарашенно смотрит на нее:
– По моему мнению? Адский ад… Даже не знаю. Да кто угодно, вообще‑то. Его каждый первый в городе хотел укокошить. И потом, мне отмашки не давали это дело расследовать.
– Но вы же что‑то думали по этому поводу…
– А то. Конечно, думала.
И Мулагеш окидывает Шару долгим изучающим взглядом.
– А вам‑то что с того? Вы ж дипломат. По вечеринкам шляться сюда прибыли. Разве нет?
Шара запускает руку за пазуху и извлекает оттуда медальон сотрудника Министерства иностранных дел.
Мулагеш наклоняется вперед и – надо отдать ей должное – изучает его с совершенно каменным лицом.
Долго изучает. А потом читает вытесненное на медальоне имя:
– Комайд.
– Да, – подтверждает Шара.
– А не Тивани, правильно?
– Правильно, – подтверждает Шара.
– Комайд. Как Винья Комайд?
Шара смотрит ей в глаза. Не мигая.
Мулагеш откидывается на спинку стула. И после долгого молчания спрашивает:
– Сколько вам лет?
– Тридцать пять.
– Значит… Та история, шестнадцать лет назад. Национальная партия. Это было?..
Теперь очередь Шары сохранять каменное выражение лица.
Мулагеш медленно кивает. Шаре кажется, что в глазах ее мелькнула озорная искра.
– Ага. Что ж вы сразу‑то не сказали?
– Боюсь, вы начали говорить, прежде чем я успела сказать хоть слово.
– Эт правда, – кивает Мулагеш. – У меня после бега рот не закрывается.
И она снова прихватывает зубами сигариллу.
– Выходит, вы тут и впрямь собираетесь убийство профессора расследовать.
– Я собираюсь выяснить, – Шара убирает медальон обратно, – есть ли в Мирграде силы, представляющие угрозу Сайпуру.
– В Мирграде? Вы смеетесь, что ли? Да они за последние пятнадцать лет токо‑токо из кромешной нищеты выползли! Я сюда приехала – город жуткий был, словно по нему только что войска каджа прошли. Канализации даже не было, люди в ведра срали. Какая угроза Сайпуру, вы о чем?
– То же самое говорили перед Летом Черных Рек. Но потом мы ввели Установления – и Мирград восстал. А ведь жилось горожанам гораздо хуже, чем сейчас. Дело не в уровне жизни, как показывает опыт. У этого города сердце исполнено страсти, а страсть не поверяется деньгами…
– Как поэтично, – усмехается Мулагеш. И проводит большим пальцем вдоль шрама на челюсти. – Но, похоже, вы правы.
Она еще сильнее откидывается на спинку кресла – как только не перекинется, надо же – и глубоко задумывается.
Шара даже знает, о чем думает губернатор. Протянуть или нет руку помощи этой таинственной новой посланнице? Ведь как часто случается с министерскими чиновниками – один неверный шаг, и все добрые дела оборачиваются жуткой катастрофой. И все, кто поддерживал инициативы оступившегося, жестоко платятся за ошибку…
– Я нуждаюсь в вашей помощи, губернатор, – говорит Шара. – Я не могу рассчитывать лишь на полномочия посольства.
Мулагеш фыркает:
– Еще бы.
– Рада, что вы меня понимаете. Я готова сделать все необходимое, чтобы заручиться вашей поддержкой.
– Что, серьезно?
– Да. Я кровно заинтересована в том, чтобы как можно быстрее разобраться с этим делом. И без вашей помощи мне не обойтись.
Мулагеш, пожевав сигариллу, заявляет:
– Откуда мне знать, что вы способны исполнить мое желание?
– Вы удивитесь, узнав, какие у меня возможности.
– Ну ладно. Смотрите, посол Комайд. Я не против того, чтобы быть слугой. В конце концов, все мы, служащие, и есть слуги. Но я прослужила достаточно. И я хочу получить назначение куда‑нибудь в приличное место. Получше, чем эта дыра.
Шара кивает: ей кажется, она понимает, куда клонит губернатор:
– Аханастан?
Мулагеш смеется:
– Аханастан? Вы серьезно думаете, что мне нужно больше ответственности? Клянусь морями, нет. Я, уважаемая посол, хочу получить назначение в Джаврат. Да.
– В Джаврат? – недоуменно переспрашивает Шара.
– Да. Я хочу отправиться в этот тихий уголок посреди Южных морей. Там пальмы. Солнце. Пляжи! Там хорошее вино, мужчины нормальные, а не с кожей цвета говяжьего жира. Я хочу уехать как можно дальше от Континента, посол. Потому как этот Континент мне уже поперек горла, вот.
Вот это да. Какой неожиданный поворот. Полис Аханастан – портовый город, причем порт там международного значения. А поскольку после Войны торговля все больше идет через морские пути, Аханастан – один из немногих полисов Континента, где можно заработать. Плюс, поскольку основа военной мощи Сайпура – его флот, Аханастан – город, теснее всех связанный с Сайпуром. А его губернатор – одна из ключевых фигур в мировой политике. Любой сайпурский чиновник хотел бы получить эту должность… а если Мулагеш желала назначения на крохотный остров Джаврат, это значило только одно: она хочет выйти из политической игры. А Шара еще не встречала сайпурца, который бы добровольно вышел из игры…
– Ну что скажете? – поинтересовалась Мулагеш. – Это возможно?
– О, это… возможно. Конечно, возможно, – кивает Шара. – Боюсь только, в Министерстве будут несколько… обескуражены.
– Мне не нужно продвижение по службе, – говорит Мулагеш. – Смотрите, сколько мне там осталось, той жизни? Лет двадцать? Или даже меньше? Я хочу погреть свои кости в каком‑нибудь приятном месте, посол. А все эти аппаратные игры, интриги… Тошнит меня от них уже.
– Я сделаю все от меня зависящее, чтобы вы получили это назначение.
Мулагеш улыбается, как могла бы улыбнуться акула. Если бы умела.
– Ну и прекрасно. Тогда… начнем, не правда ли?
* * *
– Движение «За Новый Мирград», говорите… Эти ребята – они словно дрожжи в сортир бросили, вот что я вам скажу, – сообщает Мулагеш. – И говно там крепко забродило, да. Люди ж не слепые, они видят, что на модернизации можно кучу денег поднять. Сотрудничество с Сайпуром, вот это все, ну вы понимаете. И они хотят получить эти деньги. А вот местные мирградские богачи сотрудничать не хотят ни в какую. И орут, да так громко, что бедные их слышат и слушают.
– А какое отношение к этому всему имел доктор Панъюй?
– Ну эти антиновомирградцы что говорят? Что обновленцы, видите ли, «отступили от пути истинного»! – И Мулагеш всем видом показывает, где она видала этот путь и эту истину: и глаза закатывает, и ехидно улыбается, и рукой пренебрежительно отмахивается. – Причем истинный путь – это не то, как раньше жили. А то, как должно, видите ли, жить. А самые крикливые из них гордо называют себя «реставрационистами», хотя, что тут реставрировать, сами посудите. Это такие самозваные и самоназначенные хранители мирградской национальной и культурной идентичности. Ну вы поняли меня – засранцы как они есть. И когда сюда приехал Панъюй и начал ворошить и копать местную историю и культуру, они все как один заверещали и принялись тыкать в него пальцем.
– Ага, – понимающе кивает Шара.
– Ну да. Потому как реставрационисты – они ж теряли поддержку. Дураков нет процветанию и бабкам «пошли вон» говорить… Ну а, когда ты не можешь победить в дискуссии, что ты делаешь? Правильно. Ты меняешь тему разговора.
– То есть они просто отвлекали внимание, я правильно поняла?
– Угу. Тыкали пальцем в мерзкого сайпурца, который заявился в святой город с благословения иностранной державы, с которой некоторые отщепенцы собираются завязать тесные связи. И орали, выли, и визжали, и скулили на все голоса: мол, святотатство, как так можно! Не думаю, что им было дело до Панъюя и его миссии по «укреплению культурных связей» – хотя, может, кому‑то и было… Но как карту они его отыграли на отлично. И хотя теперь все они, конечно, заявили, что никаким боком к убийству не относятся: типа просто хотели инициировать политическую дискуссию. Ну вы поняли: добрую старую политическую дискуссию, в которой вытирают ноги об оппонента и мерзко так клевещут. Ничего необычного, согласитесь…
Действительно. Ничего удивительного. Политика может рядиться в разные одежды, но если убрать показуху и церемонии, останется одна и та же неприглядная действительность.
– А это как‑то может быть связано с убийством доктора Панъюя?
– Может быть связано. А может и не быть. Может, какой‑то псих наслушался всех этих разговоров, да и заколотил профессора до смерти? А что, вполне возможный сценарий. Значит ли это, что в его смерти нужно винить мирградских политиков? Возможно, да. Можем ли мы что‑то тут поделать? Наверное, нет.
– А что, если кто‑то из мирградских влиятельных лиц, – говорит Шара, – соучастник?
Мулагеш даже прекращает гонять во рту сигариллу:
– Что вы имеете в виду?
– Мы осмотрели кабинет профессора. Его разгромили и разграбили. И я подозреваю, что это не могло случиться без молчаливого согласия кого‑то из мирградских полицейских. Большую часть бумаг изорвали в клочья. Но кто‑то явно что‑то искал.
– И что именно?
– Я не знаю.
– Тогда почему вы пришли ко мне?
– Ну… Все может проясниться, если я узнаю, чем именно он занимался.
И Шара запускает руку в карман пальто, достает пропуска. Кладет их на стол Мулагеш и пододвигает к ней.
Мулагеш изменяется в лице. Вынимает изо рта сигариллу, долго, не двигаясь, сидит с ней в руке. Потом кладет ее на стол.
– Твою же ж мать…
– Что это такое, губернатор? – спрашивает Шара.
Мулагеш мрачно сопит.
– Что это, губернатор?
– Карточки посетителя, – неохотно поясняет Мулагеш. – Крепятся на груди, к карману рубашки. Чтобы мы видели, что у человека есть допуск. Они действительны только неделю. Ну потому что… мгм… потому что допуск… эгм… секретный. Очень. Я так понимаю, он просроченные карточки с собой увозил. Хотя было приказано их уничтожать! Вот что бывает, когда такое гражданским поручают.
– Допуск… к чему?
Мулагеш перекатывает сигариллу по столу.
– Я, вообще, думала, вы в курсе. В смысле, ну… каждый же, в общем‑то, знает про… Склады.
От этих слов у Шары в буквальном смысле падает челюсть.
– Склады? Вы имеете в виду… Запретные склады?
Мулагеш неохотно кивает.
– Так что же, они… существуют?!
Она снова вздыхает.
– Да. Да. Они существуют.
Потом чешет за ухом, расстроенно повторяя:
– Твою же ж мать…
* * *
– Они меня туда отвезли сразу, как я на должность заступила, в первую же неделю, – рассказывает Мулагеш. – Давно это было… В общем, посадили в машину, повезли куда‑то за город. И, главное дело, не говорят мне, куда едем. И тут такие перед нами бункеры, бункеры! Много бункеров – несколько десятков. Я спросила еще: а там что? Они так плечами в ответ пожали: да ничего особенного. Пшеница, шины, провода – вот это вот все. А в одном – в одном все было иначе. Он был другой, хотя выглядел точно так же. Для маскировки, понимаете? Типа как лучше прятаться? У всех на виду. Ну мы ж, сайпурцы, ребята умные. Дошлые. Правда, двери они не открыли. Просто сказали: вот, типа, здесь он. Он существует. Взаправду. И в целях обеспечения максимальной собственной и общественной безопасности вам об этом лучше ни с кем не говорить. И даже думать о нем забудьте. Так для всех лучше будет. Ну я и не говорила. И не думала. А потом… потом приехал профессор.
Шара изумленно вытаращилась:
– Так что же… Доктор Панъюй… он туда, выходит, ездил?
– Так он же ж историю изучать приехал! – пожимает плечами Мулагеш. – А где ж ее изучать, как не на Запретном складе? Он как раз историей и набит… В общем… в общем, поэтому это дело такое. Опасное, понимаете?
Шара сидит и молчит. Она настолько ошарашена, что не может говорить. Запретные склады всегда были чем‑то вроде детской страшилки. В Министерстве никто всерьез не верил в их существование! Правда, если вчитаться в текст Светских Установлений… да, есть там один крохотный подпункт. Можно сказать, косвенный намек. Вот такой:
«Не позволяется вывозить с территории Континента никакие предметы, произведения искусства, артефакты и устройства, представляющие ценность для народов, населяющих Континент. В целях безопасности и ради сохранения этих предметов доступ к ним должен быть ограничен в случае, если природа этих предметов, произведений искусства, артефактов или устройств прямо противоречит требованиям Светских Установлений».
Как известно любому студенту, изучавшему довоенную историю, – а Шара как раз занималась периодом, предшествующим Великой Войне, – на Континенте таких предметов было просто несметное, несчитаное количество. До вторжения войск каджа население Континента невозбранно пользовалось в своей ежедневной жизни чудесными предметами – более того, оно даже не мыслило себе жизни без них, ибо на магических артефактах держался весь уклад жизни: на чайниках, в которых никогда не переводилась вода, одеялах, которые грели при любой погоде, замках, которые открывались лишь каплей крови определенного человека… В текстах, переживших Великую Войну, упоминаются дюжины и дюжины таких предметов. И естественно, некоторые чудесные вещи были не такими уж безобидными.
И тут возникает логичный вопрос: а где сейчас находятся все эти предметы? Если Божества создали великое множество таких вещей, а согласно Светским Установлениям Сайпур не имел права их вывезти с Континента или уничтожить (кстати, многие считали, что это неверное и странное дипломатическое решение), куда же они подевались?
И некоторые полагали, что логичный ответ таков: да, все эти вещи все еще здесь. Где‑то на Континенте. Где‑то они спрятаны. Надежно укрыты от посторонних глаз, на складах настолько секретных, что само упоминание их под запретом.
Нет, это невозможно. Это попросту нереально – скрыть от сотрудников Министерства, постоянно пересекающихся по работе, складские помещения такого размера. И такой важности! Шара за все время работы ни разу не то что не слышала о них – даже намека не было на то, что они существуют! А Шара, надо сказать, за время работы повидала многое…
– Как это… как это вообще возможно?! – спрашивает Шара. – Как можно держать в секрете существование такой громадины?
– Думаю, – отзывается Мулагеш, – это потому, что склад очень старый. Ходят слухи, что их несколько, но на самом деле он один. И его построили очень давно – когда все нынешние шпионские сети еще не действовали. Адский ад – да его построили еще до того, как на Континенте учредили губернаторства и связь с Сайпуром наладили… На самом деле в Министерстве вам бы все сказали, если бы вы запросили информацию. Но вы же не запросили…
– Но почему здесь? В Мирграде?!
– Ну почему в Мирграде – совсем не в Мирграде. Рядом с Мирградом. Когда кадж умер, его помощники собрали все обнаруженные им чудесные предметы и упрятали под замок. Предметов этих оказалось так много, что перевозка стала невозможной – заметили бы. Так что пришлось оставить их там, где собрали. И строить хранилище прямо на месте.
– И сколько их?
– Тысячи. Мне кажется.
– Вам кажется или вы знаете?
– Слушайте, ну я туда по понятным причинам не полезла. Мало ли что туда напихано? Там есть каталог, все по полочкам разложено, двери на замке – все как надо. И мне совершенно неинтересно, что там лежит. Потому что штуки, которые там собраны, – в общем, считается, что они утрачены. Что их больше нет. И меня это вполне устраивало. Умерли так умерли, все.
Шара с огромным трудом берет себя в руки и возвращается к текущим делам:
– Так. А Панъюя, выходит, не устраивало?
– Он приехал, чтобы изучать историю, но так, как до него никто не делал, – отвечает Мулагеш. – Бьюсь об заклад: именно ради Склада он и приехал. Мы же сидим жопой на куче артефактов – и все. Похоже, в Министерстве кто‑то захотел поменять расклад. Захотел вскрыть шкатулочку.
Шаре весьма обидно это слышать. Выходит, ее предали? Не ввели в курс дела? Ефрем ни о чем таком ни разу не говорил… неудивительно, что он так хорошо учился шпионскому ремеслу. Ему уже было что скрывать…
Так. А ведь Винья наверняка в курсе. Так зачем совать руку в змеиную нору? Не первый раз Шара натыкалась на следы деятельности тети и уже понимала: меньше лезешь в дела тети Виньи – целей будешь.
И тут она вспомнила: Ефрем на кушетке в подвале посольства. Вместо умного лица с тонкими чертами – кровавая маска.
И тут сердце Шары ухает в пятки: «Ох, Ефрем… уж не тетя ли Винья тебя убила?..»
– А вы знаете, какие артефакты он изучал? – спрашивает Шара.
– Он сказал, что его интересуют только книги. Ну и пара неактивных предметов.
Шара кивает. Значение термина ей известно: «активными» называли вполне обычные, на первый взгляд, вещи – шкатулку, ручку, картину, – наделенные чудесными свойствами. Свойства эти могут быть явными, а могут быть и скрытыми. Вот, к примеру, изображения Святого Варчека были очевидно чудесными: фигуры на полотнах бродили туда‑сюда и сплетничали. А вот простыни Божества по имени Жугов обнаруживали свои чудесные свойства, только когда в постель, которая была ими застелена, кто‑то ложился – и мгновенно переносился на залитый лунным светом пляж в совершенно голом виде.
Но когда божественная сила, благодаря которой эти вещи становились чудесными, уходила – проще говоря, когда Бог умирал, – чудесные свойства быстро улетучивались. И такие предметы называли «неактивными»: то есть более не чудесными, но все равно не вызывающими доверия.
– Я не знаю, что конкретно его интересовало, – сказала Мулагеш. – Я вообще не очень разбираюсь в этих штуках – и не желаю разбираться, если уж на то пошло. Все это напихали туда еще во времена каджа, и с тех пор туда никто не совался. А потом приехал Панъюй… Нет, он, конечно, понимал, что к чему. Знал, чем рискует. Он вообще много чего знал про эти штуки. Сдается мне, он все эти старые сказки и легенды проштудировал, прежде чем туда пойти. И он вел себя очень осторожно. И если что оттуда выносил, то хранил бережно и держал под постоянным наблюдением.
– Он оттуда что‑то выносил?!
Мулагеш лишь пожимает плечами:
– Кое‑что – да, выносил. Судя по тому, что он рассказывал, большая часть тамошних экспонатов – просто старый хлам. И еще там хранятся горы книг. Ими‑то профессор сначала больше всего интересовался. Ну он так сказал. Отобрал некоторые и вынес за… пределы Склада. Потому что там их было читать… неприятно, наверное.
«Сейф», – мелькает в голове у Шары.
– И вы считаете, что убийство как‑то связано со Складом?
– Нет, ну оно, конечно, может быть с ним связано, – соглашается Мулагеш. – Но я так не думаю. Ведь дело‑то в чем? Никто ж про этот Склад особо не знает. За хранилищем, частью которого он является, очень внимательно следят. Все на контроле. Никаких происшествий не замечено. Так что, скорее всего, профессора убили из‑за ажиотажа вокруг его работы.
– Но ведь Склад опасен, предельно опасен!
– Послушайте меня внимательно, пожалуйста. Я в Мирграде мало что могу делать, но мониторить ситуацию могу и умею. Так вот в Склад никто проникнуть не пытался. Я в этом абсолютно уверена. Вам потребовался мой совет? Вот что я советую: приглядитесь к реставрационистам – это, похоже, их рук дело.
Шара недовольно морщится. Потом осторожно спрашивает:
– Я так понимаю… мне, наверное, вряд ли можно будет оформить доступ к этому Скла…
– Нет, – обрывает ее Мулагеш. – Нельзя будет оформить.
– Я понимаю, что у меня нет разрешения, но ведь если никто не узна…
– Стоп. Фразу не надо заканчивать, ладно? Делая мне подобное предложение, вы совершаете государственную измену.
Шара одаривает ее злющим взглядом:
– В этих материях я не менее сведуща, чем Панъюй!
– Вот и хорошо, – сообщает Мулагеш. – Но вас ведь не за этим сюда посылали, правда? И у вас есть доступ? Нет доступа. Ну и все. Вещь можно сохранить в тайне, только если никому ее не показывать. Никому – значит, никому, посол Комайд. Даже вам.
Шара поправляет на переносице очки. Ах, так?! Ну ладно, она еще подумает над этим вопросом. Позже. Очень хорошо подумает.
– Итак, – произносит она наконец. – Реставрационисты, говорите?
Мулагеш одобрительно кивает:
– Они самые.
– У вас есть информаторы?
– Ни одного, – качает головой Мулагеш. – Во всяком случае, нет такого, которому можно было бы доверять. Я не желаю лезть в это болото. К тому же они наверняка что‑то пронюхают и начнут орать, что я за ними слежу. Зачем мне это?
– Как насчет обновленцев? Тех, кто поддерживает «Новый Мирград»? Они ведь могут нам помочь.
– До определенной степени. Впрочем, среди Отцов Города есть одна серьезная фигура – даже странно, как он решился открыто поддержать движение… Но вот открыто якшаться с нами, сайпурцами, он вряд ли захочет. Вы же понимаете – его тотчас же заподозрят в тайном злонамеренном сговоре. Хотя… официальных мероприятий никто не отменял, правда? Раз в месяц он устраивает прием для своих сторонников – что‑то вроде благотворительного вечера в поддержку современных деятелей искусства. Ну и выборы на носу, опять же… Так вот, он обычно присылает мне и Главному дипломату официальные приглашения. Если хотите с ним переговорить – отправляйтесь туда.
– Расскажите мне о нем побольше.
– Он из состоятельной семьи – причем очень старинной и очень состоятельной. Несколько лет назад они много вложили в торговлю кирпичом – выгодное дельце, особенно если город перестраивать… Ну и в политике они активны, а как же. Кто‑то из Вотровых обязательно избирается в городской совет уже… м‑мать, это ж сколько ж лет будет?.. Шестьдесят, не меньше.
Шара, методично кивавшая каждой фразе, застывает без движения.
Прокручивает в голове то, что только что услышала. Прокручивает снова и снова.
Ох ты ж! А может, она ослышалась? Мало ли…
– Простите, – решается переспросить она. – Как вы, говорите, их фамилия?
– Вотровы. А почему вы спрашиваете?
Шара медленно откидывается на спинку кресла.
– Имя. Как его зовут, вот о чем я думаю…
– И?
– Уж не Воханнес ли?
Мулагеш вопросительно заламывает бровь:
– Вы знакомы?
Шара не отвечает.
Она вспоминает – и воспоминания обрушиваются на нее страшной тяжестью. Словно бы все это было сказано только вчера.
Когда они встречались в последний раз, он сказал: «Если приедешь ко мне на родину – будешь моей принцессой». А она ответила: «Милый мой мальчик, тебе не принцесса нужна, а принц. Правда ведь? Но на родине, вот незадача, у тебя с этим не срастется – камнями забьют». И самоуверенная улыбочка стаяла с его лица, а голубые глаза заледенели, и лед этот был хрупок и пошел трещинами, словно его бросили в теплую воду. И она поняла: вот сейчас она его обидела. Насмерть. Проникла в некий тайник его души и спалила там все дотла.
Шара зажмуривается и щиплет переносицу.
– Ох ты ж, мама дорогая…
* * *
Колонны рвутся в серое небо, пронзая его раз за разом, полосуя, вспарывая. Небо истекает слабой моросью, и та блестящей испариной оседает на фасадах. Война разворотила город, изранила здания – война давно окончилась, но город так и стоит костями‑кишками наружу. Истощенные дети карабкаются по развалинам храма, на обвалившихся стенах танцует пламя костров, в провалах и подвалах звенят крики. Грязные мелкие оборванцы скачут, как обезьянки, бросаются к прохожим, тянут руки, выклянчивая монетку, еду – да что угодно: улыбку, теплый ночлег… Но в рукавах лохмотьев поблескивает железо: в рванине детишки прячут ножики, и тому, кто подаст им из жалости, не поздоровится. В Мирграде подрастает молодое поколение.
Те, мимо кого идет Сигруд, молчат. Не просят милостыню, не угрожают. Просто молчат и не двигаются с места, пока он не скрывается из виду.
Перед ним улицу переходит стайка замотанных в тяжелую шерсть женщин – плечи ссутулены, глаза скромно опущены. Шея, плечи и щиколотки тщательно прикрыты одеждой. Скрипят и пыхтят допотопные авто. Воняет лошадиным навозом. Из канализационных труб, торчащих почему‑то из верхних этажей, все льется прямо на тротуары. Этот город слишком стар и слишком традиционен для нормальной канализации. Безлицые статуи провожают его с колоннад отсутствующими глазами. С балконов приземистых толстостенных зданий доносятся звуки музыки и смех – там живут богатые и именитые. Люди, которые не выставляют свою жизнь напоказ. Оттуда выглядывают мужчины в черных костюмах, на груди их блестят медали и знаки, они окидывают Сигруда негодующими взглядами, словно бы вопрошая: «Что это за безобразие? Как дикарь с гор мог оказаться в респектабельном квартале?» А рядом с дворцом‑луковицей возникает вдруг странный фасад, похожий на выпавший кусочек головоломки: в половине окон нет стекол, а к рамам жмется деревянная лесенка. И кругом, кругом они – лестницы. Лестницы, завивающиеся потоками и ручьями, со стертыми скругленными ступенями и острыми новыми, широченные и узкие‑узкие…
И Сигруд топает по ним, по одной, по другой, неуклонно следуя за мужчиной и женщиной. Те быстро уходят, словно убегают, от университета, но что это за погоня? Никакого удовольствия. Непрофессионалы – одно слово. За улицей вообще не следят. И еще они переругиваются – то тихо, то громко. И хотя Сигруд держится на расстоянии, кое‑что он слышит.
Мужчина говорит:
– Этого следовало ожидать! Тебя предупреждали, говорили, что такое возможно!
Женщина отвечает сначала тихо, а потом зло повышает голос:
– …и тут они! Явились! Ко мне на работу! Туда, где я днюю и ночую, завтракаю! Да я те полы не десять и не двадцать лет мою, а они! Явились!
И снова вступает мужчина:
– А то ты не знала, что это опасно! Не знала? Знала! И что ж, на попятную теперь? От веры хочешь отречься?!
Женщина замолкает.
Сигруд закатывает свой единственный глаз. Простаки бесполезные… По правде говоря, от таких даже прятаться не стоит – все равно не заметят. Конечно, он снял и свернул свое бордовое пальто – слишком заметно на улице. Пальто, в общем, он нес под мышкой, но ведь в нем самом добрых шесть с половиной футов росту! Да, человеку таких габаритов трудно укрыться от взгляда. Но Сигруд знает: толпа во многом похожа на отдельного человека. У нее есть своя психология, привычки, природа. Толпа бездумно принимает форму – люди выстраиваются в цепочки и ряды, когда идут, определенным образом огибают препятствия. Тут все четко и согласованно, как в хорошо поставленном танце. Надо просто занять место в таком построении – как рыба зависает в стороне от косяка, который вдруг резко меняет направление и стремительно растворяется в глубине океана. Толпы, как и люди, не способны к самопознанию.
Пара останавливается у накренившегося, странным образом закругленного многоквартирного дома. Женщина, посерев лицом, ломает пальцы и выслушивает мужчину – тот что‑то ей шепчет, видимо последние распоряжения. А потом она входит в дом. Спрятавшись в конюшне, Сигруд аккуратно записывает адрес строения.
– Эй! – Из боковой двери вылетает мальчишка‑конюх. – Ты кто такой? Ты че здесь…
Сигруд оборачивается и смотрит на мальчишку.
Тот разом осекается:
– Э‑э… ну я…
Сигруд поворачивается обратно к улице. Мужчина идет дальше по тротуару. Сигруд выходит из конюшни и следует за ним.
Вот теперь это больше походит на настоящую слежку. Мужчина углубляется в мирградские кварталы, которые более всего пострадали от Мига, Войны и прочих жутких катастроф, которые обрушились на город в тот сложный период мировой истории. Лестниц становится в три, а то и в четыре раза больше – Сигруд быстро сбивается со счета. Лестницы завиваются вверх и обрываются в чистом небе – на высоте десяти, двадцати, а то и тридцати футов. Они походят на кости или волнистые рога какой‑то огромной экзотической антилопы. На некоторых верхних площадках гнездятся птицы и ночуют кошки. А вот и вовсе дурацкий вид – огромная базальтовая лестница рассекла целый холм – целая пропасть футов сорок глубиной из‑за нее образовалась. Мало того, она еще и несколько домишек попутно туда завалила, и их руины до сих пор жалостно топорщатся на самом краешке провала, грозясь в любой момент сверзиться внутрь…
К счастью, человек, которого выслеживает Сигруд, не поднимается и не спускается по этим ведущим в никуда ступеням – он деловито шагает по улицам и проулкам. Впрочем, здешние улочки выглядят так же безумно, как и лестницы. Сигруд с интересом посматривает на вросшие друг в друга здания, напоминающие слепленные шаловливыми детскими ручонками игрушки: вот на века построенный офис приличной адвокатской конторы или чего‑то подобного отрастил себе с одного угла совершенно неуместную баню. А некоторые влезшие внутрь чужого фасада здания словно бы иссекли скальпелем и сунули не туда: вот этот кусок обувной лавки явно вырезали и перекинули, запихав посреди банка.
Темп погони нарастает. Объект, которого ведет Сигруд, резко сворачивает влево. Сигруд следует за ним. Объект проскакивает в щель среди груды камней, некогда бывшей высокой стеной. Сигруд ныряет в другую дыру, но визуального контакта не теряет. Объект – Сигруд в этом абсолютно уверен – не догадывается о том, что за ним ведут наружное наблюдение, и взбегает по шаткой лестнице на крышу старой церкви. Сигруд резво скачет за ним со ступеньки на ступеньку, стараясь попадать в ритм его шагов. Расстояние между ним и объектом сокращается.
Сигруд выбирается наверх и осторожно выглядывает – а вот и объект, бежит прямо к краю… Стоп, он же не собирается останавливаться! Тридцать футов до карниза, двадцать, пять… Что это? Он…
Он прыгает.
Перед глазами Сигруда напоследок взлетают полы серого плаща – и человек камнем падает вниз на мостовую, разведя руки и растопырив пальцы.
Сигруд хмурится, выбирается на крышу и подходит к краю.
Вот она, мостовая, футах в сорока внизу. Однако… ни тела, ни отпечатка… вообще ничего. Может, он на что‑нибудь спрыгнул? Но нет, не на что ему спрыгивать – стена гладкая и отвесная. Словно бы он бросился вниз, а потом просто…
Исчез.
Сигруд недовольно ворчит. Вот ведь незадача какая…
Не спуститься ли вниз по стене? С другой стороны, зачем? И он возвращается на лестницу и спускается на улицу.
И опять – никого. Похоже, в этой части Мирграда людей вообще нет.
Сигруд ощупывает булыжники мостовой, камень за камнем. Теплых среди них нет. Холодный, твердый камень.
Он вздыхает.
Чего он только не навидался, работая с Шарой Комайд, – странности, ужасы, диковины и непонятности случались с ним куда как часто. Тем не менее ни разу он не испугался и не взволновался. Странности и ужасности Сигруда просто раздражают – и ничего больше.
И он разворачивается – пора возвращаться в посольство. И тут… тут его посещает нездешнее чувство.
Улица. Она словно бы изменилась в один миг – и на одно мгновение. Когда он не смотрел на нее, а видел лишь краешком глаза. Это невозможно, но он это видел, точно видел: брошенные дома и облупленные фасады исчезли, а вместо них в небо вознеслись немыслимые, сверкающие бело‑золотые башни небоскребов.
Мы даже отдаленно не можем себе представить размер ущерба, нанесенного Мигом.
Дело даже не в масштабах разрушений – хотя масштаб был поистине огромен. Дело в природе этих разрушений: они настолько не укладываются в привычные понятия, что мы – сайпурцы, континентцы, вообще все, кто пережил Миг или родился после, – даже не можем представить себе, что потеряли.
Впрочем, на языке фактов ситуацию можно описать, пусть и поверхностно, так:
В 1639 году, после первой увенчавшейся успехом попытки убить Божество и уничтожения дислоцированных в Сайпуре отрядов континентальной армии, Авшакта си Комайд, недавно принявший венец каджа, собрал крошечный и довольно жалкий флот и отплыл к берегам Континента – который в те времена, естественно, назывался Святыми землями.
Святые земли оказались совершенно не готовы к подобному: почти тысячу лет тамошние жители наслаждались покровительством Божеств, и сама идея, что кто‑то, и уж тем более сайпурец, вторгнется в Святые земли, представлялась совершенно невероятной. Еще более невероятной была сама мысль о том, что кто‑то сумеет убить Божество. Тем не менее жители Святых земель и оставшиеся в живых три Божества (напомним, что Олвос и Колкан задолго до этого покинули мир) весьма обеспокоились долгим отсутствием Божества Вуртьи: они не знали, что Вуртья погибла в Ночь Красных Песков в 1638 году, а ее армия была перебита. Вот почему, когда у южных берегов, близ Аханастана, показался флот, Божества предположили, что это возвращается их сестра со своими сподвижниками, и действовали, исходя из этого.
Это и привело их к гибели. Кадж готовился к вооруженному столкновению при высадке и потому снабдил несколько кораблей теми же аппаратами, с помощью которых он убил Вуртью. А Божества настолько беспокоились о судьбе сестры, что в порт Аханастана встречать флот прибыл сам Таалаврас, предводитель Божеств.
В дошедших до нас воспоминаниях моряков каджа произошедшее в порту описывается по‑разному. Кто‑то говорил, что видел «нависшую над гаванью человекоподобную фигуру двенадцати футов росту, с орлиною головой». Другие рассказывали, что глазам их предстала «огромная статуя, обликом чем‑то напоминающая человека, вся в лесах, – и при этом истукан двигался». Были и такие, кто увидел только «луч синего света, упирающийся в небеса».
Но в каком бы виде не предстал в тот момент Таалаврас, дальнейшее известно точно: кадж направил на него свой аппарат, выстрелил и убил, как и Вуртью перед тем.
Но, поскольку Таалаврас был богом‑строителем, все построенное им исчезло в тот же миг. Судя по величине ущерба, нанесенного Мигом, построил он больше, чем предполагалось. По сути, Таалаврас изменил самые основания реальности Континента. Природа этих изменений, скорее всего, недоступна уму смертного человека. Тем не менее, когда эти изменения исчезли – представим себе это так, словно опоры и крепежи обрушились, гайки и болты выпали, – то самая реальность Святых земель внезапно изменилась.
Матросы каджа не видели Мига: они рассказывают только о страшном шторме, который не давал им высадиться два дня и три ночи. Они считали, что буря вызвана Божествами ради защиты их земель, и не повернули назад только благодаря решимости каджа. Они и не подозревали, что всего в несколько милях от них происходит катастрофа вселенского масштаба.
Целые страны исчезли с лица земли. На месте улиц зияли провалы. Храмы обратились в пепел. Звезды пропали с небосклона. Небо закрыли тучи, и климат Континента необратимо изменился: некогда солнечные, изобилующие песками сухие земли обратились в неприветливо холодные, влажные и вечно пасмурные – прямо как земли дрейлингов на севере. Здания божественной природы схлопнулись в одиноко стоящие камни, и их обитателей, похоже, постигла страшная участь. А Мирград, город священный по преимуществу, над которым Таалаврас неустанно трудился более всего, в один страшный миг уменьшился в диаметре на мили и мили, и так самая природа города едва ли не уничтожилась, а сотни тысяч жителей – если не больше, причем настолько больше, что даже подумать о таком страшно, – перестали существовать. Сам Престол мира, храм и зал собраний Божеств, полностью исчез, осталась лишь его колокольня – и та уменьшилась в размере, так что теперь в ней всего несколько ярусов.
Словом, целый образ жизни – вместе со своей историей и знанием о себе – погиб в один миг.
Д. Ефрем Панъюй. К вопросу об утраченной истории. 1682 г.
Мертвые языки
Едва процарапанные карандашом буквы сливаются в скудном свете ламп. Шара недовольно цокает языком, зажигает еще одну лампу, садится за стол и снова пытается прочитать написанное. Проклятый город, насколько же они тут отсталые, что даже в посольстве нельзя добиться нормального напора газа в лампах?
Она переписала зашифрованную записку профессора на несколько листов бумаги, пытаясь выжать из перекрученных букв правду, – с тем же успехом можно было стараться выжать воду из камня. Рядом с документами остывала чашка нуньянского чая (Шара решила сделать перерыв с сирланом – если она продолжит его потреблять в таких же количествах, запасов посольства хватит едва ли на неделю). Она так низко склоняется над документами, что тепло ламп обжигает лицо.
Судя по расстановке букв, это все‑таки адрес. Она уже разобралась с частью шифра, однако это, скорее всего, даже не шифр в обычном смысле слова: скорее, послание просто записано буквами нескольких наугад выбранных алфавитов. Вот это, похоже, согласные, их верхняя часть – из гешати, мертвого языка Западного Сайпура. Над нижней половиной пришлось покорпеть пару часов, но она все‑таки разгадала их: это, судя по всему, чотокан – невероятно редкий и практически неизвестный (поскольку никому не понятный) язык, на котором говорят в горах к востоку от дрейлингских республик.
Осталось разобраться с гласными.
А потом с цифрами.
Ох уж эти цифры…
Теперь она уже не так сильно восхищается профессором. «Что ж ты делаешь, Панъюй, старый ты хитрющий лис…»
Шара отставляет в сторону чашку и откидывается в кресле. Очень хочется верить, что она никак не может разобраться с запиской просто потому, что шифр сложный. На самом же деле она не желает себе признаться в том, что просто не может сосредоточиться. И думает о другом.
«Он здесь. Здесь, в городе. В этом же городе. Возможно, всего в нескольких кварталах отсюда. И как я упустила это из виду? Разве можно быть такой дурой…»
* * *
Все это началось – как и многие другие Шарины дела и занятия длиною в жизнь – с игры.
Первый день триместра в академии Фадури в Галадеше – всегда очень напряженный. Юные дарования изо всех округов и со всех островов Сайпура обнаружили, что просторные коридоры и аудитории Фадури заполнены такими же юными дарованиями. И быстро поняли, что, несмотря на внушаемое с детства «ты – особенный и не такой, как все», здесь они могут оказаться вовсе не такими уж особенными. Это дома все они гении, а тут – тут нужно из кожи вон вылезти, чтобы доказать, что ты лучший. Потому что доказывать это придется лучшим из лучших.
Чтобы разрядить обстановку, школа в выходные перед началом занятий традиционно устраивала соревнования по батлану. Затея снискала такую популярность, что родители изо всех сил натаскивали детей перед приездом – видимо, руководствуясь ошибочным представлением, что высокое место в турнирной таблице гарантирует их чаду хорошие оценки и обеспеченное будущее.
Шара Комайд, тогда шестнадцати лет от роду, не разделяла общих тревог и ожиданий. Во‑первых, она пребывала в неколебимой уверенности, что она – самая способная и лучше ее в академии не сыскать. Во‑вторых, к батлану она относилась с некоторой долей презрения, ибо полагала ее игрой для выпендрежников, к тому же слишком зависимой от случая и везения: игроки по очереди бросали кости, и выпавшие очки определяли их дальнейшие действия. Да, это добавляло игре непредсказуемости, но выводило ее из‑под контроля. Поэтому она всегда предпочитала товос‑ва – похожую на батлан, но требующую больше мысленных усилий и более медленную игру. В ней победа доставалась тому, кто умел думать на несколько ходов вперед. Так или иначе, играть в нее случалось крайне редко: это была континентская игра, и в Сайпуре о ней почти никто не слышал.
Впрочем, уроки, усвоенные при игре в товос‑ва, могли пригодиться и в батлане. До определенной степени, конечно. Чтобы совладать с фактором случайности, приходилось думать намного, намного вперед. Но если ты умел это делать и планировал свои следующие ходы – о, в таком случае разделать ординарного игрока в батлан не составляло никакого труда.
В те выходные перед началом триместра Шара проложила себе место в верхние строчки турнирной таблицы с безжалостностью акулы. Поскольку она выиграла в первой дюжине состязаний, ей, чтобы добраться до финала, предстояло выиграть еще за тремя дюжинами досок. Сидящие напротив игроки вызывали у нее все больше презрения: прямо как дети, ей‑ей, они попадались в ее ловушки один за другим, а все потому, что полагали, что играют в одну игру, а на самом деле им навязывали совсем другую. И она без стеснения выказывала, что чувствует по отношению к незадачливым противникам: вздыхала напоказ, закатывала глаза, подпирала подбородок рукой, укоризненно сопя, когда все они делали один дурацкий непродуманный ход за другим.
Другие студенты посматривали на нее с неприкрытой ненавистью. А когда они прознали, что ей на самом деле шестнадцать, то есть на два года меньше, чем обычному первокурснику Фадури, ненависть сгустилась в ярость.
Шара настолько уверилась, что без труда выиграет состязания, что совершенно не обращала внимания на турнирную таблицу. А когда все‑таки взглянула, то с удивлением обнаружила, что другой игрок учинил практически то же, что и она: растерзал противников и вырвался наверх. Сидел он с другой стороны коридора. И фамилия у него была Вотров.
Она откинулась в кресле и огляделась по сторонам: где же он? Обнаружить его в толпе оказалась куда как просто.
К ее удивлению, он был не сайпурцем, а континентцем: высокий, худой голубоглазый молодой человек с белой кожей, рыжими волосами и волевым подбородком.
– Я сделал свой ход, – сообщил соперник Шары.
– Ш‑ш‑ш‑ш… – отмахнулась Шара – она во все глаза смотрела на юношу, подмечая каждое его движение.
– Что? – сердито переспросил соперник.
– Ой, ну ладно, ладно, – нетерпеливо отозвалась Шара и сделала два хода, которые в следующем заходе должны были обернуться для сидящего напротив сокрушительным поражением.
И продолжила пожирать глазами континентца.
Богачи оттуда частенько посылали своих отпрысков на учебу в Сайпур. В конце концов, Сайпур – самая богатая и процветающая страна в мире, а на Континенте все еще неспокойно. А выглядел парень сущим аристократом: сидел, с ленцой развалясь в кресле, глядел приветливо, но не скрывал скуки и при этом все время болтал с игроками напротив, весело подначивая их, – прямо как за светским разговором в кофейне.
Тут юноша поднял взгляд, и их глаза встретились. Он широко улыбнулся и подмигнул.
Обескураженная Шара вернулась к партии.
В конечном счете, после двух часов непрерывной игры и разгромных партий с половиной студенческого населения Фадури, Шара оказалась лицом к лицу с континентцем. Они встретились в финале, один на один, а все остальные, студенты и преподаватели, стояли вокруг и наблюдали за партией.
Она недоверчиво посмотрела на континентского мальчишку: тот с самоуверенной улыбочкой потянулся, со щелчком размял костяшки пальцев и заявил:
– Ну что ж, сыграем? Наконец‑то настало время для первой настоящей партии!
И принялся расставлять фигуры батлана.
– Не понимаю, о чем ты, – пробурчала Шара – она делала то же самое.
– Хм. Возможно, – протянул он. – Скажи мне вот что. Ты когда‑нибудь слышала о такой игре, как товос‑ва?
Сердце Шары екнуло. Очередная фигура замерла на весу над доской.
– Там, откуда я родом, эта игра очень популярна! – радостно сообщил парень. – Да, у нас в Мирграде проводится ежегодный турнир по товос‑ва! И я… дай‑ка припомнить… сколько же турниров я выиграл? Помню, что три подряд, просто не помню, когда точно…
Шара закончила расставлять фигуры.
– Сударь, предлагаю вам прекратить разглагольствовать и начать игру.
Он посмотрел на ее фигуры и расхохотался:
– Приятно видеть, что твои подозрения небеспочвенны! Это похоже на Финт Мискени, правда ведь? – веселился он. – Или было бы похоже, играй мы в товос‑ва. Хорошо, что это батлан, да?
И он поставил на место свою последнюю фигуру.
Шара оглядела их:
– А это, – кивнула она, – Петля Стровского.
Он торжествующе осклабился.
– Или ты хочешь заставить меня поверить, что это она, – продолжила Шара. – Потому что сдается мне, что через три хода это станет Бастионом Авангарда, а после – Основным Флангом.
Юноша поморгал, словно ему залепили пощечину. Улыбка сползла с его лица.
– Но хорошо, что это батлан, да? – свирепо проговорила Шара. И наклонилась над доской: – Ты выглядишь куда привлекательней, красавчик, – прошипела она, – с отмытым от самодовольства лицом.
Студенты вокруг согласно ахнули.
Парень сверлил ее пристальным взглядом. Хохотнул всего единожды, словно бы не веря своим ушам. Потом коротко бросил:
– Кидай кости.
– С удовольствием, – кивнула Шара.
По столку покатились фигурки слоновой кости, и игра началась.
Поединок их растянулся аж на четыре часа: они бесконечно примеривались друг к другу, то и дело занимая оборонительную позицию, перестраивая фигуры и меняя комбинации. Как сказал один преподаватель, более консервативной партии в батлан он еще не видел. Впрочем, на самом деле они, конечно, играли совсем не в батлан, а в совершенно другую игру – причудливую смесь батлана и товос‑ва, которую сами же изобретали в ходе схватки.
Он беспрерывно болтал, щебетал, журчал, как ручеек, – обращенный к ней поток слов не иссякал ни на минуту. Шара упорно молчала три часа – три часа подначек и подшучиваний. А потом континентский мальчишка изрек:
– И все же скажи мне: неужели в твоей жизни так мало веселья, что ты тратишь время на изучение непонятных иностранных игр?
Он сделал ход, который выглядел весьма агрессивным, но Шара‑то знала, что это финт.
– У тебя что, нет друзей? Близких?
– Ты так уверен, что научиться играть в твою игру очень сложно, – процедила рассерженная Шара, – но для меня ваши игры и ваша культура – просто чепуха и детский лепет.
И она проигнорировала расставленную ей ловушку и пошла в самоубийственную – на несведущий взгляд – атаку.
Он расхохотался:
– Заговорила‑таки! Этот боевой топорик, оказывается, наделен даром речи!
– Уверена, что благодаря своему положению в обществе ты привык к беспрекословному повиновению и потаканию малейшим прихотям, а те, кто обманывает твои ожидания, кажутся тебе совершенно невыносимыми представителями человечества.
– Возможно. Возможно, я забрался так далеко только для того, чтобы услышать подобную отповедь. Однако удивляет меня вот что: какие же удары судьбы обрушились на тебя, мой милый боевой топорик, что ты получила такую бритвенную заточку?
И он свернул наступление и укрепил оборону. (За его спиной какой‑то студент недовольно проворчал: «Ну и когда они начнут играть по‑настоящему?»)
– Ошибаетесь, сударь, – сказала Шара. – Вы просто излишне чувствительны. На самом деле, дорогой принц, я ожидала, что это жесткое, не подбитое плюшем кресло натрет вам попку.
Студенты рассмеялись, а Шара принялась спокойно и методично готовить ему западню.
Юный континентец, похоже, и не думал обижаться. Напротив, в глазах его вспыхнул странный огонек.
– Ах, моя дорогая, – протянул он, – если ты возьмешься проверить, так ли это, я, пожалуй, не стану возражать…
И сделал следующий ход.
– Что это значит? – возмущенно спросила Шара.
И сделала еще один ход – словно бы отступая, а на самом деле заманивая в ловушку.
– Не прикидывайся невинной овечкой! – парировал он. – Это ты подняла тему, не я! Я просто уступаю тебе инициативу…
И он сделал еще один ход – наобум, не думая.
– Что‑то я не вижу, чтобы ты уступал мне, – пробормотала Шара.
Она отступала, отступала, подкинула еще и приманку и все думала: «Странно, почему он вдруг стал так промахиваться?»
– Внешность, – сообщил парень, – бывает обманчива.
И он бросил кости – и снова бросился в атаку.
– Согласна, – покивала Шара. – Итак. Не хочешь на этом закончить?
– Закончить что, позволь спросить?
– Партию. Если хочешь, можем прямо сейчас взять и разойтись.
– Ты предлагаешь ничью?
– Нет, – отрезала Шара. – Я ставлю тебя в известность о том, что я выиграла. Это, конечно, произойдет через несколько ходов, но… в общем, я выиграла.
Наблюдавшие за игрой студенты стали изумленно переглядываться.
Континентец наклонился над столом, присмотрелся к ее фигурам, потом внимательно оглядел свои – похоже, последние несколько раз он действительно ходил наобум. Тут Шара поняла: а ведь он даже не смотрел на доску. Он не сводил глаз с нее.
Парень разинул рот.
– Ох, – проговорил он. – Кажется, я понимаю…
– Еще бы, – сказала Шара.
– Хм. Так‑так. Нет, давай‑ка мы поступим честно и отыграем партию до конца, идет?
Это была формальность, которая продлилась чуть дольше положенного благодаря нескольким удачным броскам костей, но вскоре Шара собирала его фигурки с доски. К ее вящему раздражению, континентец не выглядел пристыженным или сконфуженным: он просто продолжал ей улыбаться.
Она сделала то, что сочла предпоследним ходом.
– Не могу не спросить. Ну и как это – проиграть сайпурской девчонке?
– Ты, – сообщил он, покорно склоняя шею под ее клинок – деваться все равно было некуда, – не девчонка.
Она на миг замерла: о чем это он?
Шара сняла с доски его последнюю фигуру. Зрители вокруг восторженно заорали, но она их едва слышала. Любит он загадывать загадки… Что он имел в виду?
– Готова дать возможность отыграться – когда захочешь.
– Ну я, по правде, – весело проговорил он, – предпочел бы перепихнуться.
Она ошалело вытаращилась.
Он подмигнул, встал и пошел к своей компании. Шара посмотрела ему вслед, потом оглядела восторженно голосящую толпу студентов.
Интересно, кто‑нибудь еще это услышал? Он что, всерьез? Нет, правда?
– Это кто такой был? – громко спросила она.
– Ты что, правда не знаешь? – спросили ее в ответ.
– Нет.
– Да ты что! Ты действительно не в курсе, что играла против Воханнеса Вотрова? Самого мажорного мажора на всем Континенте, будь он неладен?
Шара посмотрела на пустую доску и задумалась: а что, если этот парень играл не в батлан и не в товос‑ва, а в какую‑то совсем другую игру. Причем совершенно ей, Шаре, не известную.
* * *
Эти проклятые цифры сведут ее с ума. И жизнь укоротят на пару десятков лет.
Она расшифровала практически всю записку. Вычитывалось в ней сейчас следующее: _ _ _ Х_Й‑СТ___Т, БАНК СВ___ГО М_ _ _В_ _ ВЫ, ЯЧ_ _ _А_ _ _ _ Г _В _НИ Т_ _ _КАН_ _ _ _.
Значит, ячейка. В каком‑то банке. Который назван в честь какой‑то святой. В обычном случае это бы чрезвычайно сузило выборку, но в Мирграде Хай‑стрит – очень длинная улица, и практически каждый первый банк назван в честь какого‑нибудь святого.
Вообще‑то, на Континенте практически все названо в честь святых. Это Шаре тоже прекрасно известно. Сайпурские историки подсчитали, что на Континенте перед Великой Войной насчитывалось что‑то около семидесяти тысяч святых: похоже, Божества подмахивали сертификаты о святости не глядя и раздавали их направо и налево. Когда в силу вступили СУ, убрать имена святых из обихода – а также переименовать все города и края, названные в честь Божеств и божественных созданий, – оказалось непосильной задачей, и поэтому Сайпур сделал вид, что идет на огромную уступку и соглашается смотреть на это сквозь пальцы. Хотя на самом деле на это дело просто плюнули за неимением сил и ресурсов. А сейчас Шара смотрит на текст записки и искренне сожалеет об этом. Потому что имплементация Светских Установлений изрядно упростила бы ее задачу.
Имена. Да уж, с ними всегда столько мороки… Посмотреть хотя бы на Южные моря – какие же они Южные? Они ведь лежат к северо‑востоку от Сайпура! Но называются Южными по той просто причине, что получили свое имя на Континенте. А имена – как уже начали понимать в Сайпуре – не так‑то просто сменить. Они намертво цепляются за вещи.
А еще эти цифры… Шара еще не разобралась с ними, но уже прикидывала, как там и что. Числительные и цифры в древних языках – вообще гиблое дело. Так, например, одна секта особо фанатичных почитателей Божества Жугова отказалась от числа 17. Почему – никто из историков так и не сумел выяснить.
Она хорошо помнит их с Панъюем беседу на конспиративной квартире в Аханастане:
– Мертвых языков – как звезд в небе, – сказал он.
– Так много? – удивилась Шара.
– Древние жители Континента знали, что делали. Они прекрасно понимали, что власть над умами можно взять, только контролируя язык покоренных наций. Когда национальные языки умерли, вместе с ними исчезли образ мышления и свойственная им картина мира. Они мертвы, и их не вернуть.
– Вы – один из тех академических ученых, что пытаются возродить родной язык Сайпура? – спросила Шара.
– Нет. Сайпур – большая страна, там у каждой провинции был свой родной язык. Подобные предприятия оставьте ура‑патриотам, мне до них дела нет.
– Тогда какой смысл всем этим заниматься?
Он разжег трубку. И сказал:
– Хм. Все мы обращаемся к нашему прошлому, чтобы узнать, как пришли к настоящему, разве нет?
И все‑таки он ей соврал. Использовал втемную. И не сказал, зачем сюда едет.
Шара возвращается к работе. Впереди много часов работы. К тому же работа отвлекает от ненужных воспоминаний.
* * *
Отучившись два месяца, они снова встретились. Шара сидела в библиотеке – читала о деяниях Сагреши, героической помощницы каджа. Читала и краем глаза заметила, что кто‑то сел за стол у окна.
Он склонил голову над книгой, золотисто‑рыжие кудри падали на лоб. Похоже, он не умел сидеть прямо: сейчас он весь скривился и завалился назад. На коленях лежал том работ о Тинадеши – инженере, строившем на Континенте первые железные дороги.
Шара окинула его сердитым взглядом. Потом подумала, поднялась, собрала свои книги и уселась напротив. И стала молча смотреть на него.
Он даже не поднял головы. Просто перевернул страницу и через некоторое время сказал:
– И что же тебе от меня нужно?
– Почему ты тогда сказал это?
И он поглядел на нее сквозь упавшие на глаза спутанные волосы. И хотя Шара была не из тех, кто злоупотребляет алкоголем, характерная припухлость век объяснила ей многое – в Фадури преподаватели называли это «утренним недомоганием».
– Что – это? – спросил он. – Ах, на турнире…
Она кивнула.
– Ну… – И тут он скривился и, словно застеснявшись чего‑то, уткнулся обратно в книгу: – Да зацепить тебя хотелось. Ты ж серьезная такая вся сидела до невозможности. Не улыбнулась ни разу, несмотря на все победы.
– Но что конкретно ты имел в виду?
Тут он посмотрел на нее – явно не понимая, чего от него хотят:
– Э‑э‑э… ты… серьезно спрашиваешь?
– Ну да.
– А сама‑то как думаешь? Что конкретно я мог иметь в виду, когда сказал, что хочу с тобой перепихнуться? – неуверенно выговорил он.
– Да я не об этом, – пренебрежительно отмахнулась Шара. – С этим все понятно. Я о другом. Ты сказал, что я… не девчонка.
– Ты что, на это разозлилась? Серьезно?!
Шара смерила его злющим взглядом.
– Так, понятно, – сказал он. – Короче. Я девчонок достаточно повидал. Девочкой, кстати, можно быть в любом возрасте. В сорок. В пятьдесят. Есть в них какая‑то взбалмошность – впрочем, и сорокалетний мужчина может вести себя воинственно‑агрессивно, словно нетерпеливый мальчик пяти лет от роду. Но – в любом возрасте можно быть и женщиной. А ты, моя дорогая, уже к шести годам, уверен, приобрела душу пятидесятитрехлетней или даже пятидесятичетырехлетней женщины. Мне это абсолютно очевидно. Ты – не девчонка.
И он снова уткнулся в книгу:
– Ты – сто процентов женщина. Причем, скорее всего, весьма преклонных годов.
Шара подумала над этим. А потом вытащила собственные книги, разложилась и принялась читать – там же, куда села, напротив него. В ней кипели ярость и гнев, но в то же время она чувствовала себя странным образом польщенной.
– Да, эта биография Тинадеши – полное говно. Так, на всякий случай предупреждаю, – сообщила она.
– Правда?
– Угу. Автор предвзят. Плюс у него сомнительные ссылки.
– Ах, вот оно что. Ссылки, значит. Это очень важно.
– Да.
Он перевернул страницу.
– А кстати, – вдруг сказал он, – а ты, случайно, не думала над той, другой фразой? Ну насчет того, чтобы перепихнуться?
– Заткнись.
Он улыбнулся.
* * *
И они стали встречаться в библиотеке почти каждый день, и их отношения очень походили на ту игру в батлан: долгое, изматывающее противостояние, в котором никто не мог толком продвинуться или уступить. С самого начала Шара понимала, что, если принять во внимание национальность, они поменялись ролями: она выступала суровым непреклонным консерватором, фанатично защищавшим правильный образ жизни и преимущества дисциплины и служения ближнему. А он – он вел себя как снисходительный вольнодумец, держащийся точки зрения, что если кому‑то заблагорассудится что‑то сделать, и это никому не вредит, более того, если у человека есть деньги, чтобы оплатить свою прихоть, то кому, в конце‑то концов, какое дело?
Оба соглашались с тем, что их страны находятся в критически опасном состоянии. «Сайпур разжирел и размяк, занимаясь торговлей, – сказала ему как‑то Шара. – Мы считаем, что безопасность можно купить за деньги. И никому, совершенно никому не приходит в голову, что за безопасность нужно бороться – каждый день, каждый час».
Воханнес закатил глаза:
– Батюшки, какая жуткая у тебя картина мира. Мало того что циничная, так еще и скучная до зевоты.
– Я права, – упорствовала Шара. – Сайпур стал тем, чем стал, благодаря военной силе. А вот гражданское правительство у нас излишне мягкотелое.
– И что ты собираешься предложить? Чтобы сайпурские дети выучили еще одну клятву верности Родине? – расхохотался Воханнес. – Дорогая моя Шара, неужели ты не видишь? Сила Сайпура в том, что он позволяет людям быть людьми. В отличие от Континента.
– Ты… ты – восхищаешься – Сайпуром? Ты ведь континентец!
– Конечно, восхищаюсь! И не только за то, что здесь я не смогу подхватить проказу – чего, увы, нельзя сказать о Континенте. Просто здесь… здесь вы как‑то человечнее, что ли. Разве ты не знаешь, как редко такое встречается?
– Я‑то думала, что тебе нужны дисциплина и взыскания, – протянула Шара. – Вера и самоотречение.
– Так думают не все континентцы, а только колкастани, – сказал Воханнес. – И это ублюдочный образ жизни. Поверь мне.
Шара покачала головой:
– Ты неправ. Мир можно поддерживать только силой. И верой в идею. Так всегда было – и ничего не поменялось.
– Я смотрю, для тебя в мире царят холод и мрак, дорогая моя Шара, – улыбнулся Воханнес. – Надеюсь, что твой прадед научил тебя главному: даже один человек может изменить к лучшему жизни многих.
– Восхищаешься каджем? За такое на Континенте тебя убьют.
– На Континенте меня вообще за кучу вещей могут убить.
Оба, как и положено образованным отпрыскам влиятельных семейств, полагали очевидным, что вскоре изменят судьбы мира, – вот только никак не могли сойтись на том, как же их лучше поменять. Шара беспрестанно фонтанировала идеями: написать объемный исторический труд о сайпурской и мировой истории? Или пойти в политику, как тетушка? Воханнес тоже не отставал: профинансировать грандиозный дизайнерский проект перестройки всех полисов Континента? Или вложить деньги в радикально новую бизнес‑идею?
Его тошнило от ее идей, ее – от его, и они не скупились на желчные комментарии, оплевывая респективные замыслы.
Вполне возможно, что они оказались в одной постели просто потому, что устали от нескончаемых словесных баталий.
Однако дело было, конечно, не только в этом. Шара ведь хорошо понимала: ей не с кем было поговорить по душам – пока она не встретила Воханнеса. А он, похоже, чувствовал себя так же: оба из респектабельных знаменитых семей, оба сироты – и оба, благодаря своему происхождению, выросли в тотальной изоляции. Их отношения весьма походили на ту игру, что они вели во время состязания: их приходилось выдумывать каждый день наново, и никто, кроме них, не мог разобраться, что вообще между ними происходит.
На первом и втором курсе Шара, если не училась, беспрерывно – просто беспрерывно и постоянно – занималась сексом. Она только потом смогла это оценить. А на выходных, когда горничные академии не выходили на работу и все могли ночевать где вздумается, она оставалась у него в комнате и могла продремать в его объятиях целый день – время от времени удивляясь, как ее сюда занесло и что она делает в постели чужестранца родом из краев, которые ей положено всем сердцем ненавидеть.
Нет, она не считала, что это любовь. Она не считала, что это любовь, когда стала непривычно сердиться и тревожиться в его отсутствие. Она не думала, что это любовь, когда получила от него записку и испытала странное чувство облегчения. И она не думала, что это любовь, когда ловила себя на мысли: а как они будут жить через пять, десять, пятнадцать лет. Ей вообще не приходило в голову, что вот это – любовь.
А спустя годы корила себя: как же мы были глупы в молодости… Не видели того, что перед носом…
* * *
Шара откидывается в кресле и обозревает результат своего труда:
3411 ХАЙ‑СТРИТ, БАНК СВЯТОГО МОРНВЬЕВЫ, ЯЧЕЙКА 0813, ГИВЕНИ ТАОРСКАН 63611
Вытирает пот со лба, смотрит на часы – три утра. И тут же наваливается усталость.
Но самое трудное еще впереди. Надо же как‑то добраться до содержимого ячейки. Но как?
В дверь стучат.
– Войдите, – говорит она.
Дверь распахивается. Сигруд вдвигается внутрь комнаты, усаживается напротив и принимается неспешно набивать трубку.
– Как все прошло?
Странное у него выражение лица – растерянное. Словно бы он продолжает смотреть на что‑то безмерно его удивившее.
– Плохо?
– Плохо, – кивает он. – Но и хорошо тоже. А еще… странно.
– Что случилось?
Он сердито пихает в рот трубку.
– В общем, про тех двоих. Сначала женщина. В общем, она работает в университете. Уборщицей. Зовут ее Ирина Торская. Не замужем. Семьи нет. Увлечений нет. Только работа. Я проверил, где она убирала, – у профессора в кабинете. И на квартире. Ее приставили к уборке у доктора Панъюя с самого его приезда сюда.
– Отлично, – кивает Шара. – Возьмем, значит, ее в разработку.
– Второй, который мужчина… а вот он…
Тут Сигруд рассказывает, что с ним приключилось в безлюдных трущобах Мирграда.
– Так что же, он просто… исчез? – спрашивает Шара.
Сигруд кивает.
– Звук какой‑нибудь необычный ты слышал? Как хлыстом щелкнули?
Сигруд отрицательно качает головой.
– Хм. Если бы ты услышал что‑то похожее на щелчок хлыста, я бы подумала, что это…
– Кладовка Парези.
– Парнези.
– Какая разница!
Шара задумчиво потирает виски. Святой Парнези умер несколько веков тому назад, а вот труды его никуда не делись и продолжают доставлять неприятности. Парнези был священником Жугова и умудрился влюбиться в монахиню‑колкастани. Поскольку Колкан к сексу относился крайне неприязненно, Парнези столкнулся с определенными трудностями во время визитов в монастырь своей возлюбленной. А деятельный и хитрый Жугов изобрел чудесную штуку, позволившую Парнези исчезать без следа под носом у врагов – как божественных, так и смертных: кладовку, или невидимый воздушный карман, в который можно нырнуть в любой миг. Так он и проникал в монастырь на свидания к любимой.
Естественно, подобное чудо можно использовать в совсем небезобидных целях. Так, два года назад Шара потратила три месяца жизни на то, чтобы разобраться с утечкой документов в посольстве в Аханастане. Виноваты оказались трое торговых атташе, которые каким‑то образом наложили руки на чудесный артефакт. И если бы один из них не злоупотреблял одеколоном – а надо сказать, что запах в Кладовке Парнези не спрячешь, – Сигруд бы его ни за что не поймал. Но так вышло, что он все‑таки изловил преступника и поступил с ним крайне невежливо… Зато изменник быстро сознался и выдал имена сообщников.
– Я‑то боялась, что это чудо после происшествия в Аханастане станет излишне популярным… – пробормотала Шара. – Только этого нам и не хватало. Последствия были бы жуткими… Но если это не Парнези… А ты положительно уверен, что он прямо взял и исчез?
– Я умею отыскивать людей, – с непреклонной и равнодушной уверенностью заявил Сигруд. – Этого человека я отыскать не смог.
– А ты, случайно, не видел – он не вытаскивал кусок серебристой материи? Скальп Жугова имеет примерно такие свойства… Но его уже сорок лет как не видели… выглядит как серебристая простыня. Не видел такой?
– Ты упускаешь главное, – сказал Сигруд. – Даже если этот человек стал невидимкой – он упал с высоты нескольких этажей. Он должен был разбиться насмерть.
– Упс. Да, точно.
– А я ничего такого не увидел. Я обыскал каждую пядь улиц вокруг. Обыскал квартал. Опросил всех, кого можно. И ничего не нашел. Но…
– Но что?
– На одно мгновение… словом, мне показалось, что я не там, а в другом месте.
– Батюшки, о чем это ты?
– Сам не знаю, – вздохнул Сигруд. – Но словно бы я оказался в… старинном городе, что ли. Я видел здания, которых там не было.
– Какого рода здания?
Сигруд пожимает плечами:
– Словами описать не могу. Не получается.
Шара поправляет на носу очки. Вот это да. Плохо дело…
– Как у тебя дела? – спрашивает Сигруд, оглядывая пучок ламп и кучи бумажек. – Гляжу, ты аж три чайника употребила… Так что все либо очень хорошо, либо очень плохо.
– Все как у тебя – есть хорошие новости, и есть плохие новости. Письмо Панъюя в банковской ячейке. Вот только я не знаю, как до него добраться.
– Ты ведь не собираешься отправить меня грабить банк?
– Нет‑нет‑нет! Ни за что! – ужасается Шара. – Могу себе представить заголовки газет…
И количество трупов, м‑да…
– Как насчет подергать за ниточки?
– Ниточки?
– Ну ты же дипломат, – говорит Сигруд. – А Отцы Города – они как марионетки, разве нет? Вот и подергай их, пусть подрыгаются.
– Не уверена, что это поможет. Я, конечно, могла бы надавить на них… но вдруг за ячейкой установлено наблюдение? Потому что сдается мне, что за Панъюем следили, и очень пристально. Он занимался такими вещами… словом, я не знала, что он этим занимается. И он, похоже, не спешил поставить меня в известность.
Она поднимает взгляд на Сигруда:
– Я не уверена, что должна рассказывать тебе про это. Но, если ты спросишь, я отвечу.
Сигруд пожимает плечами:
– Мне как‑то все равно, если честно.
Шара вздыхает с нескрываемым облегчением. Все‑таки здорово, что у нее такой «секретарь», – ему совершенно плевать на все эти пляски вокруг умолчаний и конфиденциальности: он совершенно удовлетворен свой ролью молотка в мире гвоздей.
– Ну и прекрасно, – кивает Шара. – Я бы не хотела афишировать, что мы проявляем особый интерес к разысканиям Панъюя, – потому что если они узнают, что мы не знаем того, что знал Панъюй… В общем, может нехорошо получиться. Нам нужно действовать тоньше. Правда, я пока не знаю, как.
– Так что же нам делать сейчас?
Сначала Шара не находит, что ответить. А потом, очень постепенно, понимает, что ответ она обдумывала всю ночь. Просто не замечала этого.
Да, решение очевидно. Но какой же на сердце из‑за этого камень… И все равно. Это сработает. Обязательно сработает. Так что будет глупо не попробовать.
– Ну… – тянет Шара. – У нас есть одна наводка. Кто у нас в Министерстве соображает в финансах?
– Финансах?
– Да. Особо интересует банковское дело.
Сигруд пожимает плечами:
– По‑моему, я слышал, что Юндзи все еще работает…
Шара делает пометку:
– Юндзи подойдет. Я с ним в ближайшее время свяжусь. Пусть проверит… Думаю, я права. Но мне нужно, чтобы он сообщил точную информацию насчет того, как все там обстоит с финансовой точки зрения.
– Значит, мы до сих пор сами по себе? Я и ты против всего Мирграда?
Шара заканчивает писать:
– Хм. Нет. Думаю, мы одни не справимся. Начинай рассылать агентов. Думаю, нам понадобятся люди. Точнее, глаза. Но они не должны знать, что работают по заданию Министерства. Впрочем, что я говорю: ты прекрасно справляешься с подрядчиками.
– И сколько мы им готовы заплатить?
Шара называет цену.
– Вот почему у меня прекрасно получается с ними справляться, – кивает Сигруд.
– Отлично. И последнее. Вынуждена спросить: у тебя есть одежда для вечеринки?
Сигруд лениво указывает на свои заляпанные грязью сапоги и выпачканную в саже рубашку:
– А что, на вечеринку в этом не пустят?
* * *
В предрассветной мгле Шара лежит и ждет, когда к ней придет сон. И вспоминает.
Случилось это ближе к середине срока, отпущенного их роману, хотя ни она, ни Воханнес об этом не догадывались. Она увидела его под деревом. Во сидел и смотрел, как в водах Хамарды проплывают байдарки, – наступило время тренировок по гребле. Команда девушек как раз спустила суденышко на воду и забиралась в него. Когда Шара подошла и присела к нему на колени – она часто так делала, – то почувствовала, что сзади в нее уперлось что‑то мягкое и объемное.
– Мне начинать волноваться? – поинтересовалась она.
– Насчет чего? – удивился он.
– А ты как думаешь?
– Дорогая, я на природе стараюсь вообще не думать. Отдых портит, знаешь ли.
– Должна ли я волноваться, – уточнила она, – насчет того, что когда‑нибудь ты подаришь своей благосклонностью другую девушку?
Воханнес расхохотался. Он был искренне удивлен:
– Надо же, боевой топорик способен на ревность!
– Зачем ревновать без причины? – И она запустила руку за спину и пощупала шишку под штанами. – А это, сдается мне, вполне себе причина.
Он довольно проворчал:
– Я и не думал, что у нас все настолько официально.
– По‑твоему, мы сейчас степень официальности обсуждаем?
– Ну да. А разве нет? Дорогая, разве ты не хочешь этим сказать, что ты принадлежишь мне, а я – тебе? Неужели ты хочешь быть моей девушкой всегда? И принадлежать только и исключительно мне?
Шара не ответила. И отвернулась.
– Что случилось? – спросил Воханнес.
– Да ничего.
– Нет, ну что случилось, правда? – Он явно расстроился. – Что такого я сейчас сказал?
– Я же сказала – ничего!
– Но я же вижу, что очень даже чего. Ты распространяешь вокруг себя ледяной холод, дорогая.
– Ну… наверное, это действительно неважно. Просто я… В общем, все дело в нас. В том, как мы, сайпурцы, устроены.
– Ох, Шара, не томи, выкладывай. Могу ведь я узнать, в чем дело, правда?
– Ну, для тебя‑то тут ничего такого ужасного нет. Для тебя совершенно нормально сказать: «ты принадлежишь мне». Что я – твоя девушка. Просто мы так не говорим. И тебе, наверное, трудно понять, почему… ведь вами, жителями Континента, никогда не владели. Вы никогда не были чьей‑то собственностью. И когда это говоришь именно ты, Во, поверь, это звучит… очень своеобразно.
Воханнес тихо охнул:
– Боги мои, Шара, ты что, не знаешь, что я ничего такого не…
– Я знаю. Что ты не имел в виду. Я знаю, что для тебя это совершенно невинный оборот речи. Но принадлежать кому‑то, быть чьим‑то – поверь, здесь в это вкладывают совершенно другое значение. Мы так не выражаемся. Потому что люди не забыли – каково оно было. Тогда. В прежние времена. Они всё помнят.
– Помните, говоришь? – неожиданно зло отозвался Воханнес. – А мы – не помним. Мы потеряли нашу память. Ее у нас отняли. Твой проклятый пра‑пра‑пра‑хрен‑его‑знает‑дедушка и отнял.
– Ты же знаешь, я терпеть не могу, когда…
– Знаю, а как же. Но, видишь ли, в чем дело. Твой народ хранит свои воспоминания. Даже самые неприятные. Вам разрешено учить нашу историю. Твою мать, да здесь в библиотеке больше информации по нашему прошлому, чем у нас на Континенте! Но, если я попытаюсь провезти домой хоть одну книгу, меня оштрафуют. Или арестуют. Или вообще не знаю что со мной сделают. Вы же и арестуете.
Шара смущенно притихла. Оба развернулись к реке. В камышах лебедь изогнул длинную белую шею и ударил черным клювом. Потом вскинул голову – с зажатой в клюве крохотной белой лягушкой. Та жалобно сучила лапками.
– Ненавижу, – пробормотал Воханнес.
– Что ненавидишь?
– Что мы разные.
И надолго замолчал.
– И то, что мы, похоже, не очень‑то хорошо знаем друг друга.
Шара наблюдала, как гребцы мчат свои суденышки по реке. Вздувались блестящие от пота мышцы. Сначала промчались девушки, а за ними – юноши. Одеты они были гораздо легче, и мускулатура просматривалась прекрасно.
Ей показалось? Или шишка у нее за спиной стала тверже, когда юношеская команда вырвалась на утренний свет из тени ив?
Он вздохнул:
– Ну и денек.
Мы не можем быть самими собой. Нам не разрешают. Быть собой – это преступление. Быть собой – это грех. Быть собой – это воровство.
Мы – работа. Только работа. Мы – древесина, вырубленная из деревьев родного края. Мы – руда, исторгнутая нами из костей нашего края, мы – кукуруза и пшеница, что мы выращиваем на наших полях.
И мы никогда не будем иметь части во всем этом. Мы никогда не будем жить в домах из срубленных нами деревьев. Мы никогда не сможем отковать и выплавить инструменты из металла, который мы добыли. Все это – не для нас.
Мы живем не для себя.
Мы живем для тех людей, что живут за большой водой. Для детей богов. Мы для них – такой же металл, камень и дерево, они нами пользуются.
Мы не протестуем, потому что у нас нет голоса. Иметь голос – это преступление.
Мы даже и подумать не можем о том, чтобы протестовать. Думать о таком – преступление. Вот эти слова – слова, что вы слышите, – они украдены у меня.
Мы – не избранные. Мы – не дети богов. У нас нет души, мы дети праха, мы как грязь и глина.
Но если это так, то почему боги нас вообще сотворили? И если наше предназначение – только трудиться ради чужого блага, зачем они дали нам разум, зачем одарили желаниями? Почему бы не сотворить нас безмысленными, подобно скоту в полях или курам на насестах?
Мои праотцы и праматери умерли рабами. Я умру рабом. Мои дети умрут рабами. Но если мы – всего лишь собственность детей богов, то почему боги разрешили нам испытывать горе?
Боги жестоки не потому, что заставляют нас работать. Они жестоки, потому что позволяют нам надеяться.
Анонимное свидетельство из Сайпура, ок. 1470 г.
То, что у него получается лучше всего
Дом семейства Вотровых – одно из самых современных зданий в Мирграде. Однако по виду ни за что не догадаешься: приземистый, грузный домина громоздится перед тобой массой серого камня, и даже трогательно‑хрупкие контрфорсы не исправят впечатления. Растопыренные в стороны стены испещряют крохотные, подобно дырочкам от булавки, оконца, в некоторых пляшут узкие язычки свечных огней. С севера вечно поддувало холодом, но с южной стороны дом раскрывался уступами террас, постепенно сужавшихся до крошечного вороньего гнезда на самом верху. Шаре, привыкшей в Сайпуре к воздушным минималистским сооружениям из дерева, здание напоминает уродливый водяной полип. Есть в нем что‑то примитивное, дикарское. Однако по мирградским меркам это совершеннейший авангард – ибо, в отличие от особняков других знатных семейств, этот был выстроен с оглядкой на холодную и ветреную погоду. А климат в Мирграде, как ни посмотри, резко изменился не так уж давно.
«Эти люди скорей умрут, чем признают, что мир изменился», – думает Шара, покачиваясь на заднем сиденье автомобиля.
Сердце трепещет. Неужели он вправду там, внутри? Она не знала, где он живет, а теперь видит этот дом и осознает: да, у него была своя жизнь, с ней не связанная. И эта мысль внушает странную тревогу.
Спокойнее, спокойнее. Нельзя давать волю этим мысленным шепоткам и бормотаниям. Шара приказывает шепоткам в голове замолчать, но от этого они становятся лишь громче.
К воротам особняка тянется громадный хвост из автомобилей и карет. Шара наблюдает, как самые богатые и знаменитые граждане Мирграда выбираются из своих разномастных транспортных средств, пряча лицо в воротники пальто. На улице стоит мороз. Очередь движется крайне медленно, и только через полчаса нетерпеливо бормочущий, кривящийся от недовольства Питри заводит машину в ворота и подкатывает к дверям.
Лакей встречает ее взглядом хладным, как ночной ветер. Шара вручает ему официальное приглашение. Тот забирает его, коротко кивает и указывает рукой в белоснежной перчатке на дверь – которую демонстративно не собирается открывать.
Амортизаторы душераздирающе скрипят, и из авто выбирается Сигруд. И ставит ножищу на нижнюю ступень лестницы. У лакея едва заметно дергается щека, и он, отвесив Шаре глубокий поклон, распахивает дверь.
И она переступает порог особняка. На скольких вечеринках ей удалось побывать – и каких! Там среди гостей прохаживались генералы, предводители бандформирований и гордые своим ремеслом убийцы. И тем не менее – никогда она не боялась так, как сейчас…
Интерьер особняка резко контрастирует с его суровым внешним видом – внутри все отделано с непринужденной роскошью. Холл освещают сотни газовых рожков под голубоватыми стеклянными колпачками, под куполом потолка сверкает хрустальная люстра невозможно сложной конструкции, похожая на гигантский светящийся сталактит. В центре зала полыхают огнем два огромных камина, а винтовая лестница, закладывая широкие круги, полого уводит вверх, под сумрачные своды дома.
Голос в ее голове – очень похожий на тетушку Винью, кстати, – произносит: «Ты могла бы жить здесь с ним. А всему виной – твоя гордость».
«Он меня не любил, – отвечает она. – И я его не любила».
Нет, она, конечно, не дурочка и не станет убеждать себя, что это правда. С другой стороны, и не совсем ложь…
– Он такой огромный, – слышит она голос рядом с собой, – потому что у него в кармане все строительные компании, будь они неладны. Вот почему.
Мулагеш стоит возле колонны по стойке смирно. У Шары начинает болеть спина от одного взгляда на губернатора. На Мулагеш – военная форма. Отглаженная, пуговицы начищены, ни пятнышка, ни пылинки. Волосы увязаны в строгий узел, черные сапоги сияют зеркальным блеском. Левая сторона груди увешана медалями, причем наград так много, что неуместившиеся висят и справа. В общем и целом она выглядит не как хорошо одетая женщина, а как тщательно собранный из отдельных деталей человек. Шару так и подмывает пощупать швы на френче на предмет заклепок.
– Прежний дом исчез в Миг, – говорит Мулагеш. – Во всяком случае, так мне сказали.
– Приветствую, губернатор. Выглядите… впечатляюще.
Мулагеш кивает, но глаз от толпящихся у камина гостей не отводит.
– Люблю напоминать этим гражданам, кто есть кто, – говорит она. – Дипломатия дипломатией, а военное присутствие Сайпура в моем лице со счетов пусть не сбрасывают.
Солдаты бывшими не бывают, это точно. Рядом с камином возвышается постамент. На нем – пять небольших статуй.
– Я так понимаю, что это и есть повод для вечеринки? – спрашивает Шара.
– Похоже, что так, – кивает Мулагеш.
Они с Шарой неторопливо направляются к статуям.
– Должен состояться аукцион, выручка пойдет в фонд партии «Новый Мирград» – ну и на другие столь же полезные, хм, дела. Вотров – известный меценат. Кстати, смелые идеи у скульптора, вы только посмотрите на это…
И впрямь: это не обнаженная натура в прямом смысле – все интересные места либо задрапированы одеждой, либо закрыты, к примеру, грифом гитары. Три женские статуи, две мужские, ничего особо красивого: приземистые, коренастые фигуры, с широкими бедрами и толстыми ляжками.
Шара щурится, читая подпись под скульптурной группой, и читает вслух:
– «Крестьяне на отдыхе».
– Угу, – кивает Мулагеш. – Ровно две вещи, о которых в Мирграде не желают задумываться: нагота и бедность. Впрочем, наготу здесь вообще не переносят на дух.
– Я в курсе местных взглядов на сексуальность.
– Такими взглядами испепелить можно… – бормочет Мулагеш, подхватывает с подноса проходящего мимо лакея бокал с элем и наполовину осушает его. – С ними даже говорить об этом невозможно.
– Да, это вполне ожидаемо. То, что здесь косо смотрят на наши… более прогрессивные представления о браке, широко известно, – сухо отвечает Шара.
Мулагеш фыркает:
– Не знаю, когда я замуж выходила, ничего прогрессивного в наших представлениях не заметила.
Во времена владычества Континентальной империи сайпурцы рассматривались как движимое имущество, и хозяева (как корпорации, так и отдельные континентцы) могли насильно женить их и выдавать замуж – а также принуждать к разводу. Когда кадж сверг власть Континента, законы о семье и браке принимали во многом под влиянием этих травм: так, в Сайпуре два взрослых человека могут заключить по взаимному согласию брак на шесть лет. Затем этот контракт продлевается или заканчивается по истечении срока. Поэтому сайпурцы женятся и выходят замуж неоднократно – два или даже три раза. И хотя гомосексуальный брак в Сайпуре официально не признан, подобные союзы не запрещены государством, которое стоит на страже личных свобод.
Шара приглядывается к одной из статуй – точнее, к красноречиво выпирающему из‑под одежды причинному месту.
– Похоже, это самая настоящая контркультура…
– Это плевок в глаза богатеньким – вот что это.
– Фи, как грубо, – произносит голос за их спинами.
Высокая, стройная молодая женщина в пышных мехах подходит поближе. Она очень, очень молода, ей едва за двадцать. Красивая – темные волосы, высокие острые скулы. Она выглядит как истинная жительница Континента – и в то же время утонченно‑космополитично. Нечасто встретишь такое сочетание.
– Я бы сказала, что эта скульптурная группа открывает новый взгляд на вещи.
Мулагеш поднимает стакан и насмешливо замечает:
– Ну что ж, тогда за новый взгляд. За то, чтобы он прижился и распространился.
– Судя по вашему тону, вы не очень‑то в это верите, губернатор.
Мулагеш что‑то нечленораздельно ворчит, прихлебывая эль.
Молодая женщина вовсе не удивлена такой реакцией, нет. Однако она все равно говорит:
– Ваш скептицизм очень расстраивает нас, губернатор. А ведь мы надеемся, что, как представитель вашей страны, вы поддержите наши усилия…
– Я тут, знаете ли, сижу не затем, чтобы кого‑то поддерживать. Я даже официальных заявлений делать не могу. Но я, по долгу службы, часто выслушиваю, что говорят Отцы Города, госпожа Ивонна. И я не слишком уверена, что ваши амбициозные прожекты им по душе.
– Времена меняются, – отвечает девушка.
– Это так, – отвечает Мулагеш. И сердито отворачивается к огню. – Но медленнее, чем вам кажется.
Девушка вздыхает и разворачивается к Шаре:
– Надеюсь, вам не передалось пессимистичное настроение госпожи губернатора? Мне бы так хотелось, чтобы ваш первый выход в свет в Мирграде прошел в более приятной атмосфере… Вы же наш новый культурный посол, разве нет?
– Да, – соглашается Шара. И отвешивает вежливый поклон. – Шара Тивани, культурный посол, чиновник второго ранга, исполняющая обязанности главы сайпурского посольства.
– А я – Ивонна Стройкова, помощник куратора студии, которая любезно предоставила нам эти произведения искусства. Мне очень приятно, что вы нашли время прийти, но я должна предупредить: увы, здесь не все встретят вас с легким сердцем – к сожалению, от предубеждений прошлого не так‑то просто избавиться… Однако я надеюсь, что ближе к концу этого вечера мы станем хорошими друзьями.
– Вы очень, очень любезны, – кивает Шара. – Благодарю вас.
– Что ж, позвольте в таком случае представить вас гостям, – улыбается Ивонна. – Ибо я более чем уверена, что госпожа губернатор не снизойдет до таких прозаических дел…
Мулагеш подхватывает с подноса еще один эль.
– Вам конец, посол, – сообщает она. – Но будьте осторожнее с этой девицей. Ей нравится, видите ли, рисковать…
– …и пить шампанское, – светло улыбается в ответ Ивонна.
И тут же становится понятно, что, несмотря на юный возраст, госпожа Ивонна Стройкова – настоящая светская львица: она прокладывает дорогу в толпе гламурных знаменитостей и богачей, как акула в стае рыбок. В течение часа Шара успевает поклониться и пожать руки практически каждому представителю собравшегося в зале звездного общества.
– Я всегда хотела быть художницей, – доверительно сообщает Ивонна Шаре. – Но, увы, ничего из этого не вышло. У меня недостало… впрочем, даже не знаю, как сказать. Наверное, воображения. А может, амбициозности. Возможно, того и другого. Чтобы создать что‑то новое, нужно быть немного не от мира сего. А я… я – плоть от плоти нашего мира, даже слишком плоть от плоти…
От камина доносится негромкий ропот.
– Что бы это значило? – удивляется Ивонна, но Шаре все видно: Сигруд.
Упирается ногой в камень и достает из огня пылающий уголек. Даже отсюда Шара слышит, как тот шипит в пальцах Сигруда, – но лицо гиганта ничем не выдает боли. Он спокойно подносит его к трубке, делает две глубокие затяжки, выдыхает клуб дыма – и выбрасывает уголек обратно в камин. А потом неспешно бредет в темный уголок, прислоняется к стене со скрещенными на груди руками и мрачно оглядывает зал.
– А это что за удивительное создание? – ужасается Ивонна.
Шара тихонько покашливает и безмятежно отвечает:
– Мой секретарь. Сигруд.
– Вы держите дрейлинга в секретарях?!
– Да.
– Но, позвольте… они же… дикари, разве нет?..
– Все мы – продукт обстоятельств.
Ивонна звонко смеется:
– Ах, госпожа посол… А вы умеете шокировать – и это прекрасно! Уверена, мы станем лучшими подругами. Ах! Как вовремя!
И она убегает прочь от Шары – к высокому бородатому джентльмену, который медленно спускается по лестнице, тяжело опираясь на белую трость. Его явно беспокоит правое бедро – правая рука то и дело тянется туда, однако он изо всех сил сохраняет царственную осанку. На нем элегантный, довольно консервативный белый смокинг и расшитый золотом кушак.
– Ах, мой дорогой! Что ж так долго! Я‑то думала, мы, женщины, вечно опаздываем, одеваясь, но куда нам до мужчин!
– Проклятый дом. Когда‑нибудь я не выдержу и установлю здесь подъемник! – ворчит он. – Эти проклятые лестницы однажды меня доконают, вот увидишь…
Ивонна обвивается вокруг его плечей:
– Ты ворчишь, как старичок!
– Я и есть старичок!
– Старички так не целуются! – И Ивонна привлекает его к себе, несмотря на шутливое сопротивление. Кто‑то в толпе отзывается на сцену тихим: «Ух ты!» – Нет, – отпуская его губы, выносит вердикт девушка. – Совсем не как старичок. Но я буду проверять каждый день, дорогой…
– В таком случае, тебе следует заранее записаться на прием, милая. Как ты знаешь, я ужасно, ужасно занят. Итак. Кто же сегодня вечером пользуется моими неслыханными щедротами? – весело произносит он.
И огладывает толпу. Отсветы пламени из очага высвечивают его лицо.
И сердце Шары сжимается: она‑то считала, что он и впрямь старик, а он не постарел. Совсем.
Волосы отросли, да, и, хотя на висках пробивается седина, они все того же странного рыжеватого оттенка. Бородка и вовсе медно‑рыжая, коротко подстриженная – совсем не похожая на обычный для богатых континентцев комок нечесаной шерсти под подбородком. Волевой подбородок, все та же самодовольная улыбочка. Глаза, хоть и потеряли в блеске – не горит в них уже знакомый диковатый огонек, – все такие же ярко‑голубые. Как у нее в воспоминаниях…
Гости и тонкие ценители искусства уже подбираются к хозяину с приветствиями.
– Батюшки, какая толпа. Надеюсь, вы все при бумажниках? – И он счастливо смеется, здороваясь с каждым.
И хотя наверняка он лично знаком едва ли с десятком гостей, каждого он приветствует как старого друга.
Шара наблюдает за ним. Она испугана. Насмерть. И заворожена. Она оцепенела от ужаса. Он совсем, совсем не изменился.
И обнаруживает, что ненавидит его за это. Как грубо и непорядочно с его стороны исчезнуть на годы и вот – нате пожалуйста! – снова вынырнуть из небытия совершенно тем же человеком!
– Ты видел статуи? – спрашивает его Ивонна. – Дорогой, тебе непременно нужно их увидеть. Они восхитительно отвратительны. Я их обожаю. Жду не дождусь завтрашнего дня, хочу почитать, что напишут газетчики.
– Наверняка всякие гадости, – улыбается он.
– О, непременно, непременно! Крики и истерика, вопли и слезы. Я очень на это надеюсь. Ривеньи – с литейного завода, помнишь? Он здесь. Ты хотел, чтобы он как‑нибудь пришел, да? Так вот он пришел. Я‑то думала, он свирепый и суровый, как и положено быть промышленнику, но нет, он такой милый‑милый… Поговори с ним, он такой приятный. Я принесу тебе конверт для чека. Ах, и сегодня у нас в гостях наш новый культурный посол, и ты знаешь, у нее помощник – ни за что не догадаешься! – се‑ве‑ря‑нин! Нет, ты можешь себе представить? Северянин – секретарь! И он тоже здесь, дорогой, ты только подумай, он сунул голую руку – в огонь! Невозможные, положительно невозможные вещи творятся сегодня вечером, я хотела сказать, что сегодняшний вечер, дорогой, задался, задался, в этом не может быть сомнений!
И он снова поднимает взгляд и обводит веселыми глазами зал. Сначала он ее не видит. Ноги у Шары подгибаются, словно от удара в челюсть. Не заметил…
А потом глаза его вспыхивают, и он медленно, медленно‑медленно возвращается взглядом к ней.
В течение нескольких секунд на лице его сменяется множество выражений: растерянности. Узнавания. Изумления. И гнева. А следом тонкие черты его лица принимают вполне знакомый вид: губы кривятся в высокомерной, самодовольной усмешке.
– Новый культурный посол, значит, – тихо выговаривает он.
Шара поправляет на переносице очки. Мамочки, что же делать?
* * *
Сигруд глядит в огонь. И массирует большим пальцем ладонь затянутой в перчатку руки. И припоминает старинное северное присловье: «Завидуй огню, ибо огонь либо есть, либо его нет. Пламя не чувствует радости, печали, злости. Оно либо горит, либо не горит».
Сигруду понадобилось несколько лет для того, чтобы понять, о чем это. А еще больше лет прошло, прежде чем он выучился быть как огонь: просто живым. И все.
Он смотрит, как кружат в толпе друг вокруг друга Шара и человек с тростью. Как они останавливаются и отворачиваются друг от друга – отворачиваются, да не совсем, и исподтишка посматривают: через чье‑то плечо или искоса, стараясь, чтобы другой не заметил взгляда.
Они наблюдают друг за другом, изо всех сил стараясь этого не делать. Экий неуклюжий танец.
Человек с тростью все посматривает на часы: наверное, не хочет, чтобы его заподозрили в поспешности. Обаяв всех гостей скопом и каждого по отдельности, он наконец‑то выхватывает из толпы лакея и что‑то шепчет ему на ухо. Тот пару раз обегает многолюдное сборище, а потом подходит к Шаре и вручает белую карточку. Шара, улыбаясь, убирает ее в карман, а потом, под каким‑то предлогом отделавшись от разговорчивой девушки в мехах, прокрадывается наверх.
Сигруд снова поворачивается к огню. Конечно, они любовники. Их движения так и поют о прошлых ласках. Это даже смешно: Шара Комайд – и любовница? Она маленькая и тихая, но он‑то знает, что она – такое же живое оружие, как и он, Сигруд. И все‑таки глупо удивляться. Все создания на свете хоть недолго, но любили в своей жизни.
И он припоминает, как ходил на китобое «Свордйалин»: скользкая от крови и жира палуба, команда обдирает, как с яблока, с убитого кита шкуру. У борта полощется в воде воняющая, истекающая красным туша, над ней орут и дерутся тысячи чаек. Погоня, поединок с китом, старший помощник раз за разом тычет алебардой в легкие зверюги, и наконец из дыхательного отверстия бьет уже не вода, а кровь, а потом они идут обратно к кораблю и тащат мертвого кита за собой… Когда все это заканчивалось, Сигруд где‑нибудь в трюме вынимал из‑за ворота медальон. И долго держал в ладонях. А потом открывал и смотрел, смотрел на то, что там внутри, и дрожал огонек свечи…
Сигруд смотрит на руку в перчатке – болит. Он уже не помнит, какой он был, этот медальон. И портрета, что внутри, тоже не помнит. Помнит только ощущение – как медальон лежал в ладони. А может, ему просто кажется.
– Я смотрю, ты занят, – слышит он голос рядом с собой.
Женщина средних лет, судя по виду, очень состоятельная, присаживается у огня рядом с ним.
– Выпьешь?
И протягивает ему кубок с вином.
Сигруд пожимает плечами, принимает кубок и осушает одним глотком. Золотой браслет на его левом запястье звенит о пуговицы обшлага. Женщина смотрит заинтересованно – ей любопытно.
– Ты очень необычный гость, – говорит она. – Держу пари: таких, как ты, у Вотровых еще не видали.
Сигруд попыхивает трубкой и смотрит на огонь.
– Так что тебя сюда привело?
Сигруд делает долгую затяжку. Обдумывает ответ.
– Беда, – отвечает он наконец.
Кто‑то отпустил непристойную шутку: часть толпы взрывается хохотом, некоторые гости морщатся и оскорбленно отворачиваются.
* * *
Снизу доносятся звон бокалов и приглушенный смех. Звуки веселья эхом раскатываются по пустотам этого перекрученного дома‑уродца. Призрачный хохот, просачивающийся сквозь толщу камня, звучит жутковато.
Лестница закручивается бесконечной спиралью. Шара все поднимается, поднимается. Интересно, где он? Ждет ее на самом верху? А если да? Ох, тогда лучше оступиться и укатиться вниз по ступеням. Она не сможет, не сможет заговорить с ним.
Нет, надо взять себя в руки. Тут лестница выводит ее в… библиотеку? Великоват зал для библиотеки… На стене – фамильный портрет в массивной раме. За два года, что длился их роман, Воханнес ни словом не обмолвился о своих родителях – кстати, почему? Разве это не странно? – но выглядят они ровно так, как она и предполагала: гордые, суровые лица, царственная осанка. Папа Вотров в чем‑то вроде военного френча, грудь увешана медалями и лентами, на маме Вотровой – роскошное розовое бальное платье. Такие родители не воспитывают детей, а проверяют – на предмет соответствия стандартам качества. Но вот удивительная деталь: рядом с родителями стоит одиннадцатилетний Воханнес, а подле него – еще один мальчик, чуть постарше, более бледный и темноглазый. Однако сходство этих двоих не оставляет сомнений – братья. Почему же Воханнес ни разу не упомянул, что у него есть брат?
Откуда‑то налетает порыв ветра, огоньки свечей пускаются в пляс. Шара облизывает пальцы – дует из соседнего окна. Она подходит туда.
Внизу морем бело‑голубых огоньков простирается Мирград. Луна идет на убыль, но в ее скудном свете Шара различает странные и чуждые формы среди гребней крыш: полуобрушенный храм, руины роскошной усадьбы, прихотливый извив зависшей в воздухе лестницы.
Шара смотрит вниз. Стены дома, оказывается, патрулируют охранники в касках и с самострелами в руках. Как интересно! Когда они въезжали в главные ворота, никакой охраны не было видно…
Она оборачивается на звук открывающейся двери. Створки медленно распахиваются, в щель просовывается кончик белой трости.
Надо бежать. Сейчас или никогда. Стыдно, конечно, так трусить, но Шара ничего не может с собой поделать.
Он, прихрамывая, входит в комнату. Белый смокинг отливает золотистым в свете ламп. Поглядывает искоса, но в глаза не смотрит. И сразу направляется к столику с напитками, что‑то наливает. И, тяжело припадая на одну ногу, направляется к ней.
– Эта комната, – говорит она, – слишком большая. Ты не находишь?
– Все зависит от того, как ее используют.
Она не знает, куда девать руки. И куда всю себя девать, тоже не знает. Что с ней, в конце концов, она ведь встречалась и с куда более высокопоставленными лицами, с аристократами, откуда эти неловкость и скованность?
– Прошу прощения, что отнимаю твое внимание. Ты должен быть с гостями.
– Ах, ты об этом. Ничего страшного. Там все идет своим чередом.
И он улыбается – по‑прежнему ослепительно.
– Я, так сказать, на иголках не сижу – ибо знаю, чем все так или иначе закончится. Как тебе вид?
– Он… великолепен.
– Именно.
И он подходит и становится рядом с ней.
– Отец мог бесконечно говорить о виде, что открывается из этого окна. Точнее, о том, что можно было отсюда увидеть прежде. Он показывал и говорил: «Смотри, вот здесь, на углу, возвышался Коготь Киврея! А там, через парк, – Колодец Аханас, на всю улицу очередь тянулась!» На меня это производило колоссальное впечатление. Я был буквально влюблен в этот город. А потом сообразил, что папа просто не мог этого видеть, – все это исчезло задолго до того, как он родился. Он мог только догадываться и предполагать, но не описывать. А сейчас мне совершенно все равно, что он имел в виду. Древности меня более не интересуют.
Шара сдержанно кивает.
Воханнес одаривает ее косым взглядом:
– Ну же. Давай, выкладывай.
– Выкладывать что?
– То, что хотела мне сказать. Я же вижу – тебя прямо распирает.
– Ну… – и она откашливается. – Если ты действительно хочешь знать… Коготь Киврея – это был такой высокий железный памятник с маленькой дверцей спереди. Туда люди заходили и обнаруживали нечто, предназначенное им. Какой‑то предмет, который полностью менял их жизнь. Иногда к лучшему – например, узел с лекарствами, чтобы вылечить больного родственника. А иногда – к худшему: скажем, мешок с монетами и адрес проститутки, которая потом доводила человека до разорения.
– Как интересно!
– Ну, это было что‑то вроде памятника странному чувству юмора Жугова: это Божество любило подшутить. Над всеми, кто под руку попадался.
– Понятно. Ну а Колодец?
– Ничего особенного, просто целебная вода. У Анахас их было много.
Он с улыбкой качает головой:
– Ты все такая же невозможная всезнайка.
Она отвечает кривоватой усмешкой:
– А ты все такой же самодовольный беспечный невежда.
– Выходит, невежество – это когда тебе нет до чего‑то дела?
– Именно. Это и есть определение невежества, по сути.
Он меряет ее оценивающим взглядом:
– А знаешь, ты выглядишь совершенно не так, как я ожидал.
Вот это да! Какая наглость! Она даже язык проглотила от злости…
– Я‑то думал, ты будешь вся такая в сапогах, в армейском сером… – между тем продолжает он. – Как Мулагеш. Только активнее.
– Я что, была такая ужасная, когда училась?
– Ты была незамутненной бодрой фашисточкой, – отрезает Во. – Ну или людоедкой‑ультрапатриоткой, что почти одно и то же. В Сайпуре почти все дети такие. Так что я ожидал, что сюда ты заявишься гарцующей победительницей. А ты… ты просочилась в заднюю дверь, как мышка.
– Заткнись, Во! Какого…
Он хохочет.
– Потрясающе! Сколько лет прошло, а мы все такие же! И болтаем о том же! Так скажи мне – арестовать тебя за грубое нарушение СУ? Ты пару находящихся под запретом имен озвучила…
– Напоминаю, что согласно букве закона, – цедит Шара, – земля, на которой стоит посол Сайпура, считается сайпурской землей. А, кстати, ты в курсе, что твое изумляющее ослиным тупизмом излияние на тему семьи было самым длинным из всех, что я слышала? Что ты раньше мне ни о чем таком не рассказывал?
– Правда?
– Пока мы учились, ты вообще о них не рассказывал.
Шара кивает на картину на стене:
– И никогда не говорил, что у тебя есть брат. Он так похож на тебя.
Улыбка на лице Воханнеса разом становится натянутой.
– У меня был брат, – поправляет он. – И я не рассказывал, потому что братом он был никудышным. Впрочем, он научил меня играть в товос‑ва – за что я ему признателен, ибо благодаря этому мы познакомились.
Шара пытается уловить в реплике хоть намек на иронию, но… похоже, ее собеседник совершенно серьезен.
– Он умер еще до того, как я пошел в школу. Умер не вместе с родителями, в Чумные года, а… потом.
– Прости.
– Да ладно, не за что мне тебя прощать. Я по нему не горевал. Я же сказал: плохим он был братом.
– Ты унаследовал фантастический особняк. Об этом ты тоже не рассказывал.
– Это потому, что в то время я его еще не построил.
И он поскреб камень пола кончиком трости.
– Я снес прежний особняк Вотровых. В ту же секунду, как вернулся домой из Сайпура. И построил этот дом. А все мои опекуны – эти старые тролли ходили за мной гуськом, именно что гуськом, как птенцы за мамой‑уткой! – все они заходились в горестных криках. А ведь это был даже не настоящий особняк Вотровых! По крайней мере не древний дом с многовековой историей, о котором все твердили! Куда делся тот дом, вообще никто не знает. Исчез вместе с Мирградом. Мы просто делали вид, что ничего такого не произошло. Что дом – прежний, и не было ничего – ни Мига, ни Великой Войны… ничего. Правда, я очень жалею, что согласился на такие лестницы. Будь они прокляты.
И он, морщась, дотрагивается до бедра.
– Это на лестнице ты получил травму?
Он, все еще с болезненной гримасой на лице, кивает.
– Прости, – вздыхает она. – Беспокоит?
– Когда влажность высокая – еще как. Но скажи мне честно, умоляю.
И он разводит руки и разворачивает профиль к свету.
– Забудь про бедро. Что, сильно изранил меня клинок времени? Правда ведь – нет? Я – все тот же красавчик, в которого ты без памяти влюбилась с первого взгляда. Давай, скажи это.
Шара с трудом сдерживается, чтобы не выпихнуть его в окно.
– Ты уникальный придурок, Во. Вот это точно никуда не делось.
– Значит, ты согласна со мной. Я, Шара, в серую милую мышку не верю. Слишком острые были углы у той девочки, которую я знал. Такие не спилишь.
– А может, ты просто недостаточно хорошо меня знал? – парирует Шара. – Кстати, как думаешь: твоим родителям этот дом понравился бы? А вечеринка?
Он широко ухмыляется:
– О, естественно, нет! Они бы не одобрили – ни дом, ни вечеринку. Ни то, что я веду разговор с агентом спецслужб Сайпура.
Внизу кто‑то разражается хохотом. Звенит разбитое стекло, и толпа выдыхает одобрительное: «Аххх».
Шара молчит. Ну что ж, вот мы и перешли к важным вещам.
– Рад, что ты не отпираешься, – говорит Воханнес. – К тому же ты особо и не скрывалась. И потом. Ашара Комайд, отличница из отличниц в Фадури, племянница министра иностранных дел, прапрапраправнучка каджа, чтоб его разразило, – и дослужилась лишь до скромной должности культурного посла? Ни за что не поверю.
Она невесело улыбается в ответ. Польстил так польстил.
– И хотя Ашара – имя более чем распространенное… – продолжает он, – …Комайд – совсем другое дело. Тебе нужно было срочно избавиться от фамилии. Поэтому теперь ты Тивани.
– Я могла выйти замуж, – говорит Шара. – И взять фамилию мужа.
– Ты не замужем, – отмахивается Воханнес. И выплескивает то, что осталось в бокале, в окно. – Я знаю, как выглядят замужние женщины. Пара штрихов там, пара значимых деталей здесь. Ничего этого в тебе нет. Как, не боишься, что тебя узнают?
– Кто? – пожимает плечами Шара. – Из выпускников Фадури на Континенте только мы с тобой и живем. Все политиканы, с которыми завязана моя семья, – в Галадеше. Остаются только континентцы и военные чины, но из них меня в лицо не знает никто.
– А если кто‑то пойдет по следу Ашары Комайд?
– Они обнаружат официальные сведения о том, что она ведет уединенный образ жизни, учительствуя в крохотном городке Тохмай на юге Сайпура. Школа там закрылась, если я не ошибаюсь, года четыре назад.
– Умно придумано. Итак. Сотрудник твоего ранга прибывает в Мирград – ради чего? Дело в Панъюе, я думаю. Правильно? Не знаю, почему ты решила обратиться ко мне. Изо всех людей, хм. Я бегал от этого профессора, как от чумы. Слишком много политических последствий пришлось бы расхлебывать…
Шара четко выговаривает:
– Реставрационисты.
Воханнес медленно кивает:
– Вот оно что. В чутье на расклад тебе не откажешь… В самом деле, кто знает о них больше, чем человек, которого они ненавидят больше всех на свете?
Воханнес ненадолго задумывается.
– Что ж, давай поговорим. Но не здесь, – выговаривает он наконец. – Выберем комнату поменьше, где эхо не так гуляет.
* * *
Лакей Бородкин притопывает от холода перед дверью дома Вотровых. Как же глупо и печально, что он вынужден здесь мерзнуть. Вечеринка началась – когда? Час назад? Или даже меньше? И, тем не менее, в обязанности Бородкина входит открывать дверь перед гостями, подзывать машины и всячески обихаживать визитеров. А эти глупцы что делают? Приезжают с большой помпой, чтобы все на них глазели, красуются перед людьми – а потом быстренько уезжают. А господин Вотров – он же умный, он понимает, что те, что раньше всех смываются, обычно самые влиятельные, и облизывать их нужно по первому классу. Но все‑таки, что, эти денежные тузы не могут побыть в доме чуть подольше? Чтобы Бородкин успел заскочить на кухню, глотнуть сливового вина, понюшку табачку взять да замерзлые ноги у огня погреть? Но нет, еще чего, на такое их не хватает! И вот он притопывает на морозе и думает: а не пойти ли на кухню работать? Картошку там, морковку чистить – поди плохо? Служба как служба, а что…
Конец ознакомительного фрагмента – скачать книгу легально
Библиотека электронных книг "Семь Книг" - admin@7books.ru