
Графиня Гизела (Евгения Марлитт)
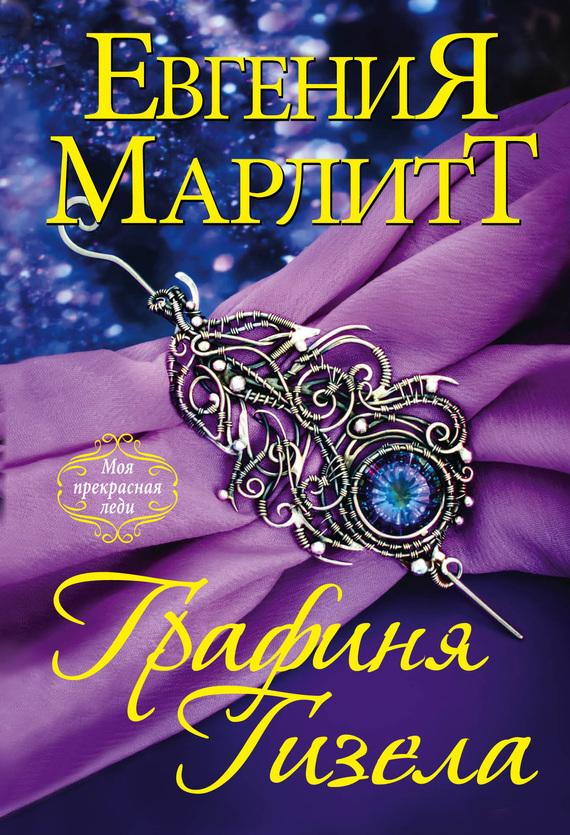
Евгения Марлитт
Графиня Гизела
Моя прекрасная леди. Романы Барбары Картленд и Евгении Марлитт
Часть первая
Глава 1
Пришел вечер. Часы на небольшой нейнфельдской колокольне пробили шесть часов. Удары глухо звучали в воздухе. Сильный ветер поднимающейся бури подхватил звуки и разнес их далеко?далеко. Несмотря на ранний час, непроницаемый мрак декабрьской ночи окутал землю темным покрывалом. В небе величественно сияли звезды, словно в майскую, безоблачную, ароматную ночь. Но кто помышлял о том, чтобы смотреть на звезды во время этой грозно бушевавшей бури, отделявшей небо от земли? Кому приходило в голову вспомнить о нежном лунном сиянии, о матовом, серебристом блеске Луны – ночной путницы, застывшей посреди небесной рулетки, несущейся вокруг нее на крыльях бури? Внутри этой громадной рулетки блистал и искрился свет или, скорее, целое пламя, управляемое и укрощаемое рукою человека. Нейнфельдская доменная печь пылала.
Яркий багряный свет высвечивал голые плиты стен и почерневшие лица рабочих.
В домне, подобно морской волне, пенилась и клокотала руда, тысячелетиями пролежавшая в недрах земли. Затем с литейного ковша горючими слезами капала расплавленная масса. И вот, в какой?то роковой для нее момент, металл вырвался из своей многовековой тюрьмы, но только для того, чтобы по желанию человека, обретя новую форму, вновь оцепенеть!
Окна огромного здания литейки снаружи мерцали матовым блеском, тогда как внутри пламя бушевало в домне, откуда порою вылетал целый сноп искр, бесследно тающих в темноте, точно чья?то дерзкая рука с размаху швыряла в небо полную горсть звезд…
Когда замер последний удар часов, дверь стоявшего неподалеку от завода дома, принадлежавшего горному мастеру, смотрителю завода, тихо приоткрылась. Дверной колокольчик, бывало, столь звонкий и неутомимый, на этот раз не подал голоса, очевидно сдержанный чьей?нибудь заботливою рукой. На пороге появилась женщина:
– А, вот и зима! К Рождеству будет у нас славный снежок! – воскликнула она.
В тоне этого восклицания слышалось веселое изумление, которое вырывается у вас при неожиданной встрече с добрым старым приятелем… Голос был слишком звучен и силен для женщины. Тем не менее звуки его никогда не поражали слуха прихожан Нейнфельда – всему сказанному этим мужественным голосом они верили, как Евангелию.
Женщина осторожно начала спускаться со скользкого крыльца. Слегка красноватый свет от ручного фонаря, который она держала в руке, бросал светлые полосы на осыпанную пушистым снегом дорогу. Но сильный порыв ветра в одно мгновение смел этот нежный покров, который закрутился в пространстве, а капюшон салопа набросил ей на голову.
Пасторша опустила капюшон, крепче воткнула ослабевшую гребенку в толстые, скрученные на затылке косы и надвинула глубоко на лоб платок, покрывавший ее голову. Точно сказочная великанша стояла эта высокая и крепко сложенная женщина среди снежной вьюги. Свет фонаря падал на ее полные силы и свежести черты, принадлежавшие к тем энергическим типам, на которые как суровое дыхание зимы, так и непогоды жизни действуют одинаково бесследно.
– Я хочу вам что?то сказать, мой любезный мастер, – обратилась она к мужчине, который, провожая ее, остановился у дверей. – Там я не хотела… Слов нет, капли мои недурны и против бузинного чаю я тоже ничего не могу сказать, но не мешало бы, чтобы старая Роза провела сегодняшнюю ночь у больного. Да, кстати, не найдется ли у вас поблизости кого из горнорабочих, чтобы в случае чего можно было послать за доктором?
На лице мужчины выразился испуг.
– Не отчаивайтесь, будьте мужественны, любезный друг, не все в этой жизни идет как по маслу! – ободряла пасторша. – Да и доктор, в самом деле, не оборотень же какой, с которым стоит лишь связаться, как и жди беды… Я бы охотно еще побыла у вас немного времени, потому что вы, как видно, не из храбрых при постели больного. Но мои маленькие пандоры там, дома, верно, уже проголодались, а ключи от кладовой со мною, и одного картофелю, что у Розамунды, будет недостаточно… Так с Богом! Давайте капли как можно правильнее, а завтра утром я опять буду здесь!
Она отправилась. Ветер рвал и раздувал ее одежду, дрожащий свет фонаря, мелькая, скользил то по ветвям деревьев, то расстилался по дороге. Но вьюга могла вволю реветь и бушевать: женщина мало обращала на нее внимания, поступь ее оставалась мерною и твердою.
Горный мастер еще стоял у дверей; взор его следил за удаляющимся огоньком, пока тот не скрылся в отдалении. Между тем в воздухе несколько стихло, непогода как бы сдержала свое бурное дыхание. Издали стал доноситься шум падающей воды у плотины, с завода раздавался гул. Послышались поспешно приближающиеся шаги, и вскоре из?за угла дома показался мужчина. Солдатская шинель болталась на худощавой фигуре, военная фуражка придерживалась платком, крепко подвязанным под подбородком, в руке был большой стальной фонарь.
– Что вы тут стоите? – воскликнул он, когда свет от фонаря упал на лицо стоявшего на крыльце мужчины. – Стало быть, студента еще нет и вы поджидаете его, так ли?
– Нет, Бертольд уже здесь, но болен, что очень заботит меня, – отвечал горный мастер. – Войдите же, Зиверт.
Помещение, в которое они оба вошли, было большой, довольно низкой горницей. Стены оклеены светлыми обоями и увешаны фамильными портретами. Ситцевые, с крупным узором оконные занавески, заботливо опущенные и сколотые вместе посредине, скрывали вьюгу, свирепствующую на дворе, но тихо колыхались, приводимые в движение ветром, сквозившим через оконные щели. Предмет, составляющий, так сказать, принадлежность каждого жилья в Тюрингенском лесу, придающий ему столь уютный и приятный вид, – без сомнения, изразцовая печь, которая нередко, даже и среди лета, не прерывает своей деятельности. И здесь темной и исполинской массой высилась она в комнате и своими равномерно нагретыми изразцами распространяла приятную теплоту.
Вид этой старинной комнаты невольно пробуждал чувство мира и спокойствия. Но на этот раз обычное впечатление несколько было нарушено. Неприятный запах бузинного чая наполнял комнату, наскоро устроенные из зеленой бумаги ширмочки заслоняли свет лампы, маятник деревянных стенных часов висел неподвижно – все говорило про женскую заботливую руку и вместе с тем свидетельствовало, что этот мир и спокойствие нарушены были болезнью.
Предмет всех этих предосторожностей со своей стороны, казалось, запасся немалым количеством энергии против навязываемой ему роли больного. На импровизированной постели, устроенной на софе, лежал юноша; голова его то и дело повертывалась на белых подушках, теплое одеяло спустилось на пол и нетерпеливый пациент в ту минуту, когда горный мастер с гостем входили в комнату, с отвращением отталкивал от себя чашку с бузиной, поставленную перед ним на стол.
Незаслоненный с одной стороны свет лампы попал на горного мастера, что позволило рассмотреть его. Это был необыкновенно красивый мужчина величественного роста. Казалось необъяснимым, каким образом мог он двигаться в этой низкой комнате, потолок которой почти касался его кудрявой головы. Странный контраст представляли между собой светлые, пепельного цвета волосы с черными бровями, которые срастались над переносицей и придавали лицу необыкновенно меланхолическое выражение. По народному поверью, подобные лица носят на себе печать несчастья, неопровержимое пророчество горестной участи, которая их ожидает в будущем.
Постороннему наблюдателю никоим образом не пришла бы мысль принять больного за кровного родственника этого высокого мужчины. Там юношеское бледное, алебастрового оттенка худощавое лицо с римским профилем, обрамленное густыми, черными как вороново крыло вьющимися волосами, здесь – истый германский тип, мужчина с русой бородой, в полной свежести и силе, стройный, как пихта, соотечественница его, растущая на родных горах. Это разительное несходство в наружности не мешало, однако, братьям сходиться во всем остальном.
Горный мастер быстро подошел к постели, приподнял свесившееся на пол одеяло и укутал по самые плечи больного, затем поднес к его губам отодвинутую чашку с питьем. Все это сделано было молча, но с выражением такой строгости, которой волей?неволей приходилось подчиняться. Возмутившийся пациент притих; как бы по обязанности осушил он до дна поднесенную чашку, затем в каком?то нежном, страстном порыве схватил руку брата и, проведя ею по своей щеке, опустил на подушку.
Тем временем человек в солдатской кавалерийской шинели подошел ближе.
– Ну, молодой человек, так этаким?то образом вы изволите располагаться на постое? Эх, стыдитесь! – прибавил он, ставя фонарь на стол.
В приветствии этом звучал только юмор, но необыкновенно грубый и резкий голос говорившего придавал ему тон крикливого наставления. Впечатление усиливалось еще более бессменно суровым выражением лица, ярко?красным полушерстяным платком, повязанным вокруг головы и своим темным оттенком напоминавшим цыганский.
Больной приподнялся, внезапная краска разлилась по его бледному лицу, и взволнованный взор сурово и вопросительно остановился на вошедшем, которого больной доселе не заметил. При этом рука его машинально протянулась к лежащей на столе студенческой фуражке со значком той корпорации, к которой он принадлежал.
– Не беспокойся, Бертольд, – улыбаясь этому движению, проговорил горный мастер. – Это наш старый Зиверт.
– Э, да разве молодцу известно что о старом Зиверте? – отрезал человек в солдатской шинели. – Такой лихой парень, чай, позабыл, какова на вкус детская размазня. Не так ли, господин студент? А вот как раз на этом самом месте, где вы теперь легко лежите, стояла тогда люлька, а в ней барахтался крошечный мальчуган и криком звал свою умершую мать. И у отца, и у Розы, подступавших к нему с размазней, была выбита из рук ложка, – уж не знаю, почему понравилось вам тогда мое лицо, и вот посол за послом командировались в замок, и Зиверт должен был кормить кашею молодца… Да уж и как же малый был доволен тогда! Слезы катились еще по щекам, а каша благополучно отправлялась куда ей следовало.
Студент протянул через стол обе руки к говорившему. Смелость, отражавшаяся дотоль на его отроческих чертах, уступила место женственному, почти детскому выражению.
– Мне нередко рассказывал об этом отец, – проговорил он мягким голосом, – а с тех пор как Теобальд стал горным мастером в Нейнфельде, так и он часто писал мне о вас.
– Так?так, может статься, – проговорил Зиверт, желая, по?видимому, положить конец этому разговору.
Он распахнул шинель, и странный его вид заставил рассмеяться студента. На правой руке у него висел котелок из белой жести с ручками, рядом с ним – плетенная из ивовых прутьев корзинка, в которой лежал хлеб; к пуговице сюртука прицеплена была связка сальных свечей, из бокового кармана выглядывала стеклянная пробка от графинчика с ромом вместе с чем?то, завернутым в бумагу.
– Да?да, смейтесь! – сказал старик. На этот раз в голосе его звучала действительно немалая доля озлобления, но к этим грубым ноткам в то же время примешивалась как бы некоторая покорность.
– Тогда привелось быть нянькой, – продолжал он, – а теперь исполнять должность поваренка… Положим, и мой отец убаюкивал меня в колыбели… Ну, да что тут говорить… Старая барыня не пьет козьего молока, что барышне Ютте так же известно, как и мне, даже лучше… А не подумай я о том, чтобы принести коровьего, так и осталась бы ни при чем… Сегодня устал до смерти, был в лесу, нарубил там порядочную вязанку дров и рад?радешенек, что будет чем истопить комнату, – а о молоке?то и забыл; в шкафу ни крошки хлеба, в подсвечнике догорает последний огарок. А барышня Ютта в таких попыхах, точно дело идет о придворном пире у мароккского императора, то и дело поминает об «обществе, которое соберется к чаю». Только этого нам не доставало в Лесном доме! Желательно знать, о чем она стала бы говорить с господином студентом?! Разве о…
Во все продолжение этой речи яркая краска не покидала лица горного мастера. При последнем восклицании он с угрозою поднял указательный палец и таким гневным взором взглянул на старика, что тот робко опустил глаза и смолк, не окончив речи. Студент же, напротив, представлял собой самое сосредоточенное внимание: обе руки его неподвижно лежали на столе, он не сводил глаз с губ говорившего.
– Вот и крестьянского хлеба я не мог принести к обеду старой барыни, – продолжал Зиверт после небольшой паузы. – Бегал в Аренсберг, и управитель замка волей?неволей должен был поделиться со мною этим. И у него там идет голова кругом. В кухне распоряжается повар из А.; с полдюжины служителей изо всех сил возятся там, чистят, топят, зажигают огни – его превосходительство, министр, несмотря на бурю и снежную метель, сегодня вечером пожалует в Аренсберг. В А., и в особенности в его собственном доме, появился тиф, так вот он и хочет спасать маленькую графиню в пустынном Аренсберге.
Тень глубокого неудовольствия пробежала по прекрасному лицу горного мастера. Он быстро зашагал по комнате.
– И вы не знаете, как долго хочет пробыть здесь министр? – спросил он, останавливаясь. Зиверт пожал плечами:
– А кто его знает, – проговорил он. – Я со своей стороны думаю, что дело?то тут не в ребенке, а в собственной священной особе превосходительства; он будет ждать, пока непрошеный гость не уберется из А.
Эти сведения, очевидно, не были приятны молодому человеку; он в задумчивости остановился на минуту среди комнаты, не сделав, однако, дальнейшего замечания.
– Зиверт, – произнес он, как бы выходя из задумчивости, – вы помните господина фон Эшенбаха?
– Как же! Он был лейб?медиком у принца Генриха и еще вылечил меня, когда я сломал руку. Шестнадцать лет тому назад он отправился за море и с тех пор о нем ни слуху ни духу. Надо полагать, уж не попал ли он, чего доброго, на обед рыбам.
– Пока еще нет, Зиверт, – возразил, улыбаясь, горный мастер. – Сегодня после обеда получил я давно отправленное письмо, адресованное на имя покойного отца. Кого все считали умершим, пишет собственноручно, что с грустью и вместе с удовольствием вспоминает он о том времени, когда из замка Аренсберг хаживал, бывало, в Нейнфельд к смотрителю завода и пил у него густое молоко, отдыхая под липами. Он живет в Бразилии бездетным холостяком, владеет рудокопиями и плавильными заводами, но ведет жизнь отшельника. В заключение он обращается к отцу с просьбою прислать к нему одного из сыновей, так как часто бывает болен и нуждается в опоре.
– Э, да там наследство хоть куда!
– Вам известно, Зиверт, что меня ничто в мире не заставит покинуть Нейнфельда, – возразил отрывисто горный мастер.
– Что касается меня, и я подобным образом не расстанусь с Теобальдом! Золотые и серебряные руды господина фон Эшенбаха останутся при нем! – с оживлением вскричал студент, на щеках которого выступили два лихорадочных пятна.
– Ну?ну, Бог с ним, с его наследством, – проворчал Зиверт, машинально опускаясь на стул. – Так вот как! Стало быть, он разбогател, – произнес он после недолгого молчания, задумчиво проводя рукою по небритому, седому подбородку. – Семейства?то он очень небогатого.
– А почему он отправился в Бразилию? – перебил его студент.
– Почему? Об этом долго рассказывать. Правду говоря, иной раз думается мне, оставила ему по себе память одна недобрая ночь.
В эту минуту буря опять разразилась с большой силой. Окна зазвенели; слышно было, как сорванная вихрем черепица грохнулась с треском о мостовую.
– Слышите? – проговорил Зиверт, указывая через плечо пальцем на окна. – В ту пору была тоже зимняя ночь и такая, что, кажется, вся преисподняя, сговорившись, высыпала на охоту в наш Тюрингенский лес. Слышен был то вой, то свист, то треск, так и казалось, что вот?вот все это обрушится на замок и сметет его с лица земли. Картины на стенах дрожали, пламя из каминов так и рвалось в комнаты. На другое утро все статуи в саду валялись на земле; толстые деревья, как тростинки, были вырваны с корнем, по всему двору целые кучи разбитых стекол, оконных рам, черепицы набросаны были в беспорядке, а на разрушенной крыше развевался траурный флаг, и в Аренсберге раздавался протяжный колокольный звон, потому в ночи принц Генрих отдал Богу душу.
На минуту он смолк.
– И к чему, подумаешь, нужен был им этот звон? – продолжал он с неприязненной усмешкой. – На что было княгине распускать длинный траурный шлейф? И какую надобность имела страна в этих черных каемках на газетах? Ведь всем было известно, что до самой кончины принца они были с ним в смертельной вражде… Вы должны это помнить, мастер!
– Да, я помню, хотя был еще тогда совсем ребенком, какая ненависть существовала между двором в А. и Аренсбергом. Принц не терпел даже, чтобы его люди имели сношения с княжескими чиновниками, и отец мой, как служащий от правительства, пострадал тоже тогда немало.
– Совершенно верно. А кто из дворян не покидал тогда принца Генриха и жил с ним в Аренсберге?
– Во?первых, ваш господин, Зиверт, майор фон Цвейфлинген, затем господин фон Эшенбах и теперешний министр, барон Флери.
– Так точно, и этот! – горько усмехнувшись, произнес рассказчик. – Всю жизнь свою он был плутом и обманщиком… Майор и господин фон Эшенбах никогда не показывались в город, не только при дворе, где их не жаловали. Но его превосходство шнырял и к нашим, и к вашим. Прах его знает, как он их околдовывал, только каждая партия точно зажмуривала глаза, когда он бросал ее и переходил на другую сторону. Все сходило с рук этому французскому флюгеру у этих, прости Господи, ошалелых немцев. Извольте видеть, при дворе в А. рассчитывали попользоваться им, что он, дескать, примирит обе стороны и будет полезен, когда дело коснется наследства. Эх, не доросли они все до той женской головки, которая стояла им поперек дороги!
– Графиня Фельдерн? – вскричал горный мастер, и лицо его омрачилось.
– Да?да, графиня Фельдерн, владетельница Грейнсфельда! Принц называл ее своею приятельницей, но люди были не так учтивы и называли ее совсем иначе, да и были совершенно правы. Она вертела его светлостью, как ей было угодно, туда и сюда, во все стороны. Когда он называл что белым, она утверждала, что это черное, и так при всяком случае… Господи, подумаешь, уж тут ли не было всякой скверны и греха – и все то прошло безнаказанно! Презренная женщина умерла тихо и спокойно, как какая?нибудь праведница. Только раз в своей жизни она испытала страх и беспокойство: это именно в ту самую ночь!
Какие воспоминания восстали в памяти старика и заставили даже изменить его привычный тон? Выражение затаенного гнева не могло быть лучше охарактеризовано: крепко стиснутые губы, постоянно монотонный голос ожил в полных ненависти и презрения звуках. Тон его имел в себе что?то необычайное. Больной, забыв лихорадку, превратился в слух, между тем как брат его напряженно следил за рассказом, отчасти уже известным ему.
– Живущие в замке уже давно шептали промеж себя, что скоро настанет конец царствованию графини, – продолжал Зиверт. – Каждому бросалось в глаза, как принц день ото дня становился дряхлее, только она одна не хотела заметить этого. Никогда она еще не была так зла и безумна. И когда однажды принцу вздумалось похвалить свою умершую супругу, ей сию же минуту пришло в голову устроить в своем замке большой маскарад, как раз в день смерти бедной доброй принцессы. Это уж она хватила через край! Принц побледнел от гнева и строго приказал отложить это переодеванье. Не тут?то было: весело рассмеявшись в ответ на запрещение, она объявила, что день этот подоспел как нельзя кстати, что и она желает справить тризну по принцессе и устроить в честь ее иллюминацию…
Настал вечер. К удивлению всех, и в особенности самой графини, принц остался дома – и трое господ с ним: мой майор, барон Флери и господин фон Эшенбах, которые также были приглашены. Принцу нездоровилось. Вечером, усевшись за игру, он отослал прочь всех своих лакеев, и только я один, по его приказанию, остался в передней…
Вот один?одинешенек сидел я у окна и прислушивался к страшной вьюге, завывавшей на дворе. Господи, что это за звуки носились над старым замком! То раздавалось точно пение какое, то звон; все, что старые стены видывали на своем веку, все: и турниры, и банкеты, и всякие празднества, а также немалое число преступлений и злодеяний – все это, точно сговорившись, с воем, свистом и гуденьем поднялось…
…Пробило одиннадцать, а в замке всюду еще горели огни: ни один человек не решался сомкнуть глаз… Вдруг слышу, в комнате задвигали стульями, кто?то сильно рванул колокольчик, и, когда я отворил дверь, принц Генрих, бледный как мертвец, с выкатившимися глазами, лежал в своем кресле – кровь ручьем лилась у него ртом и носом… Прислуга металась с жалобами и стонами, но войти не смела, и я тоже…
Господин фон Эшенбах знал свое дело, был хороший доктор, но, как говорится, семи смертям не бывать, а одной не миновать – и для принца пробил последний час. Тут из комнаты вышел барон Флери и потребовал лошадь. «Принц при смерти, – сказал он шталмейстеру так громко, что люди, стоявшие на последних ступеньках лестницы, могли слышать. – Поездка в подобную ночь в А. все равно что самоубийство, но принц желает примириться с князем – и подлец тот, кто не пожертвует для этого жизнью!» Пять минут спустя слышно было, как он уже мчался по дороге в А. С этой минуты в замке воцарилась мертвая тишина. А графиня пускай себе танцует там, танцует до тех пор, пока князь не будет иметь в руках своих принадлежащее ему по праву наследство. Я снова подошел к окну и в смертельном беспокойстве стал считать минуты – добрый час требовался хорошему всаднику, чтобы достичь города.
Мой майор и господин фон Эшенбах остались у принца. Он был в полном сознании, и когда я подходил ближе к двери, то явственно мог слышать, как, прерывисто дыша, он медленно диктовал что?то обоим господам… А там, вдали, лежал замок Грейнсфельд – не будь такой метели, из моего окна можно было бы видеть иллюминацию в честь принцессы. Пляши себе так сколько душе угодно, думал я про себя, когда башенные часы пробили двенадцать. Пройдет час, и пляска твоя будет стоить полмиллиона. Едва замер последний удар полуночи, на дворе снова послышался вой бури; сильный порыв ветра снес дымовую трубу, и кирпичи с грохотом ударились о мостовую. Вслед за этим послышался звук лошадиных копыт и стук колес, дверь внезапно отворилась, и на пороге очутилась эта женщина! Сам сатана привел ее сюда! До сих пор никто не знает, как это случилось, кто был изменником. Она сорвала с себя меховой салоп, бросила его на пол и подбежала к комнате умирающего. Но тут стоял я и держал руку на дверном замке. «Туда никто не должен входить, графиня!» – сказал я. На одно мгновение она точно окаменела, ее пылавшие глаза точно стрелы впились в мое лицо. «Наглец, ты дорого за это заплатишь, – прошипела она. – Прочь с дороги!» Я не двинулся… Но в комнате, верно, услышали – вышел майор. Он немедленно запер за собою дверь и стал на мое место; я отошел в сторону… Странное дело – у него в лице было что?то такое, что мне не понравилось… Вы знавали графиню, мастер?
– Да, она слыла за красивейшую женщину своего времени… В замке Аренсберг висит еще и теперь ее портрет – гибкий, стройный стан, большие черные как уголь глаза, белое как снег лицо и блестящие, золотистые волосы…
– Да, совершенно такая, – прервал Зиверт с горькой усмешкой это описание. – Прах ее знает, что она такое делала с собою! Тогда ей было за тридцать и у нее была уже семнадцатилетняя дочь, но надо было ее видеть – кровь с молоком! Самая молоденькая женщина терялась рядом с ней, и никто на свете не знал этого лучше, чем она сама. Презренная комедиантка! Как надломленная, припала она к ногам моего господина и своими белыми руками обхватила его колени. Она была в своем бальном наряде, блестящем и сияющем, а желтые волосы, растрепанные бурею, распустились и падали на пол; только одна прядь, спускаясь около уха, тонким огненным кольцом вилась, как змейка, вдоль белой шеи. Да, поистине то была змея, искусившая честь мужчины, до сей поры незапятнанную… Господи, у меня так и чесались руки прогнать с порога эту проныру, протягивающую руку за чужим наследством, – а он, бледный как смерть, стоял тут и приходил в ужас от царапины на лбу у презренной женщины: камень из повалившейся трубы оцарапал ей кожу. Эх, вывел бы на свет ее, так лучше бы было… «Я удивляюсь, Цвейфлинген, – проговорила она слабо, точно при последнем издыхании, – неужели вы хотите оставить меня умереть здесь?» И она схватила его руку и поднесла к своим лживым, лукавым устам… Тут по лицу его разлилось точно пламя. Он быстро рванул ее с пола – и по сегодня не знаю, как это случилось, у женщины этой была просто дьявольская хитрость и проворство, – в одно мгновение ока она была уже в комнате и бросилась к постели умирающего… «Прочь, прочь!» – закричал принц, отмахиваясь от нее руками, но тут целый поток крови хлынул у него ртом, и через десять минут его уже не стало.
Говорит же пословица: ночь – недруг человеку, – прервал себя старый солдат, горько усмехаясь, – но для плутов нет лучшего друга, как она. Желал бы я знать, получила бы графиня наследство, если бы ясное солнце светило в комнате умирающего? Полагаю, что нет!
Когда принц испустил дух, она, бледная как смерть, поднялась, но ни тени сожаления, ни единой слезы на ее бледном высокомерном лице, – поднялась и хлопнула дверью прямо у меня перед носом. Более получаса оставалась она там, что?то говорила, что именно, не знаю, но в голосе ее слышалось смертельное беспокойство. Затем оба господина вышли и объявили всем о кончине принца. Мой майор прошел мимо меня, не взглянув, точно я был сатана или что другое подобное. Раньше я сказал, что целая дьявольская охота носилась в эту ночь по Тюрингенскому лесу – подлинно оно и было так, – графиня играла тут роль Венеры, а Тангейзером был мой господин. С этих пор он стал совсем погибшим человеком, а графиня же первой богачкой страны. Завещание, оставшееся после принца, сделано было именно во время самой сильной неприязни между покойным и двором в А. и самого высшего могущества графини, а что написано пером, того не вырубишь и топором, никакое судебное следствие не могло тут ничего поделать. Все отказано было проныре, ни единого гроша не перепало на долю бедняков страны.
– Проклятье! – вскричал с жаром студент, ударяя кулаком по столу. – Князь не подоспел вовремя!
– Вовремя? – повторил Зиверт. – Да он совсем и не приезжал. Под утро крестьяне неподалеку от А. поймали оседланную лошадь без всадника, а барона Флери нашли в канаве близ дороги. Вместе с лошадью он упал и вывихнул себе ногу, так что не мог двинуться с места. Я видел, когда его принесли на носилках. Платье было разорвано и забрызгано грязью, волосы этого помадного героя, ежедневно подвитые, теперь свисали ему на глаза, точно у цыгана. Но ему хорошо за все это отплатили. Не было забыто, что он жертвовал жизнью, чтобы доставить наследство княжескому дому, и вот он сделан был министром.
– А господин фон Эшенбах? – спросил студент.
– Господин фон Эшенбах? – повторил Зиверт, потирая лоб. – По поводу его?то я и рассказывал вам эту постыдную историю. Для него тоже ночь эта не прошла даром. Вначале было еще ничего, он был весел и стал беспрестанно ездить в Грейнсфельд. Но это длилось всего два дня. Он уехал в А., и как раз в тот день, когда в Грейсфельде праздновалась великолепная свадьба – молодая графиня выходила замуж за графа Штурма, – он и оттуда скрылся… Так и пошел он бродить по белу свету. Человек он был свободный, ничто его тут не держало, не было ни жены, ни ребенка, как у майора…
Под конец рассказа горный мастер приблизился к окну, раздвинул занавески – упоительный цветочный аромат разнесся по комнате. На подоконнике цвели в горшках фиалки, ландыши и нарциссы. Молодой человек безжалостно срезал лучшие из них и осторожно завернул в белый лист бумаги. При последних словах Зиверта он повернул голову. Быстрый взгляд, брошенный на него вскользь братом, вызвал яркую краску на его лице.
– Довольно, оставим в покое старые истории, Зиверт, – произнес он, обрывая речь старого солдата. – Вы поступаете нехорошо, а между тем другие найдут, что осудить в ваших поступках. Вы верный слуга!
– Против воли, совершенно против воли, мастер, – возразил с ожесточением Зиверт, поднимаясь и поспешно собирая свои вещи. – Если кто любил своего господина, так это я. В ту пору, когда он еще строго дорожил честью, я за него готов был в огонь и в воду. Но впоследствии, когда он стал шутом графини, начал играть и пить с бароном Флери и с подобной ему шайкой проводить ночи в «благородных барских удовольствиях», дурно обращаться со своею женой, которая рада была за него отдать свою кровь капля по капле, – я возненавидел его, почувствовал к нему презрение, и тут, к обоюдному нашему счастью, он мне отказал от места.
Правда, как говорится, «он умер на поле чести»! В людских глазах он искупил этим все сделанное им зло. Но если это так, то отчего же после этого, если какой банкрот в отчаянии наложит на себя руки, люди осуждают его на вечные времена? Господи! Все пошло прахом, все было спущено, даже эта жалкая развалина – Лесной дом.
Ее сиятельству, разумеется, не приходилось иметь дела с нищим, и вот последний из Цвейфлингенов бросился в Шлезвиг?Гольштейн и там под густой град ядер и пуль подставил свой лоб. Это, конечно, не самоубийство – кто посмеет назвать таким именем подобную вещь! Честь дворянина была спасена, а что сталось с несчастной вдовой – до того никому не было дела: справляйся, как знаешь, сама! Но ее благородные руки привыкли лишь выдавать деньги, а работать ими, чтобы поддерживать свое существование… Ну, к этому они не привыкли, слишком они важны для того! – Он набросил на плечи шинель и взял фонарь. – Ну вот, облегчил я свое сердце, – произнес он с глубоким вздохом. – Не назовите вы имени Эшенбаха, ничего бы не случилось… Поплетусь?ка я по дворам и поволочу дальше свое бремя… Но еще слово, мастер: не называйте вы меня никогда верным служителем. Чтобы исполнять свою должность как следует, надо иметь сердце, полное любви и терпения, а этого во мне положительно нет… Майор мог оставить мне хоть с десяток писем, подобных тому, которое у него нашли в кармане после сражения при Идштедте, и все же это не могло бы меня заставить пойти к его жене и дочери, ибо любовь уже погасла. Но много лет тому назад, когда отец мой через один бесполезный процесс должен был лишиться своего крестьянского владеньица, майор, взяв за свой счет лучшего адвоката в стране, дал возможность моему старику закрыть глаза в своем родном гнезде. Вот это?то мне тогда и пришло на память: я собрал свои пожитки и с тех пор вот и обретаюсь в должности домоправителя, поварихи, поставщика дров, судомойки и другой прочей прислуги госпожи фон Цвейфлинген.
Выражение едкой иронии в тоне старика усилилось, проявившись еще более насмешливым достоинством в осанке и манере, которые он принимал, исчисляя свои обязанности. Горному мастеру выходка эта, видимо, была неприятна и обидна. Губы его были сжаты, лоб нахмурен, а густые брови еще более сблизились. Безмолвно положил он сверток бумаги, который держал в руках, на стол. Зиверт быстрыми шагами приблизился к нему.
– Давайте сюда, – сказал он и, взяв сверток, положил его, сверх хлеба, в свою корзину. – Я сделаю вам любезность… Ладно, оставим эти старые истории… Цветы я передам, – не напрасно же они, бедняжки, были срезаны! Также извещу, почему сегодня вы не могли прийти к чаю. Итак, доброй ночи и скорого выздоровления господину студенту!
Он вышел из комнаты.
Буря еще не стихла, и вечер был мрачен.
Глава 2
Он пошел той же дорогой, какой отправилась пасторша, – в селение Нейнфельд, отстоящее на ружейный выстрел от завода. Несмотря на малое расстояние, путь был нелегок. Целые сугробы навеяны были бурей; из?за хлопьев снега, крутившихся в воздухе, не видно было даже рябин, которыми по обе стороны обсажена была дорога.
Старый солдат с презрением к этому препятствию шагал быстро вперед. Придерживаемую платком фуражку он сдвинул на затылок, чтобы освежить разгоряченное неприятными воспоминаниями лицо. Хрустевший под ногами снег пробуждал в нем чувство какого?то детского самодовольства; шаги стали бодрее, а в мыслях рисовалась вся теперешняя его жизнь, столь ему постылая и ненавистная, покориться которой тем не менее он считал своею обязанностью. И вот, таким образом уплачивая свои старые долги, он поседел, ожесточился и стал ненавидеть людей.
Нейнфельд – одно из тех убогих селений, которых немало гнездится на могучем хребте Тюрингенского леса, – лежал перед ним в безмолвии. Терпеливое и беспомощное, оно, по?видимому, покорно распростерлось в небольшой лощине для того лишь, чтобы покрытые дранью крыши его завеяло и погрело снегом.
При дневном свете эти убогие, не правильно разбросанные по лощине домики, с их запущенными огородами по сторонам, смотрелись довольно привлекательно; в эту же минуту, когда снег и ночь скрывали глиняные стены и серые заплаты крыш, матовый свет, падавший из их небольших окон, среди этой непогоды мерцал приветливо и гостеприимно. Оконные стекла не нуждались в ставнях или в занавесках: их функцию исполняла нагретая печь, которая, к счастью, встречалась даже в наибеднейших жилищах в этой суровой местности. Она своим теплым дыханием затуманивала стекла, не настолько, однако ж, чтобы каждый сосед не мог видеть у другого, как он ужинает, макая в солонку свой картофель, лишь изредка позволяя себе роскошь – прибавить какой?нибудь кусочек масла к своему ненакрытому столу.
С удвоенной скоростью Зиверт миновал селенье. Освещенные окна напомнили ему, что дома в подсвечнике догорал последний огарок. Он слышал, как пробило семь; оставалось пройти еще некоторое пространство, а между тем хлеб, который он нес в корзине, предназначался обитательницам Лесного дома на ужин. В конце селения, свернув к шоссе, которое прямой лентой тянулось в глубине долины, он взял налево по заброшенной, пустынной дороге, размытой дождями, теперь же замерзшие глубокие колеи которой сделали ее едва проходимой.
Лесной дом носил название свое по праву. Столетие тому назад построенный для охоты одним из Цвейфлингенов, стоял он, точно заблудившийся среди леса. Владетели его никогда в нем не жили. Дом состоял, собственно, из одной огромной галереи и двух достаточно просторных башен, которыми по обе стороны и ограничивался фасад. В них устроены были помещения, в прежние времена служившие для ночлега гостей, принимавших участие в больших охотах. По смерти майора фон Цвейфлингена вдова его поселилась в одном небольшом тюрингенском городке. Все ее достояние заключалось в крошечном доходе, получаемом ею с одного вклада, сделанного с незапамятных времен Цвейфлингенами, – от небольшого пансиона, выхлопотанного ей министром бароном Флери у князя А, она отказалась. Роскошь держать прислугу, само собою разумеется, она должна была исключить из своего маленького хозяйства. Стало быть, Зиверту приходилось заботиться самому о своем существовании. Оставшееся после отца небольшое крестьянское имущество он продал, и процентов с вырученного от продажи капитала ему вполне было достаточно на удовлетворение его скромных потребностей. Уже два года как госпожа фон Цвейфлинген страдала поражением спинного мозга. Вначале, когда болезнь только обнаружилась, она с лихорадочной поспешностью стала готовиться к смерти и пламенно желать ее, надеясь закрыть глаза свои в родном гнезде. После несказанных затруднений ей удалось наконец выкупить Лесной дом, этот остаток прежнего блеска и величия ее фамилии, и здесь с покорностью стала она ожидать часа своего избавления.
По мере приближения к дому дорога становилась все более и более неудобопроходимой. Почва несколько возвышалась и была неровной. Старые ноги по щиколотку вязли в снегу, наполнявшем рытвины, а ветер так и дул навстречу спешившему старику, замедляя шаги его на этом открытом безлесном склоне. Буре был здесь полный простор. Уж слышно было, с каким особенным свистом набегала она на ветхое жилище. Звук этот был столь же пронзителен, как если бы ветер свистел между деревьями, раскачивая их вершины, оживляя безжизненную листву и заставляя каждый дубовый лист тянуть с ним жалобную песню – песню о прошлых временах, о весенней любви, о летней знойной поре, о былом величии темного леса, когда среди тишины вдруг раздавался в нем звук охотничьего рога, а в его дубовой чаще мелькал золотистый локон охотившейся благородной красавицы. Зиверту слышалось что?то иное в этом завывании, носившемся над его головой: то были гневные голоса суровых предков его бывшего господина – они владычествовали здесь в своем феодальном могуществе и праве, чиня немилосердную, жестокую, нередко кровавую расправу над каким?нибудь жалким порубщиком или браконьером, захваченными в их владениях. А ныне старый солдат на чужой земле принужден был пускаться на кой?какую хитрость, чтобы иметь возможность истопить комнату последней отрасли блестящего рода Цвейфлингенов, и еще недавно, среди косо посматривающих на него голодных деревенских ребят, он ползал под кустарником, собирая бруснику, и полные две корзины приволок домой для десерта последней владелице этой древней фамилии.
Старик тихо начал свистеть, как бы сдерживая горькую усмешку. Вдруг он остановился – гневное восклицание сорвалось с его губ: вдали показалась светлая точка, матовым блеском мерцавшая сквозь хлопья падавшего снега, который в эту минуту несколько поредел.
– Ну вот, опять окна не занавешены! При этаком?то ветре! – проворчал он с сердцем. – Комната совсем выстынет!.. Еще недостает, чтоб она забыла о печке…
Он торопливо зашагал вперед. На губах его появилась недовольная усмешка – ветер доносил фортепьянные аккорды.
– Так я и знал! Она опять бренчит там! – ворчал он, ускоряя шаги.
Все его размышления рассеялись прахом перед гневом, который им овладел. Какое ему было дело теперь до разгневанных и стенающих теней давно умерших господ Цвейфлингенов! В его ушах раздавались лишь эти звуки, несшиеся к нему из комнаты, глаза его видели лишь этот тусклый, мелькающий огонек, светившийся в окне башни, тень от железной решетки которой, колеблясь, расстилалась по снегу.
Фасад Лесного дома выдавался между двумя башнями, галерея, возвышавшаяся от земли на несколько ступеней, соединила их. Каменная балюстрада, шедшая вдоль галереи, на самой середине прерывалась лестницей, на верху которой высилась огромная двойная дверь, открывавшаяся непосредственно с лесной луговины в галерею. Когда Зиверт поднимался по ступенькам, свет от фонаря упал на две высеченные из камня фигуры в человеческий рост, стоявшие каждая по обе стороны лестницы на парапете, – грациозные изображения юношей во всей прелести отрочества. Кудрявая голова откинута назад, поднятая высоко рука держит у рта каменный рог, и вот в таком положении столетие стоят они и трубят свой охотничий призыв… Что за сонмище предстало бы на зов этот, если бы все усопшие, пировавшие и охотившиеся когда?то здесь, проснулись и, восстав на этой почве в надменной гордости, окинули взором свое лесное владычество, – все представители многих поколений, различные по виду, правам и воззрениям, но одушевленные одной и той же идей – во что бы то ни стало удержать в руках своих власть, ни на волос не отступать от дарованных прав, но увеличивать и расширять их при всяком удобном случае!
Какой?то непрестанный шорох носился по старому дому, и когда Зиверт отворил одну половину двери, галерея своими колоссальными размерами, точно бездонная пропасть, разверзлась перед ними. Прежде всего он подошел к печке и открыл заслонку.
– Так и есть! Ни искорки! Ведь это просто грех и стыд! – проворчал он.
В одну минуту старик освободился от принесенных им вещей, и вскоре в печке запылал яркий огонь.
В трубе гудел ветер, и пламя огненными языками рвалось в комнату. Золотисто?красный свет его падал на противоположную сторону, освещая ряд выстроившихся плотно, один к другому, портретов. Все они нарисованы были в человеческий рост и выделялись своими, как правило, охотничьими костюмами из источенных временем рам. Избранный момент – поединок с исполинским вепрем или медведем, бывший общим для них сюжетом, – очевидно, долженствовал служить доказательством мужества и аристократической крови Цвейфлингенов. Над этим строем фамильных изображений шел ряд оленьих голов, обремененных гордой ношей ветвистых рогов, черные надписи на белых досках гласили, когда и кем убито было каждое из благородных животных; между надписями иные уходили в такую седую древность, что истое дворянское сердце должно было трепетать от восторга. А вот и следы оркестра; здесь когда?то раздавался звук труб, веселой мелодией старавшихся «потешить» дворянские сердца среди роскоши охотничьего пира. Теперь оттуда слышалось тихое блеянье – пол под мостками превращен был в козье стойло.
Зиверт поставил на огонь таган, а на него чугун со свежей водой – обычай, как видите, мало отличающийся от первобытного, – затем из принесенной связки сальных свечей вынул одну и поставил ее в подсвечник из желтой меди. За все время этих приготовлений стереотипная горькая усмешка ни на мгновение не покидала лица старика. Через стену слышно было, как фортепьянная игра становилась все быстрее и быстрее. Старый солдат, как видно, не был музыкантом, в противном случае непременно подивился бы невероятной быстроте пальцев и уверенности в игре; эти отчетливые трели и рулады могли удовлетворить хоть какую строгую концертную публику. Тем не менее старый недоброжелатель был не совсем не прав со своим наивным эпитетом «бешеная». Блестящая тарантелла исполнена была в таком быстром темпе, что просто кружилась голова; звуки так и рвались один за другим, но все же это были, так сказать, холодные искры, не воспламенявшие слушателя, оставляя его в недоумении, кто извлекает эти быстрые звуки: ловко?ловко устроенный автомат или действительно пальцы, в которых пульсирует живая кровь.
Старый солдат взял свечку и отворил дверь, которая вела в нижний этаж южной башни. Что за противоположности разделялись дверью! По одну сторону – пустынное, необитаемое пространство, где звук шагов, раздававшийся по каменному полу, наводил какой?то ужас, по другую – комната, загроможденная мебелью, можно сказать, драгоценной. Мы говорим «загроможденная», ибо комната была невелика, но заключала в себе полную меблировку большого старинного салона. Это был остаток прежнего великолепия, который вдова постаралась удержать за собою. В первый момент роскошь эта ослепляла, затем удивление сменялось чувством грусти и глубокого сострадания. Резные палисандрового дерева столы и этажерки, кресла и козетки, обтянутые шелковым абрикосового цвета штофом, стоявшие вдоль стены, старинные кожаные дырявые шпалеры с тиснениями, прежде позолоченными арабесками, которые давно уже приняли грязно?бурый цвет, становились еще грязнее, приходя в соприкосновение с блестящей оправой доходящего до потолка зеркала или позолоченной рамой писанной маслом картины; окна с незатейливыми ситцевыми занавесками и высокая темная печь, грубо и неуклюже высившаяся среди этой изящной обстановки, вконец нарушали гармонию.
Зиверт загасил пальцами едва мелькавший и чадивший огарок и заменил его принесенной свечой.
Женщина, одиноко сидевшая в кресле и погруженная в задумчивость, не могла заметить этой благодетельной перемены – она была слепа. «Ослепла бедная от слез» – говорили люди, и были правы. Присутствие ее увеличивало грустное впечатление, производимое дисгармонией комнаты. Одежда ее была более чем проста; темное полушерстяное платье было как бы насмешкой рядом с этими штофными подушками кресла.
– Наконец?то вы вернулись, Зиверт, – сказала она досадно слабым, но в то же время резким голосом. – Вы всегда проходите Бог знает сколько времени! Дочь занимается музыкой и не может слышать моего зова – я почти охрипла кричавши… Здесь ужасно холодно. Прежде чем уйти, вы не позаботились надлежащим образом о печке, а Ютта забыла завесить окно – вы сами также могли бы об этом подумать… И что за ужасные свечи стали вы теперь приносить в комнату? От них чад и запах! В прежнее время я не дозволила бы жечь подобных и в лакейской!
Старый служитель не возражал ничего на эти выговоры. Восковые и стеариновые свечи были не по карману его госпоже, а уж тем более масло, которое требовалось для прекрасной карсельской лампы, сохраненной ею от прежнего великолепия. Он молча отворил шкаф, вынул оттуда полинявшее красное шелковое стеганое одеяло и завесил им окно, вблизи которого сидела больная.
Взяв одну из длинных лент своего чепчика, госпожа фон Цвейфлинген стала механически катать ее между своими тонкими желтыми, как воск, пальцами – в движении этом проглядывала нервозность.
– Вы приносите с собою, Зиверт, такой противный запах копоти! – начала она опять, обращая свои потухшие глаза к окну. – Я подозреваю, что вы топите сырыми дровами, и не понимаю, каким образом это может случиться… Без сомнения, вы так практичны: дрова на зиму были заготовлены и привезены вами летом, в надлежащее время, так отчего же они отсырели? Или, может быть, они сложены вами не в сухом месте?
При слове «привезены» едкая усмешка мелькнула на губах Зиверта. Да, сегодня на своей собственной спине «привез» он топливо своей почтенной госпоже, и, само собою разумеется, не один зеленый побег трещал там в печке и дымился, оскорбляя барское обоняние. При самом поступлении Зиверта в Лесной дом вся касса госпожи фон Цвейфлинген перешла в его руки. Раньше удавалось ему, хоть и с большим трудом, поддерживать кое?какое хозяйство, придавая ему внешний вид благосостояния, теперь же на болезнь уходило много денег. Но это не приходило в голову его госпоже; точно так же она нисколько не подозревала, что за хлеб, который она сегодня будет есть, и за эту противную сальную свечу заплачено было из собственного кармана Зиверта, ибо в доме не было ни гроша.
Между тем старый служитель уверил свою госпожу, что заготовленные дрова сложены в северной башне, и свалил всю вину на бурю, которая весь дым из трубы гнала в галерею. Затем он равнодушно достал из шкафа салфетку, две чашки, желтой меди чайник и поставил все это на чайный стол перед софой.
В эту минуту фортепианная игра в соседней комнате закончилась громким аккордом. Госпожа фон Цвейфлинген вздохнула, как бы от облегчения, и на мгновение сжала виски руками – для ее расстроенной нервной системы громкая музыка должна была быть истинным страданием. Дверь в соседнюю комнату отворилась. Если бы гардины глубоких оконных ниш мгновенно заменились пыльной паутиной, элегантная меблировка и чайный стол вдруг исчезли и рядом с этой женской фигуркой в кресле поставлена была самопрялка, то этот момент прекрасно мог бы изобразить эпизод из любой волшебной сказки, где какая?нибудь прелестная принцесса является к злой колдунье. Рядом с неуклюжей печью в раме дверного проема появилась девушка. Никто не подумал бы, что это те самые руки, теперь спокойно поправляющие спустившиеся на грудь локоны, маленькие, почти детские руки, которые только что с такой необыкновенной силой скользили по клавишам. Насколько это трудное упражнение легко для юной музыкантши, можно было заключить из того, что ни малейшей тени возбуждения не замечалось на ее лице, которое хотя и было бледно, но в то же время не лишено свежести нежного цветка вишневого дерева. Оно не имело ничего общего с тем болезненным женским профилем, который, своей неподвижностью и цветом напоминая мумию, лежал на желтых шелковых подушках кресла. Скорее его изящные линии, полные античной прелести, напоминали те фамильные черты, которые видели мы на портретах в галерее; черные глаза, сверкавшие там в диком веселье охоты или холодно и равнодушно, в сознании своего аристократизма, смотревшие на мир, такие глаза и здесь блистали на белом девичьем лице, как бы для того, чтобы еще резче представить контраст между матерью и дочерью, выставляя последнюю истинным отпрыском Цвейфлингенов, которые все сплошь красовались там, на полотне, в покрытых золотым шитьем одеждах. Девственный стан девушки охватывало бледно?голубое шелковое платье, прямоугольный вырез которого отделан был пожелтевшими настоящими кружевами.
– Ну, Зиверт, – произнесла девушка, входя в комнату, – наконец, кипяток готов? – Взгляд ее упал на чайный стол. – Как, только две чашки? – вскричала она. – Разве вы забыли, что мы ожидаем гостей?
– Гости не могут прийти, потому что студент заболел, – коротко ответил Зиверт, поднося чайник к свету и осматривая его: нет ли на нем пятен.
Точно все надежды девушки рухнули в воду – такое действие произвело на нее это известие. Тень самого горького разочарования появилась на ее лице.
– О, как это грустно! – пожаловалась она. – Неужели и этого удовольствия нельзя себе позволить?.. Так меньшой Эргардт заболел? Интересно знать, что еще там с ним случилось.
Смесь иронии и недоверия неприятным образом нарушали детскую звучность голоса девушки.
– Гм… Студент простудился дорогой, – сухо сказал Зиверт, направляясь к двери.
– Положим, но я не вижу, почему бы смотрителю оставаться дома?.. Или, может быть, он боится схватить насморк? – спросила она.
– Перестань ребячиться, Ютта! – с сердцем проговорила госпожа фон Цвейфлинген. – Как можешь ты требовать, чтобы он бросил больного брата, с которым не виделся два года и которого теперь в первый раз принимает в собственном доме!
– О, мама, неужели ты оправдываешь это? – вскричала Ютта, в невольном удивлении всплескивая руками. – Неужели тебя не огорчило бы, если бы папа ради других стал пренебрегать тобою и…
– Замолчи, дитя! – вскричала мать с такою необычайной запальчивостью, что дочь онемела от испуга. Голова больной бессильно запрокинулась на спинку кресла, а рука потянулась к лишенным света глазам.
– Не сердись, мама, – снова заговорила девушка, – я не могу думать иначе – подобная небрежность со стороны Теобальда делает меня очень несчастной! Я имею свои собственные высокие идеалы и знаю, что всем женщинам нашей фамилии во все времена отдавалась дань самого глубокого уважения. Прочитай только нашу семейную хронику, ты увидишь, что благородные кавалеры шли на смерть за даму своего сердца и какое значение имели для них их родственники, когда дело шло об удовольствии и радости возлюбленной! Да, конечно, то были чувства дворянские!
– Глупая! – с неудовольствием произнесла больная. – Неужели этот бессмысленный вздор есть результат моего воспитания? – Она остановилась, ибо Зиверт снова вошел в комнату. В одной руке он держал стакан со свежей водой, в другой – сверток белой бумаги, который и подал Ютте. Она развернула бумагу – ни единая черта не дрогнула в ее лице при взгляде на эти благоухающие послания любви, которые боязливо, среди суровой зимы, поднимали свои красивые головки, доставляя нередко наслаждение бедному люду, у которого не было достаточно света, воздуха и тепла. Восхитительное зрелище представляет девушка, украдкой подносящая к своим губам букет от любимого человека, – может статься, эта невеста глубоко оскорблена в эту минуту; она даже не наклонила головы, чтобы насладиться их ароматом; положив на стол бумагу, она бросила на нее цветы, выбрав из них только нарциссы… Зиверт все еще стоял перед нею и держал стакан; она слегка оттолкнула его от себя рукою.
– Ах, он для этого не годится, – сказала она сердито. – Терпеть не могу этих мутных луж в стаканах!
Она подошла к зеркалу и наподобие диадемы украсила нарциссами свою голову с такой грацией и непринужденностью, что эти белые цветы, точно снежные звезды, подернутые инеем, сияли в ее черных локонах. В эту минуту несчастная мать возбуждала двойную жалость – она лишена была радости любоваться красотой своей дочери. Может быть, эта красота заставила бы ее отказаться от сказанных с упреком слов: «бессмысленный вздор». Глядя на улыбающиеся от внутреннего самодовольства уста дочери, нельзя было не усомниться в том, что она «очень несчастна», как только что уверяла.
Старый солдат не удостоил взглядом украшенную цветами головку, отраженную зеркалом. Горькая улыбка скривила его губы, когда со стаканом в руке он выходил из дверей. В самых разнообразных вариациях поэты имеют обыкновение воспевать великолепие цветов, когда свой мимолетный век они кончают в волосах или на груди красавицы, грубый же солдат внутренне проклинал себя, что так бережно, среди снега и вьюги, нес эти «бедные цветочки» для того лишь, чтобы теперь таким жалким образом было покончено с ними. Спустя немного времени он принес кипяток, хлеб и масло и, придвинув кресло с больной женщиной ближе к столу, удалился в свою комнату, находившуюся в нижнем этаже северной башни. С этой минуты наступал для него отдых. Он жарко натопил печку, набил трубку и, покуривая, предался чтению астрономических сочинений.
Ютта откинула назад тонкое кружево, украшавшее рукава ее платья, и начала готовить чай.
– Что это, дитя? – сказала слепая, внимательно прислушиваясь к движениям дочери, – На тебе сегодня точно тяжелое шелковое платье?
Молодая девушка, видимо, испугалась: яркий румянец окрасил ее лицо и шею, и она невольно отодвинулась от матери.
– Ты, верно, надела шелковый передник? – продолжала осведомляться слепая.
– Да, мама!
В тоне ответа слышалось желание закончить разговор.
– Удивительно, – на замечая этого, настаивала больная, – как этот шелест поразил мой слух! Не будь я уверена, что у тебя нет шелкового платья, я готова была бы поклясться, что ты вздумала потешить себя довольно жалким, разумеется, образом, разыгрывая роль салонной дамы в нашем убогом жилище… Какое на тебе платье?
– Мое старое шерстяное коричневое платье, мама.
Расспросы наконец были кончены. Ютта вздохнула, как бы в облегчении. Чайной чашкой, которая была у нее в руках, она, видимо, старалась звенеть более, чем это было нужно, оставаясь сама неподвижной, как восковая фигура.
Тоненький ломтик, отрезанный от хлеба, принесенного Зивертом из замка Аренсберг, служил ужином больной. Она крошила его своими прозрачными пальцами и машинально подносила ко рту – очевидно, болезнь была в своем последнем периоде.
– Не почитаешь ли ты мне чего?нибудь, Ютта, когда кончишь свой ужин? – произнесла она. – Буря воет сегодня как?то особенно страшно!
– Охотно, мама. Я прочитаю тебе Сафо – Теобальд мне ее вчера принес.
Нервная дрожь пробежала по всем членам слепой женщины.
– Нет?нет, только не ее! – вскричала она почти с запальчивостью. – Разве ты не знаешь, кто была эта Сафо?.. Несчастная, обманутая женщина!.. В каждой букве этой книги слышится целая буря страстей и страданий, буря, более ужасная, чем та, которая завывает теперь на дворе, а я хотела бы о ней забыть!
Девушка поднялась, чтобы идти за другой книгой. При этом движении платье ее случайно коснулось опущенной руки больной – рука эта судорожно уцепилась за него, другая же с лихорадочной торопливостью стала ощупывать материю.
– Ютта, ты с ума сошла! – вскричала она. Девушка почти упала на стоящее рядом кресло.
– Ах, мама, прости меня, – едва слышно прошептала она. Губы ее побелели как снег.
– Безжалостное, легкомысленное создание! – с гневом проговорила мать, отталкивая от себя протянутые к ней руки. – Есть ли в тебе после этого стыд и совесть, если ты решила таким образом рвать и таскать мою святыню?.. Мое подвенечное платье, которое хранила я как зеницу ока, как единственный памятник моих блаженных дней, – это платье, как тебе известно, должно лечь со мною, когда я наконец освобожусь от всех моих страданий, – и его?то ты треплешь, как бы в поругание нашей бедности, по презренному полу Лесного дома и этим разыгрываешь какой?то фарс, смешнее и жарче которого ничего нельзя себе представить!
Ютта быстро поднялась. В эту минуту ни единая черта ее красивого лица не напоминала собою миловидности сказочной принцессы. Повернувшись спиной к рассерженной матери, своей позой и выражением лица она олицетворяла непреклонное сопротивление. Дерзость так и сказывалась в этих подвижных ноздрях, насмешка скользила по губам, а сверкающий взор устремлен был на женский портрет, висевший над горкой. Это была головка юной мулатки.
Пикантность и умное выражение совершенно неправильных черт бронзового лица делали неотразимо пленительным это худенькое, маленькое личико, глубокие, полузакрытые глаза которого таили целую бездну страсти. На нежные смуглые плечи спускалась белая газовая вуаль, из?под которой серебрились тяжелые складки белого атласного платья, а в толстых черных косах виднелся букет из цветов гранатового дерева, придерживаемый бриллиантовым аграфом.
Глаза Ютты устремлены были на элегантный туалет портрета.
– Ты обращаешься со мной, мама, так, как будто я совершила какое уголовное преступление, – сказала она холодно. – Платье твое я не таскала, но лишь позволила себе надеть его на несколько часов. Один или два шва, которые я должна была сделать, в одну минуту могут быть уничтожены, остальное же все осталось как было… Теобальд сегодня вечером хотел представить своего брата, и, очень естественно, я желала показаться в приличном виде новому родственнику. Мое коричневое шерстяное платье такого старомодного фасона, что я становлюсь в нем даже смешной – на нем заплаты, которые нельзя скрыть, а ты не дозволяешь, чтобы Теобальд подарил мне новое… Да, мама, ты забыла, что и ты когда?то была молода, или, скорее, ты не хочешь понять, что я чувствую и как страдаю! Как ты проводила свою юность и как я провожу свою!.. Когда я смотрю на твой портрет и белый атлас твоего платья сравниваю с моим блестящим туалетом, с этим драгоценным коричневым шерстяным платьем, то всегда спрашиваю себя: отчего же я изгнана из того рая, в котором ты, мама, жила и блистала?
Слепая простонала и закрыла лицо руками.
– Я также молода и происхожу из древнего благородного рода, – продолжала безжалостно дочь. – Я чувствую в себе призвание к подобной жизни, я хочу стоять высоко, наряду с сильными мира, а между тем обречена на скуку в этом жалком, темном углу!
Если госпожа фон Цвейфлинген имела намерение дать дочери своей воспитание, которое готовило бы ее к скромному, без притязаний, положению в обществе, вдали от тщеславия и удовольствий света, то очень неблагоразумно было с ее стороны оставлять без внимания противника, который энергично и неустанно противодействовал всем ее планам. Противником этим было зеркало. Эта сальная чадившая свеча, едва освещавшая и половину комнаты, тем не менее свой скудный свет бросала и на белое лицо девушки, на ее черные, украшенные белоснежными нарциссами локоны, шелковое платье, охватывавшее ее стройный стан, и гордое сознание красоты не могло довольствоваться участью одиноко цветущей лесной фиалки.
– Из всего нашего громадного родового состояния мне не осталось ни гроша, – продолжала Ютта, не обращая внимания на то, как несчастная слепая, закрыв лицо руками, неподвижно и безмолвно сидела перед нею. – Ты говоришь, что папа лишился его через несчастные обстоятельства и ложных друзей? Положим, этого нельзя изменить, но отчего же со стороны папы и твоей не было сделано ни шагу, чтобы позаботиться о том, как бы пристроить меня сообразно с моим положением?.. Несколько дней тому назад я прочитала, что дочери обедневших дворянских фамилий большей частью поступают в придворные дамы. – Это очень взволновало меня, мама, с тех пор я постоянно думаю о том, почему ты закрыла мне этот единственный путь к блестящей будущности?
– Так вот твое чистосердечно высказанное убеждение, Ютта! – произнесла почти беззвучно слепая, медленно, в изнеможении опуская на колени руки. Запальчивость, проявлявшаяся в начале разговора, как бы погасла, мгновенно уничтоженная неожиданным нравственным ударом. – И я воображала, что могу побороть кровь воспитанием! Вот они, все качества нашей касты, здесь, налицо: жажда наслаждений, высокомерие, стремление во всем не отставать от тех, кто выше нас поставлен, – и если своих средства не хватает для этого, откладывать в сторону гордость и становиться холопами, холопствовать ради того, чтобы обратить на себя луч милости коронованного светила, – просто?напросто начинать гоняться за подачками!.. Я не хотела видеть тебя в этой сфере, которую ты называешь раем, понимаешь ли? – продолжала она, входя в прежний запальчивый тон, опираясь на ручки кресла и желая как бы выпрямить свой сгорбленный стан. – Скорее я собственными руками заложила бы тебя камнями в этой развалине, чем допустила бы это… Со временем узнаешь почему. Позже, когда ты будешь старше и перестанешь питать такие ребячески неразумные мысли и когда меня уже не будет, Теобальд объяснит тебе причины…
Она в волнении откинулась назад и закрыла глаза.
Глава 3
В комнате воцарилась тишина. Ютта ничего не возражала уже более. Во взоре, который она бросила на больную, выражался испуг. Она принялась ходить взад и вперед; маленькие ножки неслышно скользили по расшатавшемуся полу, точно это был мягкий ковер; только злополучное шелковое платье шуршало и шелестело, задевая за мебель.
Поздние сухие листья срывало вихрем с древесных вершин, и, крутясь вместе с хлопьями снега, хлестали они в стекла. Заброшенные ставни окон хлопали и скрипели на ржавых петлях.
Вдруг среди воя вьюги послышался человеческий голос.
В летнюю пору Лесной дом не представлялся столь уединенным, как это можно было бы себе вообразить. Проезжая дорога, по которой вначале шел Зиверт, пролегала от него не более как в тридцати шагах к северу. Она довольно прямо тянулась по отлогому горному хребту в направлении к А., соединяясь ниже с шоссе, извивавшимся вдоль подошвы горы, – таким образом она сокращала расстояние между Нейнфельдом и городом, по крайней мере, на целые полчаса.
Это обстоятельство, а еще более приятная лесная прохлада были причиной, почему летом по ней ездили не одни возы с дровами. Зачастую виднелись на ней поселяне, знакомые Зиверта, приходившие к нему за поручениями, которые они исполняли для него в городе. В жаркие дни и экипажи сворачивали с пыльного шоссе – свежесть и тишина леса примиряли путешественников с канавами и рытвинами проселка.
Эта струя жизни, разливавшаяся по лесной чаще, охватывала собою и уединенное жилище: человеческий говор, веселое похлопывание бича, стук колес о сухую, при сухой погоде, почву – все это доносилось до ушей обитателей Лесного дома. Но немногие из приходящих и проезжающих по этой дороге знали, что там, в глубине леса, с незапамятных времен стоит охотничий замок – дико растущий кустарник и высокие густолиственные буки скрывали от его взора путника.
С наступлением зимы вся эта жизнь умолкала. Только грачи, издавна свившие себе гнезда на башнях, нарушали общее безмолвие пустынного места. Нередко на целую неделю их гвалт был единственным проявлением жизни около Лесного дома.
Понятно, что человеческий голос, неожиданно раздавшийся в такую позднюю пору, должен был крайне удивить обеих женщин. Слепая вышла из своего оцепенения. Ютта отворила окно. В эту минуту по ветру еще явственнее донесся вторичный зов; он раздавался с северной стороны и, очевидно, обращен был к освещенному окну комнаты Зиверта. Вскоре последовал ответ старого солдата, и после короткого обмена слов с незнакомцем слышно было, как он вышел из комнаты и направился к наружной двери.
Взяв свечу, Ютта вошла в галерею в ту минуту, когда Зиверт отворял тяжелую дверь, освещая фонарем своим царившую окрест темноту.
По узенькой тропинке, ведшей к дому, послышались твердые, поспешные шаги. Внизу лестницы они остановились, и вслед за тем легкие детские ножки засеменили по ступенькам.
– Кучера мои больны, – проговорил приятный, глубокий мужской голос, несколько дрожавший от усталости. – Я был принужден взять почтовых, и возница, по тупоумию своему, вздумал меня везти в этакую ужасную ночь по проселку, по тропинке, едва проходимой. Ветер затушил у нас фонари, экипаж мой завяз, и лошади выбились из сил. Нет ли здесь кого, кто бы остался при них, пока почтальон сбегает за другими, и можем ли мы сюда войти?
Ютта быстро подошла к двери.
Рукою она заслоняла огонь свечки, отчего весь свет сосредоточился на ее лице и стане.
Поистине вся эта картина – прелестная девушка на первом плане, затем глубокая, тонувшая во мраке галерея, портреты, оленьи головы, подобно каким?то туманным, странным видениям выделявшиеся на стенах, все это, оттененное красноватым блеском каминного пламени, в зимнюю бурную ночь невольно должно было пробудить в памяти стоявших там незнакомых людей те волшебные рассказы, где говорится о каких?нибудь заколдованных замках с витающими в них неземными существами.
Когда Ютта показалась в дверях, к ней подбежала маленькая шестилетняя девочка, смотревшая на нее с выражением любопытства и удивления. Ребенок был так закутан, что только и виден был тоненький носик и огромные раскрытые глаза. Весь костюм был в высшей степени элегантен и богат. На руках девочка держала какой?то, очевидно, дорогой для нее предмет, заботливо укутывая его капюшоном своего салопчика.
Затем из темноты выделилась мужская фигура; из?под темной, серебрившейся меховой опушки на шапке буквально светилось своей замечательной бледностью лицо, в высшей степени аристократическое. Поспешность, с которой господин поднимался по ступеням, кажется, должна была бы отразиться некоторым образом и на его чертах, но тем не менее они выражали полнейшую сдержанность в то время, когда он остановился перед Юттой. Он ввел ребенка в галерею и поклонился девушке с непринужденностью вполне светского человека. – Там, в экипаже, с беспокойством и боязнью, само собою разумеется, вполне извинительными, ждет моего возвращения дама, – произнес он с едва заметной улыбкой, которая вместе с необыкновенно звучным голосом производила неотразимое очарование. – Будьте так добры, позвольте просить вас позаботиться об этом ребенке, пока я вернусь и представлюсь вам по всем правилам приличия.
Вместо всякого ответа, грациозно положив руку на плечо девочки, Ютта повела ее в комнату, в то время как незнакомец в сопровождении Зиверта отправился к экипажу.
– Мама, я веду к тебе гость – миленькую маленькую девочку! – вскричала весело девушка. Казалось, от только что происшедшей неприятной сцены не осталось и следа.
В коротких словах она рассказала, что случилось в лесу.
– Так позаботься о чае, – произнесла, поднимаясь, госпожа фон Цвейфлинген.
Своими исхудалыми руками она стала поправлять складки убогого платья, приводить в порядок чепчик и волосы. Невзирая на полнейшее отчуждение от света, в ней было что?то бессознательно, помимо ее воли, сохранившееся от него и напоминавшее о нем, – именно в манере держаться. Этот гордо выпрямившийся тщедушный стан, эти бледные руки, не без грации скрещенные на груди, конечно, не напоминали собою того обворожительного оригинала, изображение которого висело над софой, но тем не менее вся фигура говорила, что и она когда?то была на своем месте в любимом великосветском салоне.
– Подойди сюда и дай мне руку, мое дитя, – проговорила она с выражением благосклонности, обращаясь в сторону, где стояла незнакомая девочка.
– Сию минуту, – отвечал ребенок, до сей поры с некоторой боязнью смотревший на пожилую женщину, – я только спущу на пол Пуса.
Она распахнула салопчик – на руках ее лежал ангорский кот. Животное было закутано в ватное розовое шелковое одеяло и, видимо, стремилось вырваться на свободу. Ютта помогла освободить его, и Пус осторожно был спущен на пол. Он стал изгибаться, расправляя свои члены, очевидно утомленный чересчур нежным попечением, согнул спину и жалобно замяукал.
– Срам какой, ты начинаешь выпрашивать милостыню, Пус? – с упреком проговорила девочка, бросая, однако же, взгляд на стол, где стоял горшок с молоком.
– Бедняжка Пус проголодался, – сказала, улыбаясь, Ютта. – Мы сейчас накормим его, только сперва надо раздеть его маленькую госпожу.
И она подошла к ребенку. Но девочка отодвинулась, отстраняя ее руки.
– Я сама могу это сделать, – произнесла она очень решительно. – Я терпеть не могу, когда Лена меня раздевает, но она всегда это делает, точно я кукла какая.
Сняв сама капор и салоп, она подала то и другое Ютте.
Девушка с видимым удовольствием провела рукою по собольей опушке салопа из дорогой шелковой материи. При этом она почувствовала как бы некоторый благоговейный страх, ибо, по всему было видно, это маленькое созданьице, которое теперь стояло перед нею, принадлежало к очень знатному семейству…
На самом деле ребенок мало походил на других детей. Несколько высокая для своих лет, девочка была очень узка в плечах и худощава донельзя; ее плоская, тонкая фигурка представлялась как бы сжатой дорогим зимним костюмом. Густые, очень светлые, почти бесцветные волосы были острижены, как у мальчика, и зачесаны назад. Эта незатейливая прическа придавала ее личику некоторую угловатость, и с первого взгляда девочка не могла понравиться. Но можно ли было устоять против этих глубоких, невинно смотрящих детских глаз! При взгляде на них забывались и худощавость, и угловатость этого маленького личика. Глаза были действительно прекрасны. Теперь они серьезно и задумчиво устремлены были на изможденное лицо старой слепой женщины. Девочка стояла возле нее и держала ее руку.
– Так ты, малютка, – говорила госпожа фон Цвейфлинген, привлекая ее ближе к себе, – очень любишь своего Пуса?
– Да, очень люблю, – подтвердила девочка. – Мне его подарила бабушка, и потому я люблю его больше всех кукол, которые дарит мне папа. Я кукол совсем не люблю, – прибавила она.
– Как, тебе не нравятся такие прекрасные игрушки?
– Нисколько. У кукол такие противные глаза! И это вечное одеванье и раздеванье надоедает мне ужасно. Я не хочу быть такой, как Лена, которая мучает меня новыми платьями. Лена сама очень любит наряжаться, я это очень хорошо знаю.
Госпожа фон Цвейфлинген с горькой улыбкой повернула голову в сторону, где шуршало платье Ютты. Она широко раскрыла потухшие глаза, как будто бы в этот момент могла увидеть лицо дочери, слегка покрасневшее под лишенным выражения взглядом матери.
– Ну да, конечно, Пус должен тебе более нравиться, – после небольшой паузы продолжала слепая, – он никогда не меняет своего туалета.
Девочка улыбнулась. Лицо ее мгновенно преобразилось – худенькие щечки округлились, маленький бледный ротик сделался прекрасен.
– О, он мне нравится еще больше потому, что он очень понятлив, – проговорила она. – Я рассказываю ему разные хорошенькие истории, которые я знаю и которые сама придумываю, а он лежит передо мною на подушке и смотрит на меня и мурлычет – он всегда так делает, когда ему что?нибудь нравится… Папа смеется надо мною, но ведь это правда! Пус знает мое имя.
– Э, да это замечательное животное! А как тебя зовут, малютка?
– Гизела. Так звали и мою покойную бабушку.
Слепая вздрогнула.
– Твою покойную бабушку, – повторила она, едва дыша от волнения. – Кто была твоя бабушка?
– Имперская графиня Фельдерн, – отвечала девочка с достоинством.
Видимо, имя это никогда не произносилось при ней иначе, как с самым глубоким уважением.
Госпожа фон Цвейфлинген быстро отдернула свою руку от руки дитяти, которую до этого она держала с нежностью.
– Графиня Фельдерн! – вскричала она. – Ха, ха, ха! Внучка графини Фельдерн под моей крышей!.. Спирт еще горит под чайником, Ютта?
– Да, мама, – отвечала девушка, глубоко испуганная.
В голосе и манерах слепой проглядывало точно помешательство.
– Так погаси его! – приказала она сурово.
– Но, мама…
– Погаси его, говорю тебе! – продолжала слепая с дикой стремительностью. Ютта повиновалась.
– Я погасила, – проговорила она едва слышно.
– Теперь унеси прочь хлеб и соль.
На этот раз девушка повиновалась без всякого возражения.
Маленькая Гизела сначала боязливо забилась в угол, но вскоре на личике ее появилось выражение смелости и негодования. Она ничего не сделала дурного, а ее ни с того ни с сего осмеливаются наказывать! В своем детском неведении она нисколько не подозревала, что в приказаниях слепой заключалась непримиримая ненависть, вражда и смерть, – она чувствовала лишь, что с нею обращаются так, как никогда, может быть, в жизни еще никто не обращался.
– Ты должен подождать, Пус, пока мы приедем в Аренсберг, – проговорила она, отнимая у кота молоко, поставленное Юттой на пол.
Затем она стала одеваться, и, когда Ютта вернулась в комнату, кот был уже у нее на руках.
– Я лучше уйду отсюда и буду просить папа оставить меня в карете с госпожой Гербек! – вскричала девочка, бросая вызывающий взгляд на слепую.
Но, казалось, слепая уже все забыла и не помышляет о случившемся. Еще неподвижнее сидела она, обратив голову к той двери, которая вела в галерею. Это была не живая фигура, а скорее статуя, отлитая из металла. Но чем безжизненнее была поза, тем оживленнее казалось ее лицо. Может быть, мужчина, который в эту минуту такой твердой и уверенной поступью шел по галерее и таким высокомерным тоном обращался к Зиверту, не переступил бы порога этой двери, если бы мог видеть эту женскую фигуру, каждая черта лица которой дышала непримиримой ненавистью и неумолимой местью, тем более сильными, что они уже много лет таились в глубине ее души.
Дверь отворилась.
На пороге появилась дама. Ее полное красивое лицо носило еще следы тревоги: оно было бледно. Наряд также несколько помялся. Но, как истая светская женщина, она самоуверенно вошла в комнату с обязательной улыбкой на устах.
Ютта поклонилась ей боязливо, при этом взор ее с беспокойством устремлен был на мать, не выходившую из неподвижности. На дворе свистела метель. Девушке казалось, точно целая грозовая туча должна была разразиться сейчас над нею.
Через отворенную дверь ей было видно, как незнакомый господин шел по галерее в сопровождении Зиверта, который держал фонарь. Никогда лицо старого солдата не выражало столько враждебности и неприязни, как в эту минуту. Несмотря на внутреннее беспокойство, она чувствовала неописуемую досаду на то, как старый слуга посмел корчить такую неучтивую, дерзкую мину перед столь важным и, по всему вероятию, знатным господином!
Господин вошел в комнату. Он взял за руку маленькую Гизелу, которая бросилась к нему навстречу. Не обращая внимания на то, что ребенок, видимо, о чем?то настоятельно просил его, он шел далее, желая, наконец, представиться по всем правилам приличия.
Но в эту минуту слепая, как бы наэлектризованная, быстро поднялась с кресла. Она протянула руку, словно желая отстранить от себя приближавшегося гостя.
Вырвавшиеся наружу столь долго сдерживаемые чувства, придавая этому немощному, почти полуживому существу кажущуюся самостоятельность, облекали ее в то же время какой?то сверхъестественностью.
– Ни шагу более, барон Флери! – произнесла она повелительным тоном. – Известно ли вам, чей порог вы переступили, и должна ли я вам объяснить, что в этом доме места для вас нет?!
И этот старческий голос способен был на такую выразительность! Неописуемое, уничтожающее презрение звучало в каждом слове этой речи.
Видимо пораженный, барон остановился, как бы прикованный к месту, но это было только мгновение – он оставил руку ребенка и твердыми шагами подошел к больной. Утомившись и не будучи в состоянии более держаться на ногах, она бессильно опустилась в кресло, но энергичное выражение не покидало ее лица и распростертая рука так же повелительно указывала на дверь.
– Уходите, уходите! – вскричала она поспешно. – Вам стоит только перешагнуть порог, и вы будете на собственной земле… Ваши лесные сторожа наложили бы на меня штраф за нарушение прав собственности, если б я захотела попользоваться клочком травы, растущей около этих старых стен; но крыша, под которой я нахожусь, моя – неоспоримо моя, и отсюда, по крайней мере, я имею право выгнать вас!
Барон Флери спокойно обратился к пришедшей с ним даме, в недоумении стоявшей у дверей.
– Уведите Гизелу, госпожа фон Гербек, – сказал он самым равнодушным тоном.
Эта полнейшая сдержанность казалась еще разительнее сравнительно с взволнованным состоянием слепой. Конечно, он был мужчиной и ему не привыкать было сохранять свое олимпийское спокойствие. Впалые глаза, полузакрытые длинными ресницами, не давали возможности уловить их выражение. В мускулах его лица было мало подвижности.
Госпожа фон Гербек взяла за руку Гизелу. В неплотно запертую дверь виднелось яркое пламя камина, топившегося в галерее. Барон Флери посмотрел вслед гувернантке, выходившей с ребенком; дверь за ними плотно затворилась.
– Кто обо мне вспомнил, когда я ночью, как нищая, выброшена была на улицу? – снова начала больная, когда шаги в галерее затихли. – Испытали ли вы когда?нибудь, барон Флери, что значит страдать молча, почти половину жизни носить на себе бесстрастную маску, между тем как гнев и гордость гложут сердце, носить в себе смерть и не умереть? Испытали ли вы когда?нибудь, как жестокая рука лишает вас сокровища, с которым связана вся ваша жизнь? Испытали ли вы когда?нибудь, как любимый человек с убийственным равнодушием отворачивается от вас и отдает свои ласки другому, ненавистному вам существу? Случалось ли вам видеть, как когда?то гордый и сильный мужчина пропадает шаг за шагом и становится игрушкой в бесчестных руках, а всякую вашу попытку спасти его считает оскорблением и обращается с вами, как со своим злейшим врагом? Сознаю, все это бесплодные вопросы – что может мне ответить барон Флери, для которого добродетель и честь не существуют! – перебила она себя с невыразимой горечью, отворачиваясь от неподвижно стоявшего перед ней барона.
Сложив руки, он терпеливо, снисходительно или, лучше сказать, с сознанием права сильного смотрел на слепую; длинные ресницы закрывали глаза, образуя резкую тень на впалых щеках. Такой гладкий и чистый лоб мог иметь лишь человек или с самой чистой совестью, или совершенный подлец.
– Но вот это, вероятно, будет доступно его превосходительству, – продолжала госпожа Цвейфлинген, с невыразимой иронией возвышая голос. – Испытали ли вы, что должен чувствовать человек, стоящий на высших ступенях общества, среди блеска и великолепия, когда он вдруг низвергается в бедность и нищету? Род Флери даже сложил об этом песню… Ха, ха, ха!.. Франция постоянно думает, что Германия обязана плясать под ее дудку! Поэтому?то, конечно, ваш батюшка, бежавший пэр Франции, в заключение всего взялся за скрипку и заставил под нее плясать немецкую молодежь, чтобы этим зарабатывать себе пропитание!
Стрела попала в цель – это было больное место в неуязвимой броне противника. На мраморной белизне лба обозначились глубокие морщины. Неподвижно сложенные руки задрожали; правая с угрожающим жестом протянулась над головой больной. Но в эту минуту на левую оперлись две маленькие нежные ручки.
До сих пор Ютта, оцепеневшая от ужаса, стояла в нише окна. Человек этот, имевший столь царственный и непоколебимо спокойный вид, был не кто иной, как могущественный министр страны, перед которым все трепетало. Она его еще никогда не видела, но ей было хорошо известно, что один штрих его пера, одно его слово могли осчастливить или погубить не одну тысячу людей; точно так же и участь единичных личностей была в его руках. Действительно, конституция государства в его энергичных и самовластных руках не имела никакого значения – он был самодержавен.
И этого человека старая слепая женщина гнала со своего порога, осыпая укорами и насмешками, которые принимал он со спокойствием и величием.
Все чувства молодой девушки возмущены были поступком матери; ей не приходило в голову, насколько могла быть права старуха в своих упреках: для известных натур могущественный всегда прав; они громят всякий протест, громят его нередко с большим ожесточением, чем самую несправедливость. Что такие натуры составляют большинство, сама история является доказательством этого – терпенье народов достигало иногда невозможных границ.
К таким натурам принадлежала и молодая девушка. Она выскользнула из своего угла и схватила руку оскорбленного вельможи.
Как обольстительна была эта юная красавица, когда, откинув назад идеально прекрасную головку, с выражением беспокойства смотрела она на могущественного министра и, взяв его руку, прижала ее к своей груди!
Поднятая рука министра опустилась, он повернул голову и бросил взгляд на молодую девушку. Взгляд этот пронзил огненным потоком ее сердце. Этот на минуту сверкнувший взор с каким?то загадочным выражением остановился на вспыхнувшем лице Ютты. Барон Флери улыбнулся и медленно поднес маленькие дрожащие ручки к своим губам.
А рядом сидела слепая мать и, затаив дыханье, ждала едкого ответа, ответа, из которого она могла бы заключить, что смертельный враг ее уязвлен. Но напрасно: не сказано было ни единого слова. А между тем он стоял возле нее, она слышала его движения, даже чувствовала его дыхание. Это упорное, презрительное молчание было для нее невыносимо.
– Да, да, Флери обладают могуществом, в их руках судьбы людей! – снова начала она с горькой усмешкой. – Наступит время, история отнесет их к тем людям, которые пинком и плетью вели французский народ постепенно к революции… И вот, изощрив над ним всю свою жестокость, все свое неограниченное своевольство, они трусливо бегут за Рейн! Последние убогие крохи придворного витийства и учености изгнаны из Версаля, и на них кладут запреты для того, чтобы натравить соседний народ на родную нацию! Чужие руки должны связать и опутать жертву для того, чтобы она снова терпеливо и без сопротивления лежала у ног своего владыки! Позор вам, благородные патриоты!
– Оставим это, милостивая государыня, – спокойно прервал ее министр. – Вам было время и досуг мотивировать как угодно вашу личную ненависть ко мне, но не оскорбляйте мою ни в чем не повинную фамилию… Соблаговолите объяснить мне, какое право имеете вы обращаться ко мне с подобной речью?
– Боже справедливый, и он еще спрашивает! – воскликнула больная. – Как будто не его рука помогла столкнуть несчастного в пропасть!
Она, видимо, старалась победить свое волнение. Облегчив грудь глубоким вздохом, она вторично распрямила худощавый стан и, торжественно подняв руку, продолжала:
– Станете ли вы отрицать, что имение Цвейфлингенов было растрачено за столом, где его превосходительство, теперешний министр, когда?то председательствовал?.. Станете ли вы отрицать, что наемный слуга барона Флери приносил секретно любовные записочки графини Фельдерн несчастному, когда он, поддаваясь мольбам и видя страдания своей бедной жены, решался покончить с обманом и позором? Станете ли вы отрицать, что он потому так рано должен был искать смерти, что потерял честь и слишком поздно узнал своего обольстителя! Отрицаете ли вы все это? Тысячи трусливых душ вас оправдают, но я буду обвинять вас до последнего издыхания! Справедливость существует…
Бледные щеки министра как будто покрылись еще большей бледностью, но это было единственным признаком его внутреннего волнения. Ресницы снова опустились на глаза и сделали их непроницаемыми; гибкими, тонкими пальцами он водил по черной блестящей бороде, и вся его осанка как бы напоминала о слушании утомительного делового донесения просителя, а не об ужасном обвинении, возводимом на него.
– Вы больны, милостивая государыня, – сказал он мягко, обращаясь как бы к ребенку. – Это положение извиняет в моих глазах ваше непомерное ожесточение. Я буду стараться забыть об этом… Разумеется, я очень легко мог бы отклонить все ваши обвинения и многое приписать истинному источнику – именно безмерной женской ревности.
Последние слова произнесены были с особым выражением, причем обыкновенно звучный голос его сделался острым, как кинжал.
– Но я не желаю входить в некоторые подробности в присутствии этой молодой дамы, не желаю раскрывать такие вещи, которые жестоко оскорбили бы ее девственные чувства.
Больная засмеялась горько и насмешливо.
– О, как это трогательно! – вскричала она. – Надо только удивляться этой блестящей дипломатической выходке! Но не стесняйтесь, пожалуйста, говорите, – что бы вы ни сказали, все будет как нельзя более кстати: слова ваши бросают должный свет на ту сферу, которую эта молодая девушка только что в своих детских мечтаниях называла раем… Раем – этот лживый покров, скрывающий бездонную пропасть!.. Весь остаток своей силы и энергии употребила я на то, чтобы удалить из этой сферы мое дитя, для собственного ее счастья, а также и в отмщение за себя. Последняя из Цвейфлингенов вступает в мещанскую семью, где, я знаю, будут ее носить на руках, а свет скажет: «Глядите, как меркнет блеск аристократического имени, когда ему не достает богатства!» Желанное явление, которым подтверждаются новейшие воззрения, камень за камнем разрушающее основание аристократизма!
Голос ее прервался.
– Уходите отсюда, – произнесла она в изнеможении. – Это был бы самый горький конец моей изломанной жизни, если бы мне суждено было умереть в вашем присутствии!
Минуту министр оставался неподвижен.
На лице больной уже лежала печать смерти. В то время как Ютта дрожащими руками подносила лекарство умирающей, барон Флери тихо приблизился к двери. На пороге он остановился и повернул голову к девушке. Глаза их встретились – ложка выпала из трепещущих рук, и темные капли лекарства пролились на белую скатерть…
Барон усмехнулся и исчез за дверью. Неслышными шагами прошел он галерею. Но не к входной двери направился он, с порога которой так безжалостно гнала его владетельница Лесного дома.
Буря выла еще ужаснее и потрясала массивную дубовую дверь, как бы требуя жертвы, которую она могла бы подбросить к вершинам древесных исполинов…
В жарко натопленной комнате Зиверта министр с гувернанткой и ребенком стал ожидать возвращения старого солдата, остававшегося при лошадях.
Вскоре старик возвратился и с ним несколько лакеев из Аренсберга. Их большие фонари осветили узкую лесную тропинку, завязший экипаж был вытащен – и минут пять спустя негостеприимный дом стоял по?прежнему пустынен и одинок среди стонущего леса.
Около полуночи Зиверт с одним из чернорабочих шел в местечко Грейнсфельд за доктором. Буря стихла, в лесу царствовала мертвая тишина.
В жилище горного мастера молодой Бертольд Эргардт метался в лихорадочном бреду. Он отталкивал от себя бледные, очаровательные, с умоляющим жестом протянутые к нему руки графини Фельдерн, которая лежала перед ним с распущенными длинными золотистыми волосами, с тонкой струйкой крови, ниспускавшейся с виска по белоснежной шее на грудь.
В Лесном доме все было безмолвно. Последняя борьба, борьба жизни со смертью, совершалась здесь тихо. Похолодевшие руки больной недвижно лежали на коленях; едва слышное дыхание становилось все реже и реже; веки слегка подергивались судорогой, но на губах покоилась ясная улыбка, выражавшая полнейшее внутреннее удовлетворение…
Ютта припала к коленям умиравшей. В ее темных локонах все еще держались теперь увядшие нарциссы, а нарядное голубое платье расстилалось в беспорядке по грубому полу. Тихий шелест шелка приводил в ужас дочь, напоминая ей последнюю скорбь материнского сердца.
Глава 4
На небольшом, окруженном полуразвалившейся оградой, скромном нейнфельдском кладбище погребены были бренные останки госпожи фон Цвейфлинген.
Здесь, конечно, не видно ни одной из поросших мхом эмблем, которые встречаем мы в аристократических склепах и которые своим каменным языком говорят нам о вечных преимуществах и непреодолимых преградах между сынами человеческими. Снежный саван окутывал кладбище. Кое?где, нарушая общее однообразие, торчали черные деревянные кресты. Летом этот унылый вид исчезал. Насекомые жужжали в траве, резвые бабочки порхали по кустарникам. Солнечный луч усердно вызывал жизнь на этом поле смерти, и вся эта жизнь была несравненно величественнее, чем те мавзолеи, где господствуют лишь тлен и гниль…
Может быть, эта мысль, а тем более жгучая ненависть к своему сословию были причиной, почему госпожа фон Цвейфлинген избрала эту пустынную могилу.
В тот самый день, когда земля скрыла исстрадавшееся сердце слепой матери, дочь, покинув Лесной дом, поселилась временно у нейнфельдского пастора. Отсюда она должна была вступить молодой хозяйкой в жилище горного мастера.
Как ни тяжки были молодому человеку переживаемые им дни – брат его почти безнадежно лежал в горячке, женщины, которая матерински была расположена к нему, уже не было, – теперь, идя лесом с любимой девушкой, он был невыразимо счастлив, забывая все свое горе и заботы. Это существо, шедшее с ним рука об руку, существо, которое он боготворил, в целом свете никого не имело, кроме него. И если теперь она идет молча, с опущенными глазами, тихая и сосредоточенная, какою он никогда ее не видывал, если эта прежде столь подвижная рука теперь как мраморная лежит на его руке, – все это, столь новое и чуждое этому существу, в настоящее время имеет свою причину, которая окружает его еще новым ореолом. Причина эта – скорбь об умершей матери…
Он знал, что эту безмолвную, бесслезную скорбь выплачет она на его сердце, что юная душа оживет снова во всей своей прежней свежести и живости, чарующих его молчаливую, серьезную натуру. О, как он будет ее лелеять и охранять!.. Счастье его казалось ему таким же верным, как то, что теперь светит над ним солнце. Не заверяла ли его несчетно раз Ютта, что «любит его бесконечно», и не радовалась ли она так по?детски, что будет хозяйкой распоряжаться в его доме?
Пасторша приготовила для девушки единственную, в которой можно было жить, комнатку в верхнем этаже старинного, очень обветшалого пасторского дома. Немного мебели и фортепиано перенесены были сюда из Лесного дома. Этот скромный духовный пастырь убогой тюрингенской деревушки, будучи еще кандидатом, полюбил такую же бедную девушку, как и он сам, и взял первое представившееся горячо желанное пасторское место, чтобы жениться.
Драгоценная мебель так же мало была на своем месте и здесь, как и в мрачной башне. Стены маленькой незатейливой комнатки были просто?напросто выбелены известью. Вдоль их, переплетаясь между собой, вились нежные, длинные нити барвинка. Каждый луч зимнего солнца, падавший в одно из угловых окон, золотистыми полосами ложился на зеленые ветви живого украшения стен и на рассохшиеся половицы ветхого пола.
Живописный лесной ландшафт, расстилавшийся перед окнами, скрыт был льдом и снегом; роскошная зеленая листва летом ограничивала его, а теперь взор терялся далеко в пространстве. Таким образом, зимой из этого окна можно было видеть и замок Аренсберг.
Лишь только наступали сумерки, это необитаемое уже столько лет барское жилище освещалось, и с приближением ночи окна его блистали все более и более. В длинных коридорах горели массивные, с матовыми шарами, лампы, привешенные к потолку, своим белым светом освещавшие все залы и закоулки, – при жизни самого принца Генриха не видывали такого освещения. Благоухание разливалось по всему старому замку сверху донизу, на лестницах и на площадках разостланы были мягкие теплые ковры. Вся оранжерея, высокие померанцевые, миртовые и олеандровые деревья, некогда гордость принца Генриха и предмет его нежных попечений, перенесены были из теплицы в замок и, как лакеи, стояли теперь на ступенях лестниц и в передних, пробуждая собой воспоминание о летней зелени и теплоте, – и все это ради крошечной, слабенькой, избалованной девочки!
Барон Флери берег маленькую Гизелу как зеницу ока; можно было подумать, что все его чувства и мысли направлены были на это нежное созданьице и на попечение о нем.
Свет придавал всем этим нежным заботам тем большую цену, что Гизела была не его собственное дитя.
Как нам уже известно, графиня Фельдерн имела единственную дочь, которая в первом браке была замужем за графом Штурмом. Носились слухи, что этот брак, заключенный по взаимному пламенному влечению, совершен был против воли графини Фельдерн. Но известно, что молодая графиня впоследствии была несчастна, и когда после десятилетнего замужества супруг ее, упав с лошади, умер, вдова не особенно была огорчена этой потерей. У нее было трое детей, но в живых осталась только Гизела.
Около того времени, как граф Штурм отошел к праотцам, барон Флери сделан был министром.
Люди говорили, что его превосходительство еще при жизни супруги питал тайную склонность к прекрасной графине. Слухи эти впоследствии вполне оправдались, когда барон по истечении траура предложил вдове свою руку, которая и принята была ею.
Злые языки шептали, что предпочтению этому он обязан был не столько своими личными качествами, сколько влиянию своему при дворе в А., помощью которого графиня Фельдерн и хотела воспользоваться, чтобы снова получить доступ к придворной жизни. Ибо как фаворитка принца Генриха и затем наследница его она долгое время принуждена была жить в опале и изгнании. Через вторичное замужество дочери она успешно достигала того, к чему так стремилась. Время появления ее при дворе льстецы еще не так давно называли «небесным».
Невиданную роскошь и блеск принесла она с собою. Полными руками расточала она свои богатства, как бы желая укрепить колеблющуюся под ее ногами почву.
Но недолго продолжались все эти триумфы.
Баронесса Флери, разрешившись мертвым мальчиком, умерла, а три года спустя отправилась за нею и графиня Фельдерн. «Легко и спокойно, как праведница», – говорила людская молва, а с ней вместе и Зиверт. Она была больна только два дня, была соборована как истинная католичка и затем почила с почти детской, невинной улыбкой на устах. Отовсюду приходил народ полюбоваться этим ангельски прекрасным восковым ликом, покоившимся в гробу, – женщиной, столь много грешившей, но никогда не отвечавшей за свои грехи…
Пятилетняя осиротевшая графиня Гизела осталась у своего отчима и была единственной наследницей всех богатств графини Фельдерн, за исключением Аренсберга, еще задолго переставшего быть собственностью графини. Ко всеобщему изумлению, едва вступив во владение наследством принца Генриха, замок этот, вместе с принадлежащей к нему землей, лесом и полями, она немедля продала барону Флери, человеку в ту пору совершенно ей постороннему, за тридцать талеров, под предлогом, что это место, так сказать, одр смерти ее друга, пробуждает в ней мучительные воспоминания.
Немало толков и подсмеиваний породила эта внезапная продажа.
Итак, знатное дитя было гостем у своего отчима в замке Аренсберг.
Предсказание Зиверта, однако, не оправдалось: пробыв всего два дня, министр уехал к князю, который в то время находился в своем охотничьем замке, вдали от А.
Ютта более не видалась с министром. На другой день после кончины слепой госпожа фон Гербек отправилась в Лесной дом с выражением соболезнования от имени его превосходительства и с букетом, который при погребении лежал у ног покойницы. Могло ли когда прийти на ум несчастной страдалицы, что с ней в могилу пойдет хоть что?то, принадлежащее этому человеку!
Между тем наступило Рождество.
В ледяном панцире и в тяжелой снежной мантии, заволакивающей окна убогих крестьянских изб, посетило оно Тюрингенский лес; скованные морозом слезы висели на его ресницах, могучее дыхание гнало теплоту, голову его венчали ели и, блистая королевской короной, зеленели над его добрыми очами.
В доме пастора готовилась елка.
Нелегкая эта была задача для матери – семь человек детей, и каждого она желала видеть счастливым под рождественским деревом.
Настал день, когда понадобились все с таким трудом скопленные гроши и пфенниги, возвратившиеся обратно домой в виде различных пакетов.
В то время как мать хлопотала около елки, белокурые детские головки плотно, одна к другой, припали к замочной скважине запертой двери, стараясь увидеть что?нибудь в той обетованной комнате. Однако усилия их были напрасны. Надо было запасаться терпением.
До уединенной комнатки верхнего этажа не долетали и не касались ни детские голоса, ни хозяйственные хлопоты. Ютта спускалась только к обеду.
Новое шерстяное траурное платье с креповым рюшем вокруг ворота и длинным шлейфом, волочащимся по полу, придавало всей фигуре, внезапно принявшей повелительные и самоуверенные движения, вид спокойного величия. Бледное лицо и почти постоянно сжатые губы только увеличивали впечатление: восхитительных ямочек на щеках, появлявшихся при улыбке девушки, никто из обитателей пасторского дома не видал.
А тщательность, с которой нежные, блестящие белизной руки поднимали шлейф при входе в столовую, видимо, относилась не только к песку, рассыпанному по полу, но и к детям. Движение, конечно, было грациозно, но в то же время очень определенно выражало: «Пожалуйста подальше!» Дети несколько робко посматривали на безмолвную строгую гостью за столом; всякое бряканье ложек и вилок стихало, и подвижные язычки смолкали.
Пастор уважал «глубокую, безмолвную печаль» Ютты, он относился к ней с большой предупредительностью и почтением.
Но глаза женщины?матери гораздо зорче – пасторша нередко наблюдала эту душевную скорбь юной аристократки. Но не это чувство подмечала она – то было скорее презрение, холодное пренебрежение к ее мещанской семье. «Тихая, безмолвная печаль» не мешала, однако, бренчать целыми днями на фортепиано, которое перенесено было из Лесного дома. Тем не менее добрая честная женщина всячески старалась объяснить в лучшую сторону горделивое поведение девушки. Все это она оправдывала отсутствием жениха.
Молодой Бертольд находился в опасном положении. Хотя Зиверт и заменял брата у постели больного, оставаясь день и ночь безотлучно в доме смотрителя, тем не менее горный мастер лишен был удовольствия видеться с невестой, ибо осторожность требовала отказаться от посещений пасторского дома из боязни заразы.
Лишь однажды он решился отправиться туда, и то переодевшись на заводе и пробегавши целый час на воздухе.
Напротив, госпожа фон Гербек в сопровождении графского дитяти почти ежедневно навещала молодую девушку.
Она никогда не спускалась в нижний этаж, позволяя изредка Гизеле оставаться на некоторое время в детской, сама же проводила это время в бесконечной болтовне с Юттой.
Наступил вечер сочельника.
Ясный морозный день сменялся сумерками. Было очень холодно, в воздухе стояли клубы пара, подмерзший снег хрустел под ногами.
Несмотря на стужу, госпожа фон Гербек с маленькой графиней приехала в пасторат – Гизела хотела видеть зажженную елку; ее елка назначалась на завтрашний день.
В маленькой железной печке угловой комнатки наверху пылал яркий огонек. Тонкий душистый курительный порошок тлел на нагретой пластинке платины, и его благовонное облачко смешивалось с сильным ароматом, разливавшимся от стоящего на столе маленького кофейника.
Огонь еще не был зажжен. Плотные ситцевые оконные занавеси пропускали последний неопределенный отблеск угасавшего дня, узкими, бледными полосами скользивший по полу, в то время как глубокая тень лежала уже на стенах. В неплотно притворенную заслонку печки пламя разливало свой красноватый свет на элегантное фортепиано и на висевший над ним портрет умершей.
Уголок этот был очень уютен и комфортабелен.
Маленькая Гизела стояла на коленях на стуле у окна. Она не могла спуститься в детскую, потому что детей еще мыли и одевали. Взор ее следил за голодным вороном, который летал вокруг ближнего грушевого дерева, смахивая снег своими распущенными крыльями с его ветвей.
На маленьком невзрачном личике не заметно было того поверхностного интереса, с которым обыкновенно дети смотрят на быстрые движения птицы.
В этой молодой головке, несомненно, зрело семя разумного мышления, той сосредоточенности, которая со страстным упорством добивается причины и исходной точки всех явлений, отрываясь в этот момент от внешнего мира. Ребенок, погруженный в размышления, вероятно, не слушал разговора обеих дам, болтающих за его спиной.
Госпожа фон Гербек обвила рукой стройную талию Ютты. Женщина эта, несмотря на свои довольно пожилые лета, была еще очень красива. Именно это подтверждалось в настоящую минуту, когда она сидела рядом с несравненно прекрасной девушкой. Для тонкого знатока женской красоты, конечно, эти формы могли показаться слишком колоссальными и роскошными, и иная чуткая, чистая женщина инстинктивно могла бы отвернуться от этих странно улыбающихся и в то же время заплывших глаз. Но все же это обилие тела представлялось столь здоровым и розово?свежим, а большие, несколько навыкате глаза в известные минуты были в состоянии бросать такие строгие и внушительные взгляды, что все эту женщину находили прекрасной, респектабельной, любезной.
Она была бездетной вдовой одного бедного офицера из старинной фамилии и еще при жизни графини Фельдерн поступила в дом министра в качестве воспитательницы Гизелы. Вечно безусловно готовая к выполнению всех желаний бабушки относительно воспитываемого ею ребенка, она избрана была на смертном одре графиней Фельдерн как «вполне подходящая» продолжать дела воспитания.
И вот, в элегантном темном шелковом платье, причесанная по моде и со вкусом искусными руками камеристки, она рассказывала различные эпизоды из великосветской жизни, а молодое существо, сидевшее с ней рядом, с наслаждением внимало речам салонной дамы: выражения «глубокого безмолвного горя» как бы не существовало на молодом лице. Это была прежняя, жаждущая светских удовольствий девушка, которую мы видели с нарциссами в волосах, в подвенечном материнском платье, любующейся собой перед зеркалом: блестящие темные глаза не отрывались от алых говорливых уст рассказчицы, рисующей одну пленительную картину за другой.
Мысли девушки также далеко витали от этой узенькой комнатки, как и мысли задумчивой девочки, сидевшей у окна.
За дверью послышалось какое?то шуршанье. Ютта обернулась с гневом во взоре.
Старая Розамунда, поставив на пол чадившую кухонную лампу, с истинным усердием посыпая переднюю и лестницу песком, завершала этим свои рождественские работы. Она слишком хорошо знала ножки «маленьких пандур», чтобы сомневаться, что они не замедлят затоптать только что вымытый пол, потому с невероятной пылкостью бросала целые залпы предохранительного песка.
Затем в передней послышались быстрые шаги и в комнату вошла пасторша.
В одной руке она держала зажженную свечу, а в другой – своего меньшого мальчика, закутанного в толстый шерстяной платок. Эта высокая сильная женщина, с ярким румянцем на щеках, с энергичными движениями была олицетворением напряженной деятельности.
Любезно поздоровавшись, она поставила свечу на фортепиано, когда обе дамы заслонили себе глаза рукой.
– Сегодня немалая возня в старом пасторате, не правда ли, фрейлейн Ютта? – сказала она, улыбаясь и показывая при этом два ряда здоровых крепких зубов. – Ну, завтра вы этого ничего не услышите, дом совсем опустеет. Муж мой будет говорить проповедь в Грейнсфельде, и моя маленькая дикая команда отправляется с ним туда же – старая тетка Редер пригласила всех на чашку кофе… Фрейлейн Ютта, я желала бы оставить у вас на полчаса свое ненаглядное дитятко – Розамунде некогда, и она будет ворчать, если оторвать ее от работы, а из детей никого не усадишь сегодня на место: они бегают от одной двери к другой, посматривают на небо, скоро ли стемнеет, и потому маленький плутишка, который уже начинает подниматься на ноги, рискует раз десять расшибить себе нос. А мне на сегодняшний вечер и десяти рук было бы мало – дети уже с нетерпением ждут звонка, а у меня еще елка не совсем готова.
Она раскутала ребенка и посадила его на колени к молодой девушке.
– Ну вот, сиди смирно! – сказала она, своею мускулистой сильной рукой приглаживая кудрявую головку. – Он только сейчас из ванны и чист и свеж, как ореховое ядрышко. Он не будет вас много беспокоить – это мое самое смирное дитя.
Вооружаясь сухарем, который мать вложила ему в ручонку, ребенок начал действовать своими четырьмя недавно прорезавшимися зубиками.
Пасторша направилась к двери.
Но эти большие, голубые, ясные глаза в хозяйстве обладали зоркостью полководца: они даже в самую спешную минуту останавливались на какой?нибудь противозаконности, и теперь их взгляд упал на ветвь барвинка, ниспадавшую на портрет госпожи фон Цвейфлинген и освещенную принесенной сальною свечой, – полузасохшие молодые побеги висели на своем стебле.
– О, бедняжка! – произнесла она с состраданием, взяв стоявший тут наполненный водою графин и поливая засохшую, как камень, землю.
– Фрейлейн Ютта, – обратилась она приветливо к девушке, – позаботьтесь о моем барвинке! Когда мы были еще молодые и у мужа моего не было ни гроша в кармане, чтобы одарить меня чем?нибудь в день моего рождения, он в этот день рано утром ушел в лес и принес мне оттуда это растение, и первый раз в моей жизни я видела его тогда плачущим… Признаться вам, жалко мне было расставаться с ним, – продолжала она, приводя в порядок спутавшиеся ветви, – но обои не на что нам купить, да и общине не из чего за них платить, а голыми известковыми стенами мне никак не хотелось окружить свою милую гостью.
При последних словах лицо ее приняло снова ясное, спокойное выражение. Поставив свечу на стол перед софой и кивнув своему мальчику, она поспешно оставила комнату.
Когда дверь за нею затворилась, госпожа фон Гербек, как бы онемев от изумления, поглядела на лицо Ютты, затем разразилась звонким насмешливым хохотом.
– Ну, могу сказать, наивность, какой поискать! – вскричала она и, всплеснув руками, откинулась на подушку дивана. – Боже, что за классическое теперь у вас лицо, мое сердце! И как это божественно вообразить вас, няньчущуюся с ребятами!.. Я просто умру со смеху!
Ютте никогда не случалось держать ребенка, а маленькой девочкой ей редко удавалось играть со своими сверстниками.
Когда начались неприятности между родителями, ей было всего два года, и она тогда же была отдана на воспитание к одной вдове, ибо ужасные отношения в родительском доме не должны были ее касаться. Лишь незадолго до смерти отца мать взяла ее обратно к себе, и, таким образом, большую часть своего детства она провела исключительно со старой женщиной, задача которой состояла в том, чтобы воспитать ее к уединенной, замкнутой жизни.
Да и помимо этого обстоятельства девушке природа точно отказала в инстинкте, который появляется у всякой другой женщины. Она откинулась назад, опустила руки и с выражением неудовольствия смотрела на мальчика. Внутренне она была озлоблена выраженным требованием – глаза смотрели гневно и мелкие белые зубы кусали нижнюю губу.
– Ах! И как ведь отлично этот почтенный полевой цветок умеет выражаться! Какая великодушная жертва принесена была в этом благочестивом доме «милой гостье», – продолжала госпожа фон Гербек с прежним смехом. – Боже, этакая коренастая, доморощенная особа – и туда же, сентиментальничает с цветочками! На вашем месте я бы отправила эти горшки туда, откуда их принес расстроенный супруг, в противном случае вы будете отвечать за каждый высохший листок, и советую вам сделать это немедля, если у вас нет охоты поливать драгоценную оранжерею госпожи пасторши.
Маленькая Гизела наблюдала внимательно за всем происходящим.
Она встала со стула и свои большие умные глаза с волнением устремила на лицо гувернантки, в то время как яркий румянец выступил на ее бледных матовых щеках.
– Цветы останутся здесь, – проговорила она довольно быстро. – Я не хочу, чтобы их выбрасывали, мне их жалко.
Голос и жесты девочки ясно говорили, что она привыкла повелевать. Госпожа фон Гербек обняла ее и с нежностью поцеловала в лоб.
– Нет?нет, – заговорила она, – с цветами ничего не сделают, если так хочет моя милочка…
Между тем Фрицхен, грызя свой сухарь, вздумал попотчевать Ютту: отняв лакомство ото рта неумытой рукой, он ткнул им в губы девушки, которая с ужасом отшатнулась. Маленькая графиня принялась громко хохотать – момент показался ей в высшей степени забавным.
– Но, Гизела, дитя мое, как можешь ты так смеяться? – с мягкостью выговаривала госпожа фон Гербек. – Разве ты не видишь, что бедная фрейлейн фон Цвейфлинген испугана до смерти этим маленьким пентюхом?.. И в самом деле, с какой стати мы должны прерывать нашу приятную беседу? – продолжала она с сердцем. – Постойте, я сейчас устрою дело.
Поднявшись, она взяла ребенка с колен Ютты и посадила его на пол.
В ту же минуту Гизела подсела к мальчику и свои худенькие ручки положила ему на плечи. Она уже больше не смеялась. На лице ее выражалось и сожаление к ребенку, и упорство относительно гувернантки.
– Ну, ладно, дитя мое, прошу тебя, оставь этого грязного мальчишку, – сказала госпожа фон Гербек. Маленькая графиня ничего не отвечала, но взгляд, который она бросила на гувернантку, сверкал гневом.
Надо сознаться, немало трудностей представляло положение гувернантки при подобном ребенке, но, как было уже сказано, она была найдена «вполне подходящей» воспитательницей для маленькой графини и отлично знала, как себе помочь в затруднительных случаях.
– Как, моя милочка не хочет слушаться? – проговорила она почти со страстной нежностью. – Ну что ж, останься, сиди, если это тебе так приятно!.. Но что бы сказал папа, если бы свою маленькую имперскую графиню Штурм увидел сидящей, как какая?нибудь нянька, на полу, рядом с этим грязным ребенком! Или если бы увидела бабушка!.. Помнишь ли, ангельчик мой, как она сердилась и бранилась, когда в прошлом году по твоей просьбе жена егеря Шмидта посадила тебе на колени своего ребенка?.. Милая, дорогая бабушка умерла, но ты знаешь, что с неба она может видеть, что делает ее маленькая Гизела. В эту минуту она, верно, очень огорчена, потому что ты поступаешь так неприлично!
«Неприлично!» Это была заколдованная формула, посредством которой управляли душой ребенка. Он был еще слишком мал, чтобы проникнуться аристократическим элементом, но «это неприлично», так часто употребляемое «милой, дорогой бабушкой», оказалось вполне достаточным, ибо сама бабушка представлялась маленькой внучке идеалом всего высокого и непогрешимого.
Брови еще были гневно сдвинуты, глаза с участием обращены на сидевшего на полу мальчика, но когда гувернантка своими мягкими белыми руками, с нежностью обхватив худенький, воздушный стан девочки, увлекла ее за собой, Гизела, как пойманная птичка, без сопротивления последовала за ней на софу. Фрицхен почувствовал себя совершенно одиноким и покинутым. Он бросил сухарь и стал тянуть к ним свои ручонки, но никто не обращал на него внимания, лишь госпожа фон Гербек, сделав сердитое лицо, грозила ему пальцем. Глаза ребенка наполнились слезами, и он разразился громким плачем.
Вскоре затем послышались на лестнице быстрые шаги, и пасторша вошла в комнату. Дамы, обнявшись, небрежно сидели на софе, как бы желая этим показать, что им нет никакого дела до плебейского потомства.
Ни единого слова не произнесено было оскорбленной матерью, лишь на одно мгновение глубокая бледность покрыла ее цветущее лицо. Она подняла ребенка, завернула его в платок и направилась к двери.
– Любезная госпожа пасторша! – крикнула ей вслед гувернантка. – Я очень сожалею, что мы не могли занять вашего сына, но он был ужасно беспокоен, а фрейлейн фон Цвейфлинген еще слишком слаба.
– Я сама не могу простить себе, что не распорядилась иначе, – ответила пасторша просто, без едкости, и вышла из комнаты.
– Ничего, душечка, не огорчайтесь этим пассажем, – прошептала гувернантка, приметив на лице Ютты тень стыда и оскорбления. – Подобная вещь сразу избавит вас от целого ряда дальнейших неприятных столкновений.
И затем полилась у них прежняя, прерванная пасторшей, беседа.
Глава 5
Между тем настал вечер. Пасторша предложила дамам спуститься вниз, ибо сейчас должно было начаться рождественское торжество – раздача с елки подарков.
Маленькая графиня схватила руку пасторши, дамы медленно поднялись со своих мест.
Внизу, в своем узеньком кабинете, сидел пастор перед старинными маленькими клавикордами.
Личность эта нисколько не напоминала ту, какую бы мистик желал видеть на кафедре. Черты эти не побледнели в мрачном пыле фанатизма, ни единого следа той железной непреклонности и нетерпимости мрачного рвения веры не лежало на этом лбу, и голова не склонялась на грудь, стремясь явить миру живой пример христианского смирения, – нет, пастор этот был истым сыном Тюрингенского леса. Это был мужчина, полный сил, высокого роста, с широкой грудью, добрым лицом, большим открытым лбом, с густыми темными курчавыми волосами.
Теперь его окружали дети, вперившие полные ожидания взоры в лицо отца. Он безмолвным наклоном головы приветствовал вошедших дам и опустил руки на клавиши. Раздались звуки церковной песни; детские голоса пели: «Слава в вышних Богу и на земле мир».
По окончании гимна пасторша тихо отворила дверь в соседнюю комнату – там стояла убранная елка. Дети молча вошли.
Маленькая графиня с выражением разочарованья на лице остановилась посреди комнаты: и это называется елкой? Это маленькое бедное деревце с несколькими горящими свечами на ветвях? Едва заметные крошечные яблоки, орехи, которых никогда не отведывало знатное, болезненное дитя, и несколько довольно сомнительных пряничных фигурок – вот все, на что во все глаза смотрели эти дети. А под елкой на толстой белой скатерти лежали грифельные доски, карандаши – вещи, которые, помимо елки, даются каждому ребенку!
А между тем как эти дети счастливы! Никто не замечал ни изумления маленькой графини, ни саркастической улыбки госпожи фон Гербек.
Войдя в комнату, обе дамы немедленно удалились на софу, где, по крайней мере, их шлейфы были в безопасности от неосторожных ног «маленьких пандур».
Пастор ушел в кабинет, пасторша занялась хозяйством.
Началось угощенье. Маленькая графиня не могла принять в нем участия: все, что здесь подавалось, было ей запрещено.
Как какой?нибудь профессор, заложив руки за спину, она серьезно смотрела на детей. Один из пасторских сыновей, прозванный «толстяком», проскакал мимо нее по комнате на только что подаренном ярко раскрашенном коне.
– Какая гадкая лошадь! – сказала Гизела. Всадник остановился, глубоко оскорбленный.
– Не правда, она совсем не гадкая! – отвечал он с неудовольствием.
– Настоящие лошади не бывают такими красными, и хвосты у них не торчат, – продолжала критиковать маленькая графиня. – Я лучше тебе подарю моего слона, который бегает по комнате сам, если его завести ключом. На нем сидит принцесса и кивает головой.
– «На нем сидит принцесса», – прервал ее рассудительно «толстяк». – Так я?то где после того сяду?.. Не надо мне твоего старого слона, я люблю мою лошадку!..
И с этим, понукая и пришпоривая, мальчик поскакал далее.
Гизела с изумлением глядела ему вслед.
Она привыкла, чтобы прислуга бросалась целовать ей руки, когда она что?нибудь ей дарила, а здесь с таким пренебрежением отказываются от ее подарков. Но еще более возмущало ее то, что «толстяк» находил прекрасной эту ужасную клячу. Она бросила взгляд на свою гувернантку, как бы ища разъяснения всего этого у нее, но та была углублена в разговор с Юттой.
Гизела одиноко стояла среди детей. К тем двум девочкам, возившимся в углу около куклы, не жалуя этих игрушек, она не хотела подойти, а «толстяк», с которым она хотела завязать разговор, отделал ее таким образом… Но вон там, в стороне, около стола, на котором сегодня, ради праздника, также зажжена свеча, стоят двое старших детей – мальчик и девочка, и оба с осторожностью перелистывают книжку: сказки братьев Гримм, подаренные отцом старшему девятилетнему сыну.
– Была однажды маленькая девочка… – читал вполголоса мальчик.
Гизела приблизилась и стала вслушиваться. Она умела уже бегло читать, и сказочный мир с его неведомыми чудесами очаровывал эту юную душу.
– Дай мне эти сказки. Я буду их читать, – сказала она мальчику, стоя на цыпочках и тщетно заглядывая в книгу.
– Этого бы мне не хотелось, – отвечал он в смущении, запуская руки в свои курчавые волосы. – Папа обещал завтра сделать мне на нее обертку из бумаги.
– Я ее не испорчу, – с нетерпением прервала Гизела. – Подай же книгу!
И она протянула руки.
Этот повелительный жест ясно показывал, что этот ребенок не знал отказов.
Мальчик смерил ее изумленным взглядом.
– Ого, это у нас так скоро не делается! – вскричал он, удаляя от нее книгу, но вслед за тем, как бы раскаиваясь в своей резкости, он, обернув книгу носовым платком, продолжил: – Впрочем, возьми, читай эти сказки, только ты не должна так приказывать, ты должна попросить.
Была ли Гизела взволнована предыдущей сценой с «толстяком» или в эту минуту действительно поняла значимость своего высокого положения в свете, но добрые, прекрасные глаза ее сверкнули, и, отвернувшись от мальчика, она презрительно проговорила:
– Книги твоей мне не нужно, а просить… Я никогда не прошу!
Дети широко раскрыли глаза.
– Ты никогда не просишь? – повторили они хором.
Восклицание это привлекло внимание госпожи фон Гербек. Увидя неприязненное выражение на лице вверенного ей дитяти и догадываясь о случившемся, она поднялась и поспешно проговорила:
– Гизела, дитя мое, прошу тебя, поди скорее ко мне.
В эту минуту, уложив меньшого ребенка, вошла в комнату пасторша.
– Мама, она никогда не просит! – заговорили дети, показывая на Гизелу, неподвижно стоявшую посреди комнаты.
– Да, я не хочу просить, – повторила она, однако уже не с такой самоуверенностью, чувствуя на себе взгляд пасторши. – Бабушка всегда говорила, что мне неприлично просить, что я должна просить только папа, но никого другого, даже госпожу фон Гербек!
– Правда? Бабушка действительно так говорила? – ласково и вместе с тем серьезно спросила пасторша, беря за подбородок девочку и глядя ей прямо в глаза.
– Я могу вас уверить, моя любезная госпожа пасторша, что это было неопровержимым убеждением покойной графини, – отвечала за ребенка госпожа фон Гербек с неописуемой дерзостью, – и, само собой разумеется, никто не имел права питать подобных взглядов на воспитание более, чем она, в ее высоком положении!.. Кроме того, я должна вам дать добрый совет, собственно ради интереса ваших детей, разъяснить вам, что в маленькой графине Штурм вы должны видеть нечто иное, чем в каких?нибудь Петерах или Иоганнах, с которыми вам приходится обыкновенно иметь дело!
Не возражая ничего гувернантке, пасторша позвала своего старшего сына, чтобы узнать, как было дело.
– Ты должен быть предупредительнее, – произнесла она, когда ребенок закончил. – Должен дать книгу маленькой Гизеле, как только она этого пожелала, потому что она наша гостья. Помни же это, мой милый!
Затем дети отправились спать, а Гизеле пасторша дала сказки и свела ее в классную, дверь в которую осталась полуотворенной.
– Так, по?вашему мнению, – проговорила она, возвратившись, – я должна детям своим внушить уважение к маленькой графине? Но едва ли это возможно, так как я сама – извините мою откровенность – не питаю к ней этого чувства.
– Ай, ай, моя милейшая, так мало смирения в жене священника! – прервала ее гувернантка со своей обычной улыбкой. В тоне ее слышалось глубокое ожесточение.
– Я не так понимаю смирение, как вы, – проговорила пасторша также с улыбкой, полной юмора и простодушия. – Маленькую графиню я могу любить как ребенка, но уважать ее… Не понимаю, как взрослый человек может уважать ребенка!
Гувернантка поднялась.
– Это ваше дело, любезная госпожа пасторша, – проговорила она сухо.
На дворе послышался скрип саней, приехавших из замка.
Гизела вошла в комнату и подала пасторше книгу. Своеобразный был характер у этого ребенка! Ни нежно?льстивое обращение госпожи фон Гербек или кого другого из окружающих ее, ни даже ласки отчима не могли вызвать расположения и растрогать сердце этой девочки. Но теперь, прощаясь с пасторшей, женщиной, относившейся к ней с тем обожанием, к которому она привыкла, малютка бросилась к ней и с горячностью обвила шею ее своими худенькими руками.
Пасторша крепко поцеловала подставленные ей губки.
– Храни тебя Господь, милое дитя, будь мужественна и честна, – проговорила она, и голос ее стал необыкновенно мягок – она знала, что видит ребенка в своем доме последний раз.
Выходка эта заставила побледнеть гувернантку. Холодно?презрительная улыбка была ответом на «ребяческую демонстрацию».
Сцена была прервана вошедшим лакеем, принесшим в комнату разные шали и салопы.
– Снесите вещи в комнату фрейлейн фон Цвейфлинген! – приказала она. Затем, взяв Гизелу за руку и приветливо наклонив голову, она проговорила, обращаясь к хозяйке: – Много благодарна вам за ваш восхитительный рождественский вечер, моя милая госпожа пасторша!
С достоинством и грацией прошла она по комнате и по лестнице. Войдя же в комнату Ютты, вне себя бросилась на стул.
– Ни минуты я не должна оставаться здесь, моя милая фрейлен Ютта! – вскричала она, глубоко переводя дыханье. – Однако и в таком волнении я не могу показаться на глаза прислуге! Посмотрите, как горят мои щеки! – И она попеременно своими белыми руками стала сжимать виски и лоб. – Боже милосердный, что это был за вечер! Само собою разумеется, я с Гизелой последний раз в этом благословенном пасторском доме!
Ютта побледнела.
– О, это еще будет не так скоро, – я, во всяком случае, сюда еще приду! – произнесла решительно маленькая графиня, подражая тону пасторского сына.
– Мы это увидим, мое дитя, – внезапно овладевая собой, возразила гувернантка. – Папа один может решить это. Ты не можешь еще судить, мой ангельчик, каких злейших врагов имеешь ты в этом доме.
– Слушайте, что я вам скажу, – зашептала она, кладя руку на плечо Ютты. – Невыносимый детский шум, этот отвратительный напиток, называемый чаем, грубые кушанья, которые нас заставляли есть, табачный дым, наконец, все эти жалкие сцены положительно убеждают меня, что ваше дальнейшее пребывание в этом доме невозможно. По крайней мере, пока вы ваше древнее имя не променяете на буржуазное, до тех пор вы еще должны наслаждаться всеми преимуществами вашего звания. Я беру вас с собой, и даже сию же минуту. Тем, внизу, мы дадим знать, что вы уезжаете со мной на праздники, – иначе с ними не разделаешься… Вы будете жить не у министра, не у маленькой графини Штурм, но лично у меня; я помещу вас в двух комнатах, составляющих часть моего громадного помещения, но если и это вам и вашему жениху не понравится, ну, тогда давайте уроки музыки Гизеле!.. Согласны?
Вместо всякого ответа девушка поспешно вышла из комнаты и минуту спустя вернулась в узеньком салопчике, из которого она выросла.
– Я готова, – сказала она с сияющими глазами.
Госпожа фон Гербек подавила улыбку при виде смешного вида, который имела девушка в этом старомодном одеянии. Она пощупала подкладку.
– Он слишком легкий, а теперь так холодно, – сказала она, снимая салоп с Ютты и роняя его на пол. – Лена прислала нам целый магазин, – продолжала она, выбирая из груды принесенных лакеем вещей синий атласный меховой салоп и белый кашемировый капор и собственноручно надевая то и другое на голову и плечи девушки.
Маленькая комнатка осталась пустой. Все трое начали спускаться с лестницы.
Внизу стояла Розамунда и светила им, держа в руке кухонную лампу.
Старуха с удивлением глядела на Ютту, величественно проходившую мимо нее в своем новом наряде.
Молодая девушка обернулась к ней с намерением объяснить свой отъезд, когда вдруг из темноты показалась седая голова Зиверта.
Вид этого старого, пасмурного лица был как нельзя менее желателен для Ютты.
Щеки ее запылали, черты же сохранили прежнее высокомерное выражение. Однако это нисколько не устрашило старого воина – он подошел ближе и враждебным взглядом окинул элегантный наряд девушки.
– Горный мастер послал меня… – начал Зиверт.
– Вы пришли из дома, где тифозный больной? – вскричала с ужасом госпожа фон Гербек, поднося батистовый платок ко рту Гизелы.
– Ах, пожалуйста, без истерик, – возразил Зиверт, не особенно почтительно протягивая свою костлявую руку в направлении гувернантки. – Ваша жизнь не в опасности… Горный мастер знает, что делает. Я, почитай, целый час проветривался и обкуривался на заводе.
Он снова обратился к Ютте:
– Мастер не мог сегодня прийти на елку потому, что студент наш почти при смерти.
При последних словах голос старика сделался еще жестче и суровее.
– О Боже! Бедняжка! – вскричала Ютта. Неизвестно, к кому относилось это восклицание.
Как бы сознавая, что подобный момент неудобен к совершению предпринятого шага, она машинально стала подниматься по ступеням.
Гувернантка схватила ее за руку.
– Как это жалко, – произнесла она задушевным тоном участия. – Теперь я чувствую двойную обязанность не покидать вас в эти печальные минуты. Пойдемте, милое дитя, мы не вправе подвергать долее Гизелу сквозному ветру.
Ютта спустилась с последней ступени.
– Скажите мастеру, что я очень несчастна, – обратилась она к Зиверту. – Я на несколько дней еду в Аренсберг, и…
– Вы едете в Аренсберг? – вскричал он, хватаясь за голову.
– Почему же нет? – спросила госпожа фон Гербек с выражением той барской величавости, которая тщится привести в ничтожество человека.
Величавость эта, однако, не произвела должного впечатления на старого озлобленного солдата.
– В замок Аренсберг, принадлежащий барону Флери? – воскликнул он с горечью.
– Я должна вас убедительно просить, милейшая фрейлейн фон Цвейфлинген, окончить этот странный разговор, – произнесла гувернантка с нетерпением. – Я не понимаю, чего хочет этот человек!
– Он хочет разыгрывать роль советчика! – прервала ее с озлобленностью Ютта. – Но он забывает, с кем имеет дело… Я говорю вам раз и навсегда, Зиверт, – обратилась она к нему с величайшим презрением. – Миновали те времена, когда вы осмеливались мне и моей матери говорить в лицо ваши так называемые истины и отравлять этим нашу жизнь… Если мама в своем болезненном положении терпела эти вечные противоречия – так я?то ни в каком случае не намерена дозволять вам этого обращения!
И она отправилась далее, полная грации и аристократического достоинства.
– Скажите вашим господам, что я уезжаю с госпожой фон Гербек на праздники! – крикнула она мимоходом Розамунде.
Зиверт безмолвно стоял внизу лестницы. Только скрип отъезжавших саней вывел его из оцепенения.
– Ложь и ложь, – проговорил он медленно взволнованным голосом, поднимая свои дрожащие руки к небу, а там, над заводом, белым светом сиял Сириус, бледный любимец старого звездочета. – Да, и ты тоже уж не тот! – продолжал он, глядя на звезду. – Где твой красный блеск, которым ты сиял для древних? И все так, и наверху то же, что в жалкой, презренной душе человеческой!.. Ладно, кати себе в замок! На здоровье, говорит тебе старый Зиверт, – только смотри, сойдет ли тебе все это с рук!..
Глава 6
Замок Аренсберг выстроен был не на горе, подобно многим древним тюрингенским замкам. Какой?нибудь благородный Ниморд XIII столетия, чувствовавший себя как нельзя лучше среди волков и медведей, соорудил себе эту исполинскую груду камней в недоступной, может быть, еще в те времена дикой долине.
Грубо, без малейшего архитектурного украшения, высились тогда его саженной толщины стены, прорезанные кое?где узкими, несимметричными окнами.
Переходя из рук в руки, здание меняло свою внешность по прихоти каждого нового владельца.
Ныне стены его снабжены были правильными рядами окон и выбелены, почему в окрестности называли его Белым замком. Не обладая вообще суровостью феодального жилища, замок тем не менее в деталях являл некоторый средневековый характер.
Маленькой графине нравилось здесь. Как какая?нибудь заколдованная принцесса, одиноко, не видя ни единого детского лица, проводила она свои дни, предоставленная единственно госпоже фон Гербек и Ютте. Несмотря на глубокие снега, барон Флери еженедельно приезжал на день в Белый замок, чтобы повидать ребенка. Свет немало прославлял эту необыкновенную нежность и заботливость. Сама же девочка никогда не встречала его лаской. Он же между тем так редко противоречил ей, с такой готовностью, казалось, исполнял ее подчас нелепые желания! Он привозил ей дорогие игрушки, различные туалетные вещицы, тщательно удаляя книги, страстно любимые ребенком сказки, под тем предлогом, что графине Штурм не к лицу играть роль синего чулка.
Выслушав рассказ гувернантки о случившемся на елке в доме пастора, министр раз и навсегда запретил дальнейшие туда поездки, прибавив, что ребенок ни на минуту не должен быть предоставлен самому себе, несмотря на то что однажды величайшее наслаждение доставило Гизеле, пробежавшей через всю анфиладу комнат, проникнуть одной в старинную нежилую залу, примыкавшую к домовой церкви, и рассматривать там отличные древние фрески библейского содержания. Но что наиболее вызывало протест в маленькой графине, так это уроки музыки у фрейлен Ютты, особенно поощряемые отцом и гувернанткой.
Во всю свою жизнь Ютта встретила лишь одного человека, который не поддавался ее обаянию и держал себя с ней постоянно строго и сурово, – человек этот был Зиверт. Теперь в отношениях своих с Гизелой ей пришлось испытать подобные отношения вторично.
Интересно было видеть, как это некрасивое, болезненное созданьице вело безмолвную, но упорную борьбу с красивой девушкой. Неоднократно страстные стремления Ютты приобрести расположение знатного дитяти разбивались о холодный, неподвижный взгляд ясных карих глаз девочки. Случалось, что девушка ласково своей нежной рукой гладила ребенка, но маленькая графиня с энергией встряхивала своими бесцветными волосами, как бы желая движением этим сбросить все следы непрошеного прикосновения.
Госпожа фон Гербек игнорировала «странности ангельчика», в задушевных же беседах с Юттой признавалась, что это нестерпимое наследственное «упрямство», которым, к несчастью, заражена была и покойная бабушка, ее саму приводит нередко в ярость.
Ютта помещалась в двух прелестно меблированных комнатах в конце длинной анфилады, занимаемой маленькой графиней с ее гувернанткой. Как растение, пересаженное на хорошую почву, этот последний отпрыск гордого рода Цвейфлингенов распустился во всей своей индивидуальности в высокоаристократической атмосфере графского дома. Прошедшего для нее как не существовало. Замечательно скоро и просто объяснила она себе загадочную для нее сцену между матерью и министром. Еще даже в тот вечер, стоя рядом с этим человеком, она была уже на стороне его, а впоследствии легко дала себя совершенно убедить, что мать, по своему болезненному положению возбужденная почти до бешенства и ослепления злобным наговором других, допустила явную несправедливость к министру.
В первую минуту горный мастер был глубоко поражен поступком Ютты, но раз ошибка была сделана, поправить ее без огласки было невозможно. Молодой человек не имел права делать упрека любимой девушке, ибо она не была посвящена в тайны своего семейства, а о сцене, предшествовавшей смерти госпожи фон Цвейфлинген, он ничего не знал. Ютта, единственная свидетельница, ничего о ней не говорила. Первое время пребывания ее в Белом замке горный мастер не виделся с ней. Хотя после кризиса, совершившегося в рождественский вечер, жизни Бертольда и не грозила смертельная опасность, тем не менее болезнь все еще удерживала горного мастера при постели брата. За это время Ютта письменно объяснила своему жениху необходимость сделанного ею шага настолько убедительно, что молодой человек не решился несвоевременным разъяснением отношений ее семейства к семейству барона Флери поселить неловкость и натянутость в ее обращении с госпожой фон Гербек и маленькой графиней. Позже, когда опасность заражения миновала, он начал ходить в Аренсберг. Не робкое, молчаливое создание, которое провожал он из Лесного дома к пастору, встречало его в замке, – теперь это была женщина поистине какой?то царственной осанки и самоуверенности.
Ютта приобрела тот светский лоск, который самой обыкновенной салонной болтовне придает пикантность и обольстительность. Нередко на губах ее появлялась какая?то особенная обворожительная улыбка, которой дотоле не замечал горный мастер у своей невесты и которая бы должна была навести его на мысль, что не он пробудил ее, но его честное сердце, доверие и любовь к Ютте не допускали ни малейшего следа сомнения. Он беззаботно поддался новому очарованию, и если девушка стала с ним теперь гораздо сдержаннее, чем прежде, если не встречала его с такой радостью, как в Лесном доме, – это, думал он, происходило единственно от застенчивости в новой обстановке, – мысль, которую, видимо, разделяла и госпожа фон Гербек, удвоенной любезностью старавшаяся прикрыть перемену в Ютте, – эта «почтенная, добрейшая госпожа фон Гербек»!
Таким образом, миновала зима, такая суровая и снежная, какую едва ли помнят старожилы.
На возвышенностях выпало столько снега, что из?под него выглядывали только трубы хижин. Единственным путем сообщений с внешним миром оставалось дымовое отверстие, которым и пользовались обитатели.
Топлива много не требовалось в этих погребенных под снегом жилищах, снежный покров согревал их, сосновая лучина светила достаточно, но чугун, в котором готовился обед, содержал лишь половину обыкновенной ежедневной порции, а чаще и совсем не снимался с кухонной полки, и занесенный снегом люд отходил нередко ко сну с голодным брюхом. Прошлогодний убогий запас картофеля быстро подходил к концу, а беднякам?горцам плохо приходилось, когда и этот единственный источник их существования истощался. Картофель заменял им мясо и хлеб; они едят его во всех видах, закусывая свой жалкий кофе, бурду, с которой оживляющие бобы имеют общего лишь одно название.
Таким образом питались они целыми месяцами, и один неурожай грозил им голодом.
Но вот приблизилась Пасха, повеяло оттепелью. Шумящие потоки устремились с гор, унося с собой вырванные с корнем деревья и оторванные глыбы скал, – все это мчится в небольшую горную реку, теперь грозно вздымающуюся в своем узком ложе.
Снег быстро тает, и пропитанная влагой почва уже не может поглощать более воды, которая заливает поля и луга, река выходит из берегов. «Сохрани Бог – наводнение!» – слышится из уст озабоченных людей.
Нейнфельдская местность менее прочих подвержена была этим ежегодно повторяющимся бедствиям. Ее небольшая речка, однако ж, столь безмятежная летом, в полноводье бурно неслась в своих крутых берегах, разрушая все встречающееся ей на пути.
На третий день праздника, после полудня, горный мастер с выздоровевшим студентом шли в замок Аренсберг. Бертольд через несколько дней должен был вернуться в университет. До сей поры он упорно отказывался быть представленным невесте брата. Никто не подозревал, что это юное, горячее сердце испытывало все мучения ревности, что?то вроде ненависти к существу, овладевшему душой его сурового, до обожания любимого им брата. Дворянское происхождение Ютты постоянно было причиной его недоверия к ней, и это чувство усилилось в нем еще более со времени переселения ее в Белый замок, В Зиверте он встретил себе союзника, и иногда старик, зная по опыту, что слова его подливали масла в огонь, ворчал сдержанно про себя; боязнь за счастье брата доходила иногда у молодого человека до какого?то безотчетного страха.
Он шел молча рядом с мастером, уговорившим его наконец познакомиться с его невестой.
Река, вдоль которой им пришлось идти, грозно бурлила, заливая прибрежный кустарник.
С каждым часом вода становилась все выше и выше.
Горный мастер не заметил, какое мрачное выражение принял взор студента, когда сквозь безлиственные еще сучья деревьев показался замок Аренсберг.
Конец ознакомительного фрагмента – скачать книгу легально
Библиотека электронных книг "Семь Книг" - admin@7books.ru