
К другому берегу | Евгения Перова
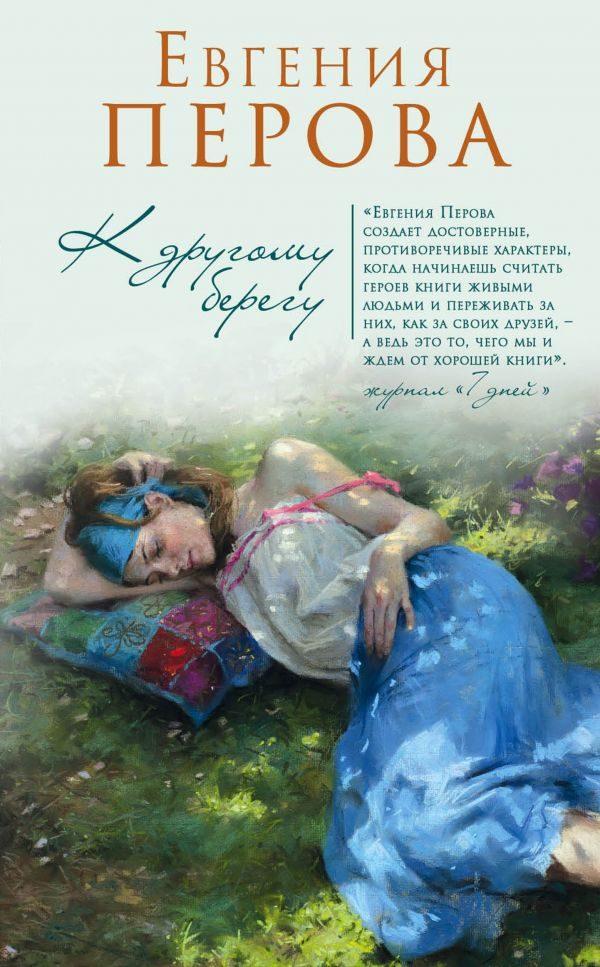
Евгения Георгиевна Перова
К другому берегу
* * *
Предисловие
Роман «К другому берегу» представляет собой первую книгу из серии «Круги по воде». Это большая сага о семье Марины и Алексея Злотниковых. Хотя каждая книга серии – произведение вполне завершенное и может читаться самостоятельно, все романы объединяет единая связующая нить, на которую нанизаны судьбы героев: Алексей и Марина меняются от книги к книге, их характеры раскрываются, делаются глубже. Алексей Злотников по прозвищу Леший – художник, поэтому в романах много рассуждений о живописи – каждая из трех книг заканчивается картиной, которую он написал. Марина тоже проходит свой путь взросления, постижения себя, определения своей роли в этом мире.
Название саги – «Круги по воде» – выбрано не случайно. Есть люди деятельные: творцы, креаторы, которые переделывают мир, совершенствуют. Или ломают. Такие персонажи есть в романах саги. Есть люди созерцательные, которые наблюдают, любуются, а потом пишут романы, поэмы или картины – это Алексей Злотников. И есть люди, вдохновляющие других на подвиги или на творчество. Они напоминают камни, брошенные в воду, – камень просто лежит на дне, а пущенные им круги все расходятся и расходятся, меняя действительность. Подобные люди самим фактом своего существования преобразовывают мир. Такова Марина – главная героиня саги «Круги по воде».
Она произносит: лес, – и он превращается в лес
с травой по колено, с деревьями до небес,
и входит она в свеченье зелёных крон,
и лес обступает её с четырёх сторон,
она произносит: свет, – и он превращается в свет,
и нет никого на свете, и слова нет,
и облако белой глиной сворачивается в клубок,
пока еле слышно она произносит: бог…
Сергей Шестаков
Пролог
Автобус опоздал – всегда опаздывал, Леший привык. Сидел на корточках, привалившись спиной к стене автостанции, и ждал. Подставил лицо августовскому нежаркому солнцу, смотрел, как лениво плывут облака – так же лениво плыли мысли: «С одной стороны – хорошо, что Кондратьевы приедут, не так дико будет, а то вообще как в пустыне – тетка Маша с овцами да кошками, и всё. А с другой стороны – привык уже один, сам по себе…»
Автобус наконец подъехал, открыл двери. Народ вываливался сомлевший, спрессованный, распаренный двухчасовой дорогой, – как всегда, битком набито. Первыми выскочили мальчишки, Сергеичи – Сашка и Мишка. Старшего так и звали дома – Пушкин, а младшего – уважительно: Михал Сергеич!
Сгреб ребятишек в кучу, слушая звонкое верещание:
– Дядя Леший! Дядя Леший, а катер не ушел? А вода высокая? А мы по дороге поломались!
– Не укачало вас, ничего? – краем глаза заметил бледную до зелени тетку, скользнувшую за угол: вот уж кого укачало до рвоты.
– Какой он вам Леший! Ну‑ка! Дядя Лёша! – встряла Татьяна.
– Да ладно, пусть их!
Обнялись с Серёгой, поцеловались с Татьяной.
– Ну что? Как там с катером? – спросил Серёга.
– Время есть, – ответил Леший. – Вода высокая, катера ходят. Один упустили, другой должен где‑то часа в два подойти. Так что можно поесть сходить.
– Ага! К дяде Мите? – обрадовалась Татьяна.
– Ждет! Вы идите, а я посижу с вещами, чтоб не таскать туда‑сюда.
– Хорошо! Марин, как ты? – обернулась Татьяна. – Мы хотим к дяде Мите сходить, время есть. Перекусим.
– Нет, вы идите. Я здесь посижу…
Леший с удивлением оглянулся: давешняя зеленая тетка стояла рядышком. Господи, это еще кто?
– Не пойдешь? – участливо спросила Татьяна.
– Да нет, не могу. Я посижу, отдышусь.
– Лёш, тогда пойдем? А Марина с вещами останется, – сказала Татьяна.
– Ладно, пошли, – кивнул Алексей.
По дороге он спросил у Таньки:
– Что еще за Марина?
– Так Марина же! Ты не узнал, наверное?
– Марина?! Как… Марина? Подожди… Что с ней такое?!
– А! Горе горькое! У нее мать в прошлом году умерла. А теперь вот… друга своего… потеряла, совсем недавно.
– Подожди! Друга? Так это что? Это что же – Дымарик умер?!
Леший остановился, оглянулся. Сидит сгорбленная фигурка на рюкзаках… Боже!
– Ну да. Сердце. В одночасье, – пояснила Татьяна.
– Он же молодой еще совсем!
– Почти сорок пять было.
– Господи, Дымарик… – Леший все никак не мог поверить.
Все так его и звали, по фамилии, уж больно вкусно звучало – Дымарик! Вадим Павлович Дымарик. Врач был, кардиолог. Хороший врач – Леший сам к нему обращался, когда отец заболел, тот помог.
Марина… Что же с ней стало: бледная, худая, стриженая! А раньше волосы были ниже пояса: лунные, русалочьи – долгие, как бабка говорила. А отец называл: мечта моряка. Бывало, взглянет Марина серыми глазищами‑озерами – аж все внутри ёкает. Акварель прозрачная! А сейчас – ни волос, ничего. Рисунок карандашом. Графитным, жестким – по серой оберточной бумаге. Бумага рыхлая, острый кончик карандаша рвет ее, царапает, оставляя резкие блестящие линии. И глаза – мертвые…
Погрузились на катер, поплыли. Марина осталась наверху: мне тут лучше, и все. Леший не выдержал, пошел проведать: сидит на ветру, видно – озябла.
– Спустилась бы вниз, а то простынешь!
– Нет, здесь лучше, на воздухе… Долго нам плыть?
– Часа полтора‑два, не иначе. Что‑то уж больно медленно тащимся!
– Долго… – Вздохнул, покачал головой. Снял куртку, укрыл ее сверху.
– Спасибо…
Пошел, принес термос с чаем и пирожков в пакете.
– Я не могу…
– Надо. Тебе лучше станет. Утром‑то небось не ела ничего. Давай.
Налил ей чаю, подал. Вздохнув, отпила, потом еще:
– Вкусно как! Это что за чай? Пахнет как замечательно…
– С кошачьими лапками. Дядя Митя хороший чай делает, сам траву сушит.
Еще отпила, потом, шмыгнув носом, взяла пирожок. Он смотрел на бледное лицо, синие тени под глазами, на тонкие дрожащие пальцы, держащие румяную сдобу, и сердце сжималось от жалости и… ярости! Что сделала с собой! Черт! Марина подняла к нему лицо:
– Спасибо! – И улыбнулась. Одни губы улыбнулись, а глаза смотрели все так же мертво, не видя. Наконец показалось Афанасьево – первый дом на высоком берегу, пустой, заколоченный.
– Ой, какой берег крутой! – завопили мальчишки.
– Хорошо, вода высокая, а то еще ниже причалили бы, – сказал Леший. – Ну ладно! Полезли!
– Еще глина эта… – ворчала Татьяна. – Вот черт!
– Эй, а вы куда? – прикрикнул Серёга на пацанов. – Ну‑ка, взяли, потащили! Вы мужики или кто?
– Ну, па‑ап!
– Что пап? Быстро! – сказал Серёга.
Леший засмеялся, увидев, как мальчишки, оскальзываясь, полезли вверх со своими рюкзачками, и подпихнул младшего под тощий зад – вперед! Он оглянулся на Марину – карабкается потихоньку.
– Подожди‑ка! Дай помогу! – предложил он.
– Да я сама…
Сама… Леший снял с нее рюкзак и потащил вверх. У дома рухнули все.
– Ох, господи! Полжизни… – пыхтел Серёга. – Лёшка, спасибо тебе!
– На здоровье! Я избу вам протопил, так что тепло будет.
– Зачем? Дядя Леший, зачем? Ведь лето! – закричали мальчишки.
– Север здесь, ночи холодные, и дом нежилой стоял.
– Лёш, ты обедать приходи… – сказала Татьяна.
– Да ладно, разбирайтесь. Потом погуляем! Отметим, – кивнул он и пошел к себе, оглянувшись на Марину: стоит, в небо смотрит. Ох, горе…
А Марина смотрела на облака и думала: «Так бы и стоять. Вечно. Окаменеть тут окончательно, стать каменной бабой – вроде тех, что в половецкой степи в землю вросли. Ничего не болит, ничего не страшно…» Оглянулась – Леший идет по траве, уже далеко.
Леший… Где ж ты раньше был? А теперь – и не узнал вот. Сама его с трудом узнает, в этой бороде. И что‑то в нем поменялось. Поломалось. Другой стал.
Зачем это, а? Зачем это сделалось, что они опять встретились?
Зачем?!
ЧАСТЬ первая. Моя маленькая
Первый раз Леший увидел Марину пять лет назад, в середине июня, когда пришел к Дымарику на Пироговку про отца договариваться, а она в холле сидела и книжечку читала. И хотя Лешему было совсем ни до чего – отец болел, на горизонте грозовой тучей нависала нежеланная свадьба, – он обратил внимание на девочку с книжкой. «Ах, какая девочка!» – подумал. На ней была коротенькая белая юбочка, и сидела она, скромно сдвинув розовые коленки, блузочка тоже белая, а сквозь нее какое‑то кружево просвечивает – от лифчика что ли? И в вырезе блузки самое начало груди видно, мягкая ложбинка – сама худенькая, а грудь высокая. Волосы – длинные, светлые, назад забраны, а вокруг головы – дымка из тонких, чуть вьющихся прядей, на солнце просвечивает нимбом. И коса.
Косу‑то он потом увидел, когда на улице разошлись в разные стороны, и он оглянулся: мама дорогая! Коса длинная, ниже пояса, и когда девушка шла, хвостик косы раскачивался в такт шагам – взгляд так и притягивался к этому месту, где хвостик. Марина сначала косилась на него довольно сердито – заметила, как он пялился на ее грудь. Потом, стоя рядом с Дымариком и слушая их разговор, она смотрела на Лешего широко распахнутыми серыми глазами, полными сочувствия.
Она почему‑то приняла его за священника – может, потому что целый час до этого гуляла по Новодевичьему, а там такой же ходил бородатый, в рясе. Этот, правда, был в «штатском», но борода подходящая, как Марине показалось, и она негодовала, что он так откровенно ее разглядывает. Дымарик над ней потешался потом всю дорогу: «Священник, выдумала тоже! Экая ты у меня глупышка! Алексей – реставратор по мебели, в музее работает, и художник неплохой».
Алексей же долго смотрел им вслед – с тоской даже смотрел, уж больно девушка хороша! И опять задумался: а правильно ли поступаю? От женитьбы его отговаривали все вокруг. Он и сам чувствовал, что не надо бы, но как вырваться из этого заколдованного круга, не знал. С того самого момента, как он проснулся в чужой постели с чудовищной головной болью и страшным похмельем и увидел рядом голое плечо, щеку с размазанной тушью и всклокоченные рыжие волосы Стеллы, от него не зависело ничего! Нет, тогда еще был шанс, но когда Стелла заявила, что беременна… Его загоняли, как волка в ловушку – с гиканьем и посвистом, под лай собак и дуденье охотничьих рожков. Стелка рыдала: папка убьет, если узнает! А «папка» – грозный генерал КГБ – смотрел пронзительным взглядом и сдвигал могучие брови. Лёшка решительно не понимал, как он в это вляпался: Стелла ему не очень и нравилась…
– Какого хрена ты с ней переспал?! – спрашивал Серёга. – Тебе девок было мало?
– Да не помню я ничего, можешь ты понять! Сидели, выпивали, потом – бац, утро!
– Ну да, ели‑пили, веселились, подсчитали – прослезились…
Родители, когда узнали – так и сели.
– Она‑то тебя хоть любит? – спросила мать.
– Говорит – любит, – ответил он мрачно.
– А ты ее?
– Да, может, этой любви и вообще нету!
Мать с отцом только переглянулись. Познакомившись со Стеллой, мать совсем загрустила:
– Сынок, вроде ты и правильно поступаешь, но… неправильно! Не женись, намучаешься! Ну, признаешь ребенка, станешь алименты платить, только не женись!
– Как вы все не понимаете! – кричал он. – Как я своего ребенка брошу?! Не могу я подлецом всю жизнь дальше жить!
Он и правда – не мог. Одна мысль об этом приводила его в исступление. «Может, так мне и надо?» – думал он, вспоминая, как легко жил: не задумывался, резиновым мячиком катился. Весело жил. И с разбегу – лбом об стенку. Теперь поневоле задумаешься, как жить. А может – и ничего? Надо же когда‑то жениться? Живут же другие… как‑то. Но догадывался про себя, что ему «как‑то» не годится.
А Марину нет‑нет да и вспоминал, даже нарисовать пытался: грудь, коса, взгляд. Потом осталось в памяти только что‑то светлое, чистое и хрупкое, как первый весенний цветок, пробившийся сквозь снег. Через пару лет Леший увидел ее в выставочном зале на Кузнецком. Первый раз удалось показаться среди маститых – ему и еще двоим ребятам. У него там стена была: два пейзажа, натюрморт и три дочкиных портрета. Всех позвал – и Марина пришла с Дымариком.
Она Алексея и не вспомнила, тем более что он давным‑давно с бородой расстался, а Леший сразу ее узнал, хотя и она изменилась. Никак не мог понять, что в ней другое – потом догадался: то девочка была с косой, а теперь – женщина. И так эта догадка его… взволновала, черт! Помимо воли лезли в голову картинки: какое у нее лицо, когда она, откинувшись на подушку… И сам себя одергивал: с ума ты сошел, что ли?! Чужая женщина! Вон у тебя – жена. Жена, да. Чтоб не думалось, взял дочку, стал с ней ходить по выставке, картины показывать. А она – смешная такая – на каждую картину ахала. К нему глазки поднимет, бровки домиком и громко так: а‑ах! Господи, счастье мое! Горе мое. Но все‑таки не выдержал и спросил у Серёги Кондратьева:
– Слушай, а что это за девушка пришла с Дымариком?
– Да это Маринка, Марина Смирнова – подруга Танькина! Танька с ее матерью вместе работает. Хорошая девушка, в походы с нами пару раз ходила. Она в каком‑то издательстве редактор. А что, понравилась?
– Красивая.
– Красивая! Поздно, Дубровский!
– И не говори.
А потом Стелка Лешего просветила:
– Надо же, Дымарик свою конкубину привел! И не постеснялся!
– Кого?!
– Ну, любовницу свою!
И где она это слово‑то взяла! Так Лешего это задело, прямо… ранило. Как будто заноза в душу вошла. Никак не мог к ней это слово мерзкое приложить: такая чистая, солнечная, сияющая! И Дымарик? Как можно – видно же, какая! «А ты сам? – спросил себя. – А ты сам – устоял бы?!» Эх, как она на Дымарика смотрит – прямо тает. Черт! Да никто бы не устоял. И Марина – словно услышала! – мельком на него взглянула, одарив ненароком сиянием русалочьих серых глаз. У него сердце ухнуло куда‑то в пятки, да так там и осталось. Потом еще раз увидел: стояла, на его портреты смотрела – на девочку. Долго смотрела, а Леший – на нее. Придвинулась к полотну, пальцами провела по краске: погладила ребенка по розовой щечке. Нежно так. И оглянулась: Леший стоял рядом с малышкой, оживший портрет. Марину к ней как притянуло:
– Это твоя девочка? Лапочка…
– Мой цветочек!
Марина даже не заметила, что сразу с ним на «ты» заговорила – это она‑то, которая не терпела фамильярности и всегда держалась с новыми людьми так скованно, что Дымарик дразнил ее «фрау‑мадам»: «Фрау‑мадам, позвольте ручку поцеловать?»
– Цветочек?
– Маргаритка! Рита.
– Маргариточка… Цветочек…
Марина взглянула на него снизу, в глазах – слезы. А девочка к ней сразу на руки пошла – уцепилась за янтарное ожерелье. И Лёшка, глядя на то, как Марина, склонив голову, смотрит на малышку, а та положила ей одну ручонку на грудь, а другой потянула ожерелье в рот – увидел вдруг совсем другую картину: Марина кормит грудью младенца, и ребенок этот – их общий…
Он забрал дочку, а та ожерелье не отпустила и притянула Марину прямо к Лешему, они встретились взглядами – у Лешего дыхание перехватило, а Марина побледнела и тут же ушла. Леший стоял с дочкой на руках, смотрел Марине в спину, а в висках стучало в такт сумасшедшему стуку сердца: нет, нет, нет, нет, нет…
Нет!
Невозможно, так не бывает, я не верю в это, нет, нет…
Но, перебивая и пересиливая все эти дребезжащие «нет‑нет‑нет» – гулким ударом колокола раздавалось уверенное «да».
Да.
Это – она. И она – знает.
Ему казалось, что судьба, взяв обоих за шкирки – как бессмысленных кутят! – ткнула их друг в друга: да смотрите же! Вот – вы.
А Марина стояла в туалете, с ужасом уставясь на совершенно незнакомую женщину в зеркале: бледную, с огромными черными от расширенных зрачков глазами. «Что это такое? – думала она. – Что это со мной такое? Я не хочу! Зачем это мне? Как это возможно?!» Передавая Алексею малышку, она невольно оказалась так близко, что ощутила его запах – кожи, волос, одеколона, табака, краски. Увидела, что и он потянул носом, бессознательно принюхиваясь. Они встретились взглядами, и в эту самую секунду она… Это не слово было, не мысль, не образ, не чувство – какое‑то животное, звериное знание открылось: вот отец твоим детям. Чужой мужчина, которого она видит первый раз в жизни, а она от него ребенка хочет?! Свой собственный любимый мужчина за углом где‑то ходит! Любимый? Ты уверена? Теперь она ни в чем не была уверена.
Марина вспомнила, как это было, когда Дымарик первый раз провел рукой по ее волосам: «Ах, какая коса!» – и она сразу словно понеслась с крутой горы на лыжах, только ветер свистел в ушах. Они долго просто встречались – не так часто, как ей хотелось бы: гуляли, ездили за город, плавали по Москве‑реке на теплоходике, целовались в парке на укромной скамейке, а потом, когда мама в сентябре уехала в санаторий, все и случилось.
И когда позвонила Татьяна, случайно увидевшая их где‑то вдвоем, и стала осторожно расспрашивать: «Как так, да что такое, а ты знаешь ли, что он женат, да он не разведется никогда, и о чем ты думаешь?!» – Марина только и могла сказать: «Поздно, Тань, поезд ушел». Поезд набирал скорость, она ехала в этом экспрессе и сойти не могла. Никак не могла, хотя и рельсы были ржавые, и шпалы кривые, и светофоры неисправные. Теперь же у нее было странное чувство, что она все это время пила дистиллированную воду и ела искусственный хлеб, да еще и думала: как вкусно! А вот вода родниковая. И хлеб настоящий, ржаной, с крупной солью…
Марина долго отсиживалась в туалете – страшно было выйти, увидеть опять Алексея. А Дымарика? Еще страшнее. Лучше всего было бы прямо сейчас уйти, но Дымарик не захочет и ее не отпустит: хотя он, приведя ее куда‑нибудь, тут же бросал, считалось, что они вместе, и когда Марина один раз, заскучав, сбежала, разборок и обид было немерено. Она наконец вышла из туалета и сразу наткнулась на Дымарика:
– Сто лет тебя ищу! Пошли, уже за стол садятся.
Длинный стол накрыли прямо в одном из залов. Застолье было знатное – еще бы, первая выставка! Вадим посадил ее рядом и сразу забыл о ней, увлекшись разговором с соседом. Теснясь между высоким Дымариком и неизвестным ей толстяком справа, Марина оказалась как в ущелье. Впрочем, она, в отличие от Дымарика, никого тут и не знала, кроме Кондратьевых. Алексей сидел напротив – чуть наискосок. Марина взглянула и тут же сделала вид, что занялась исследованием салата.
Алексей же просто не мог не смотреть на Марину: она выглядела такой маленькой и трогательной на фоне своих соседей, хотя – Леший прикинул – росту в ней было около ста семидесяти. Нет – каблуки! Сто шестьдесят пять, точно. На голову ниже его – когда Марина придвинулась близко, передавая ему Маргаритку, он чуть не ткнулся носом ей в макушку и вдохнул запах волос: лето, цветущая липа, жужжанье пчел…
Марина сидела, грустно ссутулившись, ковыряла вилкой салат и вздыхала. Дымарик что‑то сказал ей – она сразу ожила, но тому всего‑навсего понадобилась соль, Марина передала, он взял солонку и похлопал ее по спине – выпрямись! Она выпрямилась, а потом опять ссутулилась и вздохнула, рассеянно ковыряя кожуру мандаринки.
Леший смотрел.
Марина чувствовала его взгляд – каждый раз ее словно окатывало теплой волной – и не знала, что делать. «Я ему нравлюсь, – думала она, – нравлюсь, что же это такое?» И самое ужасное – ей было приятно! Одним взглядом он поймал ее на крючок и держал, не отпускал, водил, как форель на леске. «Прямо хоть под стол залезай!» – думала она. Вдруг кто‑то навалился на нее сзади – это Сергей передавал через стол Лешему гитару. «Он еще и поет!» – вздохнула про себя Марина. Леший взял гитару, пробежался, настраивая, по струнам, откашлялся.
– Лёш, «Синий троллейбус»!
– Хабанеру давай.
– Сейчас вам – хабанеру!
Но спел и «Синий троллейбус» – для Татьяны, и «Две гитары» – для Серёги, и еще что‑то, и еще… Марина видела, как постепенно внимание всех женщин переключается на Лешего: пел он хорошо, играл на гитаре еще лучше. Голос был не сильный, но выразительный – низкий баритон с легкой хрипотцой, а пел Алексей по‑актерски, добавляя темперамента там, где не хватало звука. Марина смотрела, как он играл, как струны перебирал сильными пальцами – и обмирала: какие руки красивые, сильные… А голос какой! Бархатный, сексуальный… Господи, о чем я думаю!
Она тут же устыдилась своих мыслей и поспешно схватила с тарелки соленый огурец – в ее руке он выглядел как‑то на редкость непристойно, Марина взглянула с ужасом и откусила сразу половину. Кто‑то вдруг закашлялся – это был Леший: весь красный, он закрылся рукой, и плечи у него тряслись от смеха. «Видел!» – поняла Марина, лихорадочно прожевывая слишком большой кусок, оттопыривший ей горящую огнем щеку. Какой кошмар!
Леший отсмеялся и заиграл что‑то новое – Марина сразу узнала стихи любимой Цветаевой, но даже не думала, что их поют: «Ландыш, ландыш белоснежный, розан аленький!» Марина, заинтересовавшись, робко взглянула на Алексея – и уже не могла отвести глаз, такое выражение лица у него было, так улыбались глаза, обращенные на нее: «Каждый говорил ей нежно: «Моя маленькая!» Марина похолодела: мало того что он пел для нее – он пел про нее: «Ликом – чистая иконка, пеньем – пеночка… И качал ее тихонько на коленочках…» У Марины потемнело в глазах – представила: у него на коленочках! «Божьи думы нерушимы, путь – указанный. Маленьким не быть большими, вольным – связанными…» Сердце стучало так, словно вся она была – одно сердце: «Будешь цвесть под райским древом, розан аленький! Так и кончилась с припевом: «Моя ма… ах!.. аленькая!»
Марина выдохнула и осторожно поглядела по сторонам: было такое чувство, что Леший перед всеми признался ей в любви! Просто вот встал и сказал во весь голос: «Я люблю Марину!» И она удивлялась, что никто ничего не заметил. Нет, надо уходить. Надо бежать, спасаться, иначе неизвестно, чем все это кончится. А как же Дымарик? И вдруг впервые подумала: а может… бросить его?! Совсем бросить? Она вспомнила редкие встречи с Дымариком в чужих квартирах и на чужих простынях; поцелуи в подъездах, неловкую близость на кушетке в смотровой, куда он проводил ее в белом сестринском халате, и она с ужасом косилась на стоящее рядом гинекологическое кресло; неторопливый секс у нее дома, где она все время прислушивалась: не звякнет ли в замке ключ невовремя вернувшейся мамы…
Почему, думала она, почему? Почему я так за него держусь? Неужели те краткие мгновенья счастья, когда он слегка приоткрывается, когда бывает нежен и ласков, позволяет мне чуть‑чуть полетать – недалеко и недолго – стоят всего остального: одиноких ночей, тоскливого ожидания звонков, отмененных свиданий и вечных опозданий, пустых праздников, проводимых у телевизора?!
Она все время словно была с Дымариком на «вы»: робела, стеснялась, заглядывала в глаза, старалась соответствовать, а он снисходил – ласково, но чуть насмешливо. Конечно, Вадим был почти на пятнадцать лет старше и относился к ней так, словно она щенок или котенок, забавный, преданный и глупый – так прыгала она вокруг него, виляя хвостом. Марина всегда во всем ему уступала, и как ни была наивна, все же ей порой казалось, что именно это Дымарику в ней и нравится – покорность и трепетность. И даже когда ей приходилось, умирая от стыда, отдаваться ему в самом неподходящем месте или делать то, что не особенно нравилось, Вадим умел подать это так, что она была ему еще и благодарна.
Его заводила опасность, эта игра в шпионов: явки, пароли, заметание следов, внезапные поездки, на которые Марина срывалась, придумывая оправдания для мамы, смотревшей на нее все более недоверчиво. Врать Марина никогда не умела, но приходилось – мама ее категорически не одобряла. И где бы они с Дымариком ни были, Марина всегда ощущала неловкость, будто голая среди одетых. Марине казалось: все понимают, что она его любовница, а не жена, которая существовала на самом деле, как бы Марина ни старалась об этом забыть. Его другая жизнь протекала где‑то в параллельной вселенной, не пересекаясь с ее собственным миром. Дымарик выходил из другого пространства к Марине, а что там, в зазеркалье, она старалась не думать.
«И зачем мне все это? – думала Марина. – Вся эта фальшь, ложь. Почему я думала, что люблю его? Просто он первый, кто обратил на меня внимание, и я побежала, как дурочка, не думая: куда, зачем?! Он тащил меня за собой на поводке, а я послушно бежала, перебирая лапками. И вот – поводок порвался. Или нет? Бросить его…» Марине стало жутко – Дымарик так подавлял ее волю, что она просто не могла себе представить, что скажет ему в лицо: «Я не люблю тебя больше, прости!» Или как? Не отвечать на звонки, не ходить на свидания? Как это делается‑то? Она подозревала, что так легко не освободится: Вадим умел настоять на своем. Марина попыталась представить свою жизнь без него – да особенно и пытаться не стоило, совсем недавно это было! Тоска…
Она вдруг подняла голову – Леший смотрел прямо на нее.
«Господи! Я… Я хочу его. Хочу, чтобы он был моим, чтобы смотрел, улыбался, говорил, пел, смеялся, дышал рядом со мной. Хочу готовить ему обед и смотреть, как он ест, хочу гладить ему рубашки и завязывать шарф. Дотронуться до него, почувствовать его запах, попробовать его на ощупь и на вкус! Я хочу родить ему ребенка».
Все ее мысли отражались у Алексея на лице. Сам он не мог даже подобрать слово, чтобы определить то чувство, что владело им так сильно – как будто внутри него, как в запертой клетке, билась, не находя выхода, птица.
А Марина вспомнила: девочка! Как же – девочка?! Девочка Маргариточка, цветочек? И жена какая‑то тоже есть… Надо уходить. Почему, за что ей это все?! Опять – жена, ребенок? Украденное счастье? Опять? Невозможно… Марина потянула Дымарика за рукав:
– Дим, можно я пойду? Мне что‑то нехорошо.
Он взглянул:
– Да ты совсем красная! Температуры нет? Или что это? Недомогания твои?
– Да‑да, – соврала Марина, досадуя, что это ей раньше не пришло в голову – Дымарик всегда относился к ее «недомоганиям» с некоторой брезгливостью.
– Ну иди. Я позвоню!
Она вылезла из‑за стола и побрела разыскивать куртку в завалах набросанной как попало верхней одежды: гардероба не было, а вешалок не хватило.
– Уходишь? Тебе помочь?
Леший стоял за спиной. Марина испугалась так, что подкосились ноги.
– Ты в чем пришла? В пальто, в куртке?
«В пальто, в куртке? – Она никак не могла сообразить. – Боже ж ты мой, он решит, что я полная дура, а я дура и есть, кто ж, как не дура…»
– В куртке! Белой.
Леший нашел куртку, подал ей, она поспешно оделась, боясь, что он дотронется до нее, и забормотала, моргая, какие‑то слова о выставке, картинах… Шапочку, вытащенную из кармана, она было надела, но тут же сняла – так стало жарко, потом опять надела…
Леший смотрел.
«Я же вся красная! – думала она. – Какой ужас! И растрепанная, и куртка эта дурацкая, а шапочка еще хуже, и что, я больше его не увижу, никогда?! И как тогда жить дальше?»
– А давай… я тебя провожу?
– Нет. То есть… спасибо, не надо, я прекрасно дойду одна, и тут же твои друзья и вообще…
А сама представила, как они идут по Кузнецкому, взявшись за руки – Леший бы обязательно взял ее за руку! И пусть бы шел снег… В октябре? Неважно! Она бы ловила снежинки губами, а Леший… ее… поцеловал бы…
– Ну я пойду?
– Иди, – сказал он грустно. – Иди. Береги себя!
И добавил ей в спину, так тихо и нежно, что она чуть не заплакала:
– Моя маленькая…
Марина ушла. Леший постоял, потом закурил, глядя в окно – представил, как она бежит по полутемной улице под моросящим дождем… Что ж делать‑то, а? Что?
Их со Стеллой брак не задался сразу. До замужества она вилась вокруг него, как лисица, а потом… Они поругались в первый же день после свадьбы, на которой он чудовищно напился, так раздражала его вся эта суета – платье с фатой, кольца, кукла на капоте машины, идиотские обряды, крики «Горько!», поцелуи на счет: «ра‑аз… два‑а…», пьяные гости, бесконечные тосты, конверты с деньгами, шушуканье и косые взгляды Стелкиных родственников. Леший подозревал: теща всем растрепала, что он женится «под пистолетом» – пистолет у тестя на самом деле был, но до этого дело не дошло. Мать и Татьяна смотрели на Лёшку с жалостью, Серёга ярился, отец мрачно вздыхал, но все же спел им эпиталаму: «Пою тебя, бог Гименей! Ты, что соединяешь невесту с женихом…» Густой отцовский бас заполнил весь зал, гости притихли – это был последний раз, когда отец пел – через полгода его не стало.
Потом родилась Маргаритка, и стало легче: Леший неожиданно для себя оказался совершенно сумасшедшим отцом, тем более что девочка родилась недоношенная, и он переживал, но Ритка росла на удивление крепенькой. Дочка стала для него оправданием и этого дурацкого брака, и собственной жизни. Стелла даже ревновала его к девочке, кричала: «Ты ее против меня настраиваешь!» «А‑а, дура!» – И очередной скандал вспыхивал, как пожар. Леший честно пытался как‑то наладить семейную жизнь, но не получалось ничего, и редкие моменты близости, которые все же случались между ними, не приносили ничего, кроме физической разрядки и легкого отвращения к самому себе.
А Марина действительно бежала домой бегом! Даже когда сидела в вагоне метро, ей все казалось, что она бежит, быстро‑быстро перебирая ногами – бежит, а за ней, как воздушный шарик на веревочке, вьется Лёшкина улыбка: моя маленькая! Перед дверью квартиры она постояла, вздохнула поглубже, потом решительно вошла – как нырнула.
– Марина, это ты? Ты одна?
– Мама, ты прекрасно знаешь, что это я. И знаешь, что я одна.
Виктория Николаевна вышла в коридор.
– Как‑то ты рано сегодня. Что ж он не повел тебя… в какую‑нибудь подворотню?
– Мама!
– Что – мама? Ты прекрасно знаешь мое отношение к этой ситуации, но тебе безразлично мое мнение. Ты хочешь жить по‑своему – что ж, прекрасно.
Стараясь не слушать, Марина разделась, прошла в свою комнату и села, пригорюнившись, на диван.
– Ты будешь ужинать?
– Нет, спасибо.
– Неужели он водил тебя в ресторан?
Это могло продолжаться бесконечно. Марина ушла в ванную и долго стояла под душем, потом легла, свернувшись клубочком, и подумала: «Я его брошу, Дымарика. И все». Она загадала: если он не позвонит через день… Нет, через день он точно не позвонит. Это нечестно. Через два! Через два он мог позвонить. А мог и не позвонить. Если он не позвонит через два дня, она его бросит, а если позвонит – все останется по‑прежнему. Как все может остаться по‑прежнему, когда она сама совершенно другая, Марина не представляла. А если бросить – как будет без Дымарика? А вот так и будет: свернется клубочком и станет грезить про Алексея. И что хуже? Как жить?! Если бы Марина не видела малышку, не держала ее на руках, не поцеловала в тугую щечку…
У Дымарика тоже был сын, Марина узнала о его существовании совершенно случайно, и Вадим редко о нем говорил, то есть никогда и не говорил, и про жену не говорил, это все было не ее дело, и правильно. Но конечно, конечно, все это время она терзалась угрызениями совести, и чувствовала себя виноватой, и подумать даже не могла, что Вадим оставит ребенка… и жену… они‑то чем виноваты? Ничем! Она одна была виновата, одна. Во всем.
Дымарик позвонил через два дня, ночью – без пяти минут двенадцать. Прекрасно знал, что Марине попадет от матери – та не любила поздних звонков, но он и не думал о таких глупостях. Позвонил, и все осталось по‑прежнему, и Дымарик даже не заметил, что Марина теперь совершенно другая, а она на следующий же день поехала на выставку и долго стояла перед портретами Маргаритки – смотри, смотри! Вот его девочка, ты же не хочешь, чтобы она страдала, правда? Ты сама выросла без отца, ты знаешь, что это такое! Хватит с тебя одной разбитой семьи. Поэтому – забудь! Забудь, и все.
Вот и Леший себе говорил то же самое – забудь, и все! Жил, стиснув зубы. Одно счастье – дочка, цветочек. А потом опять увидел Марину – у Чистых прудов, случайно. Вышел из метро – она стоит. Хотел подойти, а у нее такое лицо – понял: Дымарика ждет. Леший остановился. Она была как… как собака, которую хозяин привязал и ушел, а та волнуется, лапками перебирает, скулит. Наконец вышел Вадим – Марина ожила. Поцеловались и пошли куда‑то. А Леший – за ними. Долго шел, не разбирая дороги, прямо по лужам – ноги промочил. Потом опомнился. Что это я?! И пошел обратно к Чистым прудам. Там сел на скамейку и затосковал. А ведь думал, дурак, что никакой любви нет – выдумки это все. Какие выдумки, вон она – любовь! Только что от тебя ушла по бульвару…
Когда Кондратьевы позвали в гости – Татьянин день, святое дело! – Марина так обрадовалась, что в первый раз осмелилась перечить Дымарику, который идти не хотел: «Я одна пойду!» Она ужасно волновалась, долго металась перед зеркалом: что надеть?! С волосами замучилась: так или вот так? Боже ж ты мой, будет он там, нет? И что хуже – неизвестно. А он там был – как не быть! Заявился раньше всех и тоже нервничал: придет – не придет?! Даже подрядился гостям дверь открывать. Марина увидела Алексея – расцвела, и он заулыбался вовсю. Хорошо, Дымарик ничего не заметил, прошел, как всегда, вперед, не оглядываясь, а они так и стояли, глядя друг на друга – наглядеться не могли. Марина была так хороша в простом светло‑сером платье с ниткой жемчуга – волосы она свернула в греческий узел, на длинную шею сзади спускался тонкий завиток светлых волос. Лёшка как увидел этот завиток, снимая с нее пальто – вообще все забыл.
– Мне еще переобуться, – сказала тихо Марина. – У меня там… туфельки…
«Туфельки! Господи, выжить бы…» – думал Лёшка.
Она села – ноги не держали, а Леший, опустившись на пол около нее, расстегнул ей сапоги и надел на ноги серые лодочки на тонких шпильках, ухитрившись ни разу до нее самой не дотронуться. У него так пересохло в горле, что говорить было невозможно, да и не нужно – они просто друг на друга смотрели, и все было понятно без слов, а потом Марина закрыла глаза и словно его отпустила.
Все, все, что он делал в этот вечер, было – для нее, Марина это понимала и боялась: всем заметна тонкая блестящая нить, натянувшаяся между ними. Она сидела рядом с Дымариком, его рука лежала на спинке ее стула, а напротив – Леший пел под гитару: «Бирюзовые да златы колечики раскатилися да по полю‑лужку, ты ушла, а твои плечики скрылися в ночную мглу!» Танька вышла плясать свою коронную цыганочку, а Леший так играл голосом, поводил плечом, поднимал бровь, так жег смеющимся взглядом, что Марина опять, как тогда на выставке, почувствовала толчок в сердце, и внутренний голос произнес: «Вот твой мужчина, дура!» Мой. И что делать? Она пошла на балкон – подышать, подумать. Дымарик вышел следом за ней, покурить.
– А что это ты тут?
– Воздухом дышу.
– Жарко стало? – спросил он прозрачным намеком.
– Жарко. – Марина вспыхнула: намекает он! Хоть бы раз сам так на нее посмотрел! И ушла обратно. Там градус понизился, уже никто не орал и не плясал, Леший негромко что‑то пел, а на Марину взглянул виновато – прости, мол, занесло. Опомнился слегка. Она присела к Татьяне на подлокотник кресла, стала слушать, подпевать потихоньку. Уже не глядя на Марину, задумавшись о чем‑то, он завел потихоньку «Утро туманное». И так грустно звучал Лёшкин голос, что Марина не выдержала и подпела, он тут же повернулся к ней, начал заново, взяв чуть повыше, кивнул – вступай, мол, пора. Она вступила, и сама услышала, как страстно слились их голоса, – а Татьяна, схватив ее за руку, смотрела с восторженным испугом. Но когда дошли до слов: «Взгляды, так жадно, так робко ловимые…» – Марина подумала: что ж мы делаем, мы сами про себя поем и все видят! В глаза друг другу глядим – «взгляды, так жадно ловимые!» Потом мелодия пошла вверх: «первая встреча!» – и сразу вниз – «последняя встреча… тихого голоса звуки любимые…» Марина забыла обо всем, как будто в этих четырех словах: «первая встреча – последняя встреча» уместилась вся не прожитая ими жизнь. Они допели. У нее стоял ком в горле, а побледневший Леший смотрел на нее с каким‑то отчаяньем. «И как теперь жить», – опять подумала Марина, вспомнив девочку Маргариту, так доверчиво обнявшую ее тогда на выставке, Лёшкину жену и своего Дымарика, про которого забыла напрочь. Но он про нее не забыл и мрачно сказал:
– Пойдем, хватит.
– Хорошо.
Встала, постояла, как будто ждала чего‑то, посмотрела на Лешего – он не поднял головы. Марина вышла, а Лёшка уныло завел «Сиреневый туман» – из коридора слышно было: «Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда…»
Дымарик так торопился, что даже не дал ей надеть пальто – в лифте оденешься. Молча поехали – Марина вдруг поняла, что лифт поднимается. На последнем этаже Вадим схватил ее за руку и потащил выше – к чердаку, где была небольшая площадка и зарешеченная дверь. Марина видела – он на взводе. Бросил на грязный пол свою дубленку, которую тоже так и не надевал, Маринино пальто полетело туда же…
– Дим, что ты делаешь? Зачем это? Прекрати! – Он не слушал и, прижав ее к решетке, полез под юбку. – Ты что, с ума сошел? Оставь меня!
Но он как с цепи сорвался. Марине было чудовищно стыдно – вдруг кто пойдет, услышит, увидит! Да что же это такое?! Дымарик не слушал ничего, а Марина, сколько ни отбивалась, никак не могла с ним справиться – он был сильнее. Никогда она не видела его таким! Всегда сдержанный, ироничный, невозмутимый, он и любовью‑то занимался так, словно операцию проводил, и Марине порой казалось, что он вот‑вот скажет: «Сестра – скальпель, тампон, зажим». Он и сам напоминал ей скальпель – жесткий, холодный, острый и блестящий. А сейчас из него поперло такое звериное, первобытное, что Марина испугалась.
– Дим, прекрати, я не могу тут! Перестань! Ну, пожалуйста! Опомнись, ты что!
– Не хочешь здесь – пойдем к тебе! – он с такой силой прижимал ее, что в спину впился висячий замок на решетке.
– Куда – ко мне? Там мама, нельзя. – Марина уже чуть не плакала.
– А ты взрослый человек или нет? Что тебе мама?..
И тут она страшно разозлилась:
– А может, к тебе пойдем? С женой познакомишь!
И поняла: зря это сказала. Он совсем разъярился, рывком развернул ее спиной к себе, резко наклонив – она чуть не разбила лоб о решетку, – поднял подол платья, стянул колготки вместе с трусиками и так резко вошел, что ей стало больно. «Ну и что такого? Ничего особенного! – думала Марина, вцепившись в прутья решетки и пытаясь себя как‑то успокоить. – Мы так давно вместе, и сколько раз спали, и где только этого не делали, и все то же самое, ну – неудобно, стыдно, больно, надо это пережить, господи, да что ж это такое?!» Она чувствовала, проще будет не сопротивляться – быстрей все кончится.
Наконец он оторвался от нее, задыхаясь, – Марина поправила одежду и с размаху отвесила такую мощную пощечину, что Вадима отбросило назад, и он чуть не упал на ступеньках. Она просто пылала от ярости.
Вниз она спустилась бегом, забыв про пальто и сумочку, тоже валявшуюся где‑то там, у решетки; по дороге у нее лопнула нитка бус и жемчужинки посыпались градом, запрыгали по ступенькам. Мимо Татьяниной квартиры Марина пролетела стрелой – не дай бог, кто выйдет, увидит, в каком она состоянии! Алексей! Она так остро чувствовала свое унижение еще и оттого, что Лёшка был близко, совсем рядом, и ей казалось, что все это произошло чуть ли не у него на глазах.
Как она быстро ни бежала, Дымарик все равно быстрее спустился на лифте, и когда Марина выскочила из подъезда – наткнулась прямо на него. Вадим остановил ее, поймав на бегу, и стал перед ней на колени, обняв за ноги. Марина увидела – он протрезвел, опомнился, испугался. Она смотрела сверху на его опущенную голову с криво сидящей шапкой, которая все это время так и оставалась у него на голове, и эта деталь почему‑то добавляла еще больше унижения – даже шапку не снял!
Все разбилось вдребезги, и осколки резали сердце. Марина прекрасно понимала, отчего он так завелся: конечно, из‑за Лешего. Учуял – его женщину уводят! И чувствовала себя виноватой – ведь и правда, забыла о нем. Помани только Лёшка – так и ушла бы, не оглянулась! Что ж это такое, господи? За что мне это? Почему я не могу выбрать свободного мужчину, почему опять – женатый?.. А я его – выбрала?! Теперь, после того, что случилось на последнем этаже Танькиного дома, Марина ясно понимала: все не случайно, все не просто. Уже после той встречи на выставке она начала меняться. Немного, слегка, а вот теперь… Одна Марина вошла в этот дом несколько часов назад, вышла – другая. И виноваты в этом были двое мужчин, между которыми ее душа металась, словно птица в силках.
Дымарик надел на нее пальто, поймал такси. По дороге они молчали, и каждый раз, когда Вадим пытался взять ее за руку, Марина его отталкивала. Ее тошнило всю дорогу, и она еле добежала до дома, и там ее вырвало в ванной.
– Марина! Что с тобой? Ты что… Ты пьяна?
Увидев лицо дочери, Виктория Николаевна ужаснулась:
– Что? Что случилось?
– Ты можешь раз в жизни оставить меня в покое? – хриплым шепотом сказала Марина и ушла к себе. Как была – в пальто и сапогах – легла на диван. Ее всю трясло, во рту был мерзкий привкус рвоты, перед глазами стояла железная решетка и грязные ступеньки с растоптанными окурками…
– Давай мы разденемся, а? – Голос матери был непривычно мягок, и Марина, сглотнув ком в горле, села.
Мать помогла ей раздеться, повела в ванную – там было чисто, пахло мылом и цветочным дезодорантом, шумела вода, разбивая белую пену, Марина послушно влезла в теплую воду – ее затрясло еще сильнее, но мать уже несла чашку с чаем. Чай был крепкий, сладкий, с лимоном и коньяком, Марина жадно отхлебнула.
– Не плачь, не плачь, все будет хорошо. Все пройдет.
А Марина и не чувствовала, что плачет – слезы сами текли по щекам. Потом она сидела, ссутулившись, на кухне, а мама сушила ей феном мокрые волосы, расчесывала и гладила по голове. Потом обняла:
– Ты не хочешь мне рассказать?
– Нет. Прости. Все нормально, не переживай.
Утром она увидела себя в зеркале – на лбу был большой синяк от решетки – и ее опять затошнило. И внутри все болело, и на спине, где впечатался замок, наверняка тоже был синяк. Весь день Марина пролежала на диване, а ближе к вечеру начал звонить Дымарик. Марина снимала трубку и тут же бросала ее обратно на рычаг. Потом звонки прекратились, и она заснула, но он позвонил снова и трубку подняла Виктория Николаевна.
– Мариночка! Там этот человек… Ты не будешь с ним говорить?
– Нет.
– Может, все‑таки поговоришь? А то человек звонит без конца.
– Человек?! Теперь «он» для тебя – человек?
Марина вскочила и в полном бешенстве швырнула на пол телефонный аппарат, который с грохотом разбился – во все стороны поскакали какие‑то мелкие детальки.
– Марина! Ну зачем ты так! Можно было просто выдернуть из розетки. А вдруг нам кто позвонит.
– Кто?! – закричала Марина. – Кто нам позвонит?! У нас нет никого! Мои друзья мне и звонить боятся, а у тебя их вообще нет! Живем как… как в склепе! Мне двадцать семь лет! Двадцать семь! А я вздохнуть спокойно не могу! Ты мне всю душу вынула! Вадим тебе не нравится? Успокойся – его больше не будет! И никого больше не будет, никогда. Потому что… невозможно… невозможно… невозможно!
Мать закрыла лицо руками – они плакали обе.
– Господи… Мамочка, прости меня! Я куплю новый аппарат, этому сто лет уже… Не плачь!
Марина обняла мать, та качала головой.
– Что? Что?
– Это ты меня прости! Я же хотела как лучше… Я же хотела, чтобы ты была счастлива! А не как я! Живи как хочешь… Пусть с ним, лишь бы тебе хорошо было…
– С ним уже ничего не будет. Никогда.
Дымарик приехал через два часа. Марина не хотела его впускать и вышла к нему на площадку. Он уже отошел от вчерашнего раскаяния и выглядел почти прежним, но Марина его совсем не боялась и разглядывала даже с некоторым удивлением – вот это и есть тот человек, из‑за которого она разбивалась в лепешку?!
– Марин, ну что это такое? Ты не отвечаешь на звонки, мне пришлось ехать, а у меня операция!
– Нам не о чем разговаривать.
– Хорошо, хорошо, я виноват! Но я же извинился!
– Когда?
– Вчера! Ладно, я еще раз извинюсь!
– Извиняйся.
Дымарик смотрел на нее с изумлением:
– Марина, что с тобой?
– А что со мной?
– Может, мы все‑таки не здесь будем говорить? – Они стояли на площадке у мусоропровода.
– А что тебе не нравится? Вчера тебя как будто все устраивало.
– Ну, Марина! Пожалуйста! Я не понимаю, из‑за чего вся эта истерика, ей‑богу! Признаю, я был излишне груб.
– Нельзя быть «излишне» грубым. Ты либо груб, либо нет.
– Ой, да брось ты эти свои филологические штучки! Хорошо, я был груб, и место было неподходящее, но я же извинился! А ты так себя ведешь… можно подумать, тебя изнасиловали!
Марина смотрела на него во все глаза – он искренне не понимал, что сделал.
– Так ты же меня на самом деле изнасиловал. Ты что, правда этого не понимаешь? Ты же меня унизил, как… как последнюю шлюху.
И думала: «Я сама, сама виновата, я позволяла ему все, что он хотел, а теперь вот, получила».
– Марина! Что ты говоришь, – Вадим растерялся. – Но… я же… я не чужой тебе! Я же… не маньяк из подворотни!
– Не чужой? А кто ты мне? Муж? Возлюбленный? Ты имел меня, когда хотел, и все. И тебе наплевать было, что я чувствую. Хорошо ли мне, плохо.
– Марин, ну как ты выражаешься… Я тебя просто не узнаю.
– Вчера! Я! Тебя! Не хотела! Ты понимаешь?! Не хотела! А ты… силой…
– Не хотела? А может, ты кого другого хотела? Думаешь, я не понял?
– Да! Хотела! А тебя больше не хочу. Не приходи, не звони, забудь. Все, прощай.
– Марина… Но как же?..
Она поднялась в квартиру и захлопнула дверь.
После того, как Марина ушла от Татьяны, Леший стал методично напиваться, опрокидывая рюмку за рюмкой. Но – не брало. Казалось, что вместо водки он вливает в себя густую черную тоску. Наконец Татьяна отобрала у него уже почти пустую бутылку:
– Все, хватит! Уймись. Что, так проняло тебя?
– Проняло.
– Прошляпил девочку?
– Прошляпил.
– Такая девочка! А теперь этот… деятель… ей всю жизнь поломает! А ты будешь локти кусать со своей Стелькой.
– Уже кусаю.
– Что, так плохо?
– Так плохо.
– И где тебя носило тогда, какого черта ты не приехал. Говорила же тебе, дураку: особенная девочка! Теперь вот сам видишь, а поздно. Эх, как вы пели с ней! Я аж протрезвела.
– Подожди… Ты что имеешь в виду?.. Это когда я не приехал?
– Когда? Тогда! Давно, не помню, когда! На Девятое мая звали тебя.
Леший смотрел на нее остановившимся взглядом – он вспомнил этот телефонный разговор! Татьяна зазывала его на шашлыки:
– Приезжай, с такой девочкой тебя познакомлю!
Он засмеялся, услышав на заднем плане голос Серёги: да у него этих девочек пруд пруди! Леший знал, что Серёга всегда ему завидовал по женской части.
– А эта – особенная, – настаивала Татьяна. – Приезжай, сам увидишь.
Особенная! Особенная и есть…
– Так это она была?
– Она. Ты‑то где тогда пропадал?
– Где‑где… в Караганде.
– Понятно.
– До сих пор там и сижу.
«Все так и есть!» – мрачно думал Леший. Если бы меня тогда, на Первомай, черт не понес к Стелке на дачу, я девятого поехал бы с ребятами на шашлыки, встретил бы Марину, и какой ей Дымарик! Никакого Дымарика. А ведь собирался поехать. Собирался – да прособирался. Меньше пить надо было у Стелки…
Домой ему не хотелось, он заявился к матери. Заснуть не мог, курил в форточку на кухне, пил воду, вздыхал и маялся. Мать вышла к нему:
– Ну, что ты колобродишь?
И Леший, не выдержав, рассказал ей все – про Марину, про помрачение души, про тоску, что взяла его за горло железной рукой.
– Что мне делать, мам, а?
– Со Стеллой‑то как? Совсем плохо?
– Да.
– Может… развестись?
– Мам, да разве она мне Ритку отдаст? И никакой суд не присудит, все права у матерей, а этой… Ей котенка нельзя доверить, не то что ребенка!
– Горе…
– Горе.
– А эта что же, Марина? Так хороша?
– Мама… Я не знаю – хороша, не хороша! Моя женщина. И все.
– Сынок, а может?.. Не мне бы это говорить… Может, так бы встречались?
– Так?! Мам, ну ты что! Она мне целиком нужна, и я ей. «Так» – не получится. Да у нее уже и было «так». Она не захочет. А я не смогу. Нет. Как я дочери в глаза смотреть стану? Что мне делать, что?!
А мать гладила его по жестким волосам и вздыхала – а что скажешь? Ничего и не скажешь. Так и жить. Как получится.
Через неделю Дымарик ждал Марину в проходной издательства – с букетом роз. Она взглянула и, не останавливаясь, пошла к выходу, Дымарик за ней.
– Марина, подожди, давай поговорим!
Она повернулась, взяла розы и бросила их на землю, прямо в грязь – они с Вадимом стояли посреди путаницы железнодорожных путей, издалека, пыхтя, приближался электровоз, бегали собаки и два алкаша брели вдоль рельсов, собирая брошенные бутылки.
– Оставь. Меня. В покое. Раз и навсегда.
Но он не оставил: звонил, ждал ее в проходной, караулил у дома, упорно приносил цветы, которые Марина у него на глазах сразу выкидывала, они скандалили прямо на улице, под гудки проезжающих машин, один раз она его даже ударила – не помогало ничего! Вадим смотрел на нее безумными глазами, и Марине начинало казаться, что он и правда сошел с ума, так не вязалось его поведение со всем, что она про него знала. Или думала, что знала? Они словно поменялись местами – теперь он бегал за ней так же, как она в свое время за ним, и терпел все, что она вытворяла в ослеплении ненависти и отчаяния. Он нашел подход к Виктории Николаевне, и в один прекрасный вечер Марина, придя домой, обнаружила Вадима, пьющего чай на кухне. Мать выглядела виноватой, а Марина тут же развернулась и ушла. Вадим побежал за ней и там же, у мусоропровода, опять упал на колени:
– Марина…
– Прекрати это.
– Марина, пожалуйста, пожалуйста, умоляю!
Вид у него был совсем потерянный, он почти плакал – Марина смотрела с ужасом: это – Вадим?! Который не снисходил никогда до ласкового слова и ни разу не поцеловал просто так, от нежности? За которым она бегала, как влюбленная кошка, выпрашивая крупицы ласки?
– Опомнись! – сказала она, пытаясь отцепить от себя его руки. – Что с тобой? Как ты можешь до такой степени унижаться? Встань сейчас же!
И вдруг увидела – у него на макушке лысинка. Ее слегка отпустило: ах ты, старый дурак! Ненависть ушла, осталась одна брезгливая жалость.
– Ладно, пойдем.
Так это и тянулось. Марина не позволяла ему ничего – ее пробирала дрожь от одной только мысли о близости с Дымариком, но он терпел, ходил кругами, выжидал, а мама смотрела на Марину жалким взглядом и один раз сказала:
– Мариночка! Может?..
– Что – может?
– Я не знаю, чем он тебя обидел, но он страдает! Он тебя любит!
– Я его не люблю.
Марина понимала, почему мама так прониклась к Дымарику – он был врач. Виктория Николаевна никогда особенно не жаловалась на болячки, но лечиться любила, хотя Марине казалось, что половина ее болезней выдуманные. Дымарик давал советы, приносил какие‑то лекарства, вел с ней медицинские беседы – Марина‑то знала, чего ему это стоило: он ненавидел говорить о медицине. В отличие от Марины, Вадим принял жалобы Виктории Николаевны всерьез и даже договаривался о том, чтобы положить ее на обследование.
А Марина тосковала по Алексею. Однажды она не выдержала и, отводя глаза, попросила у Татьяны его телефон. Та повздыхала, но дала и даже ничего не спросила. Марина набралась смелости и позвонила.
– Алё! – В трубке раздался веселый Лёшкин голос, и она закрыла рот рукой, чтобы не вырвались рыдания. – Алё‑алё! Говоритя! Мы вас слушаем!
Он явно валял дурака, и Марина поняла: рядом дочка, а потом услышала ее звонкий смех.
– Не хотят они с нами говорить! – И вдруг, догадавшись, спросил страстным шепотом:
– Марина?! Это ты?! Марина!
Она повесила трубку и больше не рисковала звонить. Безнадежно. И когда Дымарик, заискивающе глядя на Марину, предложил поехать с ним на выходные в дом отдыха «Суханово», она заколебалась.
– Все будет так, как ты захочешь! – сказал он. – Просто отдохнешь, и все! Я ни на что не претендую!
Марина согласилась, но почти сразу и раскаялась: Вадим явно расценил это как полное прощение. Приехав, она тут же сбежала от него на пруд: он не любил купаться и остался на балконе – сидел в кресле, задрав ноги на перила, читал детектив.
А Леший приехал к своим на дачу, что за сухановским прудом на горочке. Июнь, жара. Не дошел, решил искупаться. Пошел к тарзанке. Разделся на ходу, бросил где попало джинсы и рубашку, ухватился за мокрую веревку, сильно оттолкнулся и полетел с гиканьем в зеленую мутную воду, пахнущую детством. Нырял, плавал в полном восторге. Потом вылез, запрыгал на одной ноге, вытряхивая воду из уха, – а сзади голос, звенящий улыбкой:
– Здорово ты прыгнул!
Он оглянулся, уткнулся взглядом в ноги стоящей чуть выше по склону женщины: бесконечные бледные ноги, чуть тронутые загаром снизу до колена. Восхитился совершенной линией бедра и перевел, наконец, взгляд к лицу – Марина! Смотрит на него, улыбается:
– Привет!
– Привет…
И так он вдруг растерялся и смутился: оба – почти голые, мокрые, так близко друг от друга… Аж мурашки пошли по коже! На ней купальник голубой – как нет его. Солнце на плечах, и капельки воды стекают по золотистой коже в ложбинку на груди. Встал рядом, сбоку – чтобы не видеть, а сам все косился на вырез купальника, на мягко дышащий живот… О чем говорили они? Не вспомнить. Потому что главное было – за словами. И Марина казалась какой‑то другой. «Словно… словно ветка надломленная!» – подумалось вдруг Лешему: листья еще живые, зеленые, но обреченные на гибель. Случилось что‑то с ней? Что?
– Ты одна? А где же Дымарик?
– Он там, в доме.
И как‑то так сказала, что догадался: похоже, поссорились. Может, в этом дело? Опять подумал: а если Марина с Дымариком расстанутся, то… может быть… они смогли бы… встречаться «так», как мать сказала? Потому что делить он ее ни с кем бы не смог, это Леший знал точно. А Марина? Его делить? Допустим, со Стелкой они давно уже не спят вместе, но… А если Стелла узнает? Она непременно узнает, она такая! Тогда точно развод. И Маргаритки ему не видать.
Марина смотрела на него, словно читала все его мысли, и выносить это не было никакой возможности.
– Давай на тот берег сплаваем? – предложил Леший.
– Да ты что?! Я не доплыву!
– А я тебя довезу…
Он представил, как подхватит ее на руки и потащит к воде – а она брыкается и хохочет! А потом… Нет, нельзя думать об этом, нельзя!
Марина страшно разволновалась: когда она увидела Лёшку, только что вылезшего из пруда – голого, мокрого, загорелого, – у нее что‑то помутилось в голове. Это было… как подарок судьбы! Может, им дают шанс? Может, не все так безнадежно?! Может, что‑нибудь получится? Она ни о чем больше думать не могла – только о том, как…
Где? Да под первым же кустом.
«Хоть один раз, только один раз дай мне! – просила она неведомо кого. – Дай мне прикоснуться, попробовать, почувствовать, пожалуйста, хоть один раз дай мне… воды родниковой напиться!»
Чувствуя, как дрожит все внутри, обернулась цветастой юбкой, завязала длинные тесемки на поясе. Леший не мог глаз отвести: низко юбка сидит, на бедрах, открывая живот. И маленькие босые ступни из‑под подола видны. Потом – раз! – руки под подол запустила и сняла под юбкой мокрые трусики. Надела маечку, а мокрый лифчик, развязав тесемки, вытянула…
«Не смотри! – сказал себе Леший. – Не твоя!» И аж застонал, увидев, как темная ткань натянулась над острым соском. А Марина, что б уж окончательно его добить, подняла руки – черт, какая же грудь у нее! – вынула шпильку и распустила волосы, встряхнув головой. Забыв дышать, смотрел он на это древнейшее женское колдовство: словно в замедленной съемке плеснула серебром волна волос и легла водопадом до самого пояса юбки. Марина обернулась – и по ее смеющемуся розовому лицу Леший понял: увидела, что с ним. Черт!
– Я пойду? – спросила.
А на лице улыбка – легкая, еле заметная, как будто сама себе улыбается.
– Ты что… прямо вот так – пойдешь?!
– Как? – А взгляд невинный‑невинный.
– Ну…
– А что? Неприлично? Да не видно же ничего!
Купальник отжала и пошла, а сама смеется. И он за ней, как бычок на веревочке – куда, зачем? Не мог глаз отвести – такой походкой шла. Догнал, рядом пошел – еще хуже: глаз невольно останавливался то на округлостях груди в низком вырезе, то на мелькавшей в расходящемся запа́хе юбки белой ноге. А под юбкой‑то нет ничего! У него от одной этой мысли… в глазах темнело.
Остановились в заросшей аллее. Вокруг – никого. Марина к стволу липы прислонилась и посмотрела так, что… Ну, просто руку протяни и возьми!
Возьми меня, сейчас, здесь, возьми…
За руку возьми, уведи, забери с собой…
Жизнь мою возьми!
Я не могу больше, давай уйдем вместе, сейчас, вместе.
Леший шагнул вперед, руки на дерево положил над ее плечами – липу обнял, не Марину! У нее глаза потемнели, сама бледная, и губы вздрагивают. Леший даже не дотронулся, только смотрел на ее рот, а она ресницы опустила и не то всхлипнула, не то простонала – как будто на самом деле поцеловал.
И тут вдруг совсем близко где‑то – звонкие детские голоса! Как холодной водой обдало. Лёшка опомнился: дочка, жена – вон рядышком, за плотиной. Дымарик, провались он совсем! Так и не поцеловал, не осмелился – боялся, не остановится.
Он отодвинулся и забормотал, чувствуя, как жалко это все звучит:
– Прости, прости меня, прости, я не могу, нет! Пусть я и знать не буду, какая ты! А то я не выживу, если хоть раз… Я дальше жить не смогу без тебя. И развестись я не могу, она мне девочку не отдаст, и так встречаться не получится. Я ведь все равно скрыть не смогу. Я врать совсем не умею, вот такой я дурак. И все равно она узнает, и тем же самым и кончится все. Марина, как быть? Что же делать?..
Марина посмотрела на него, прямо в глаза, потом голову опустила. Постояла. Повернулась и пошла, потом побежала, изо всех сил побежала, подобрав подол. И не остановилась, не оглянулась. А он остался – дурак‑дураком. И вроде бы день был солнечный, яркий, а ему казалось – тьма египетская. Так больно было.
Прибежав в номер, Марина заметалась: стала торопливо собирать вещи, которые уже успела разложить. Где сумочка?.. Зонтик?.. Какая‑то книжка была? Там, у липы, она испытала самый сильный в своей жизни порыв желания, и оно, неудовлетворенное, не проходило, жгло ее изнутри так, что ей казалось – кожа дымится! Она переодевалась на ходу: скинула юбку и майку, скомкав кое‑как, запихала в сумку вместе с мокрым купальником, стащила с вешалки платье, надела прямо на голое тело – наизнанку, сняла…
– Марина! Что… что случилось?! Что с тобой?!
– Я уезжаю. Всё. Всё кончено. Это была ошибка, я не могу, я говорила тебе, я не могу. Не могу, пусти меня! Пусти! Всё кончено!
Но Вадим не пускал:
– Марина, подожди, ну куда ты пойдешь в таком состоянии? Приди в себя.
– Пусти!
– Ты уедешь, уедешь, я сам тебя провожу на станцию, только успокойся. Объясни, что случилось, ну! Ты что… ты виделась с ним?
Вадим держал ее за голые плечи – Марина смотрела на него, не видя:
– Он не захотел меня… не захотел… не захотел…
У нее начиналась истерика, и Дымарик с силой прижал ее к себе, Марина отбивалась, потом перестала. Он не выдержал и поцеловал ее дрожащие от рыданий губы – поцеловал раз, другой, а Марина вдруг ответила с такой страстью, какой Дымарик в ней и не подозревал. Задыхаясь от нетерпения, он повалил ее на кровать, а она целовала его сама, так впиваясь воспаленным ртом, что оставались отметины от зубов. Дымарик с трудом справлялся с ней, и когда, наконец, сумел попасть в такт ее судорожным движениям, услышал, как она шепчет – стонет – кричит:
– Лёшенька… Лё‑оша… Лёшаааааа!
Но даже это его не остановило.
Лежа на спине, весь мокрый от пота, Вадим думал, что крики Марины были наверняка слышны на улице. Покосился на нее – как мертвая, даже дыхания не слышно. Он осторожно протянул руку – потрогать пульс на шее – Марина дернулась, как от удара током и резко села. Не оборачиваясь, сказала ровным тоном:
– Это хуже, чем на лестнице. Я тебя ненавижу.
И ушла в душ.
Но себя она ненавидела еще больше.
Остаток дня Марина пролежала на постели лицом к стене. С Дымариком она не разговаривала. «Может, утопиться? – думала она. – Вот прямо сейчас, встать, пойти и утопиться. С плотины, там глубоко». Потом вспомнила – мама. Мама не переживет. Придется как‑то существовать дальше.
Леший не спал всю ночь. Отлежав бока, он наконец догадался встать. Взглянул на спящую Маргаритку, вздохнул и вышел в сад покурить, потом пошел через плотину на ту сторону, к дому отдыха – зачем, неизвестно. Как ни пытался он придумать какое‑то решение этой головоломки, этого узла, в который неожиданно сплелась его жизнь, не получалось никак. Горько усмехнувшись, он вспомнил школьную задачку про волка, козу и капусту – только кто волк?
А может, плюнуть на все? Пойти и забрать ее? Вот прямо сейчас, посреди ночи! И пропади все пропадом! Мать их примет, она поймет. Но стоило ему представить, что он не увидится больше с дочкой – а Стелка это непременно устроит, к гадалке не ходи! – как у него начинало болеть сердце. Как жить‑то, как?!
На следующий день на станции он все искал Марину глазами, но так и не увидел – они с Вадимом уехали гораздо раньше.
Электричка была переполнена, пришлось стоять в тамбуре, потом народ рассосался, и удалось сесть. Марина смотрела в окно пустыми глазами и думала: это все, конец. Конец всему. И колеса, казалось ей, стучали в такт: ни‑ког‑да, ни‑ког‑да, ни‑ког‑да. Дымарик проводил ее до дому, хотя Марина, похоже, его просто не замечала. Он ушел, даже не надеясь скоро ее увидеть и не зная, что делать – Вадим все время вспоминал вчерашнюю близость и задыхался от отчаяния: неужели… больше никогда?! Марина позвонила сама через три недели:
– Вадим, мама вся какая‑то желтая! Даже белки глаз.
– Желтая?! Немедленно приезжайте!
Срочно легли в больницу, врачи все что‑то обследовали и обследовали, все почему‑то не выписывали и не выписывали, а мама все худела и худела. Дымарик помогал как мог, а в один совсем не прекрасный вечер вдруг приехал к Марине домой – она, как только увидела его лицо, поняла: все плохо.
– Что?! Рак, да?
– Да. Рак поджелудочной. Неоперабельный.
– И… сколько?..
– Полгода. От силы – год.
Марина окаменела от ужаса, горя, от ощущения собственной вины: просмотрела, не доглядела, упустила! Дымарик осторожно обнял ее, погладил по голове, она далась, но потом отстранилась и ушла в комнату. Он заглянул – так и есть, лежит, свернувшись клубочком. Он сел рядом.
– Не уходи, ладно?
– Я не ухожу, я здесь.
– Ты голодный? Там ужин есть, поешь…
– А ты?
– Я ела.
Он дал ей успокоительное, накрыл пледом, посидел рядом, пока не заснула, потом ушел на кухню – лечь в комнате Виктории Николаевны он не рискнул. На кухонном диванчике Дымарик задремал и проснулся от вспыхнувшего света:
– Что ты тут мучаешься? Иди ляг по‑человечески.
Марина расправила кровать, он лег – и она рядом, но на самом краю.
– Ты же свалишься, иди сюда!
Он нежно привлек ее к себе, она послушно повернулась – у него дрогнуло сердце: господи, как же хорошо было раньше, до этой чертовой лестницы! Марина заплакала тихонько, уткнувшись ему в бок, а он просто гладил ее по голове – но так и не рискнул ничего сказать. Вадим вдруг почему‑то вспомнил, как в далеком‑далеком детстве бабушка пела ему – совсем маленькому! – песенку, от которой он сразу начинал плакать, потому что не мог, не мог… Не мог вынести чувства, которое его одолевало, и которое он и сейчас не знал, как назвать: жалость? Нежность? Жажда любви? Но чувство это было настолько больше его маленькой души, что она болела. И теперь, держа Марину в объятиях – такую близкую и такую невозможно далекую, – он чувствовал то же самое, и был совершенно беззащитен, и ком стоял в горле, не давая дышать: «Ходит котик по лавочке, водит кошку за лапочки, топы‑топы по лавочке, цопы‑цопы за лапочки…»
Ну что ж ты плачешь, дурачок?..
Марина знала, что без Дымарика бы не справилась – он договаривался с врачами, добывал лекарства, навещал маму, которая все не догадывалась, в чем дело, хотя Марине казалось – посмотри в зеркало, и все станет ясно! Но мама смотрела и не видела своей ужасающей худобы, ей все казалось: вот‑вот, еще другое лекарство, еще какие‑то процедуры, и она пойдет на поправку. Марина изо всех сил поддерживала в ней эту иллюзию и даже Дымарик, который считал, что лучше все знать сразу, поддакивал. Он ни слова не говорил Марине о своих чувствах и желаниях, хотя она видела, как он на нее смотрит, и понимала: он ждет… благодарности. Пришел однажды вечером, принес ей каких‑то витаминов, успокоительных:
– Я тебя прошу, принимай это, хорошо? А то ты совсем дошла, а все еще только начинается. Дальше будет хуже, тебе понадобятся силы… Марина!
– Я слышу. Хорошо. Ты будешь ужинать?
– Да, если можно.
– Почему же нельзя?
Он вдруг взял ее за руку:
– Марина, пожалуйста! Марина…
Глаза у него были как у голодной собаки.
– Что, ты так меня хочешь?
– Да!
– И тебя не смущает, что я тебя больше не люблю?
– Нет.
– И тебе все равно, что я люблю другого человека?
– Все равно.
– Все равно?! И каково тебе, когда я кричу его имя, пока ты меня?..
– Все равно! Люби, кого хочешь, спи, с кем хочешь, только… хоть иногда… не отталкивай меня…
– Ты вообще сам себя узнаешь?! Что с тобой? Разве можно так!
В ней боролись противоположные чувства: жалость и ненависть. Ей все время хотелось сделать ему больно – и все время было его жалко, потому что он такой же, как она. Раненный любовью.
– Я не могу без тебя жить, – сказал Дымарик, закрыв лицо ладонями.
– А я не могу без него жить. И что нам делать?
– Я приму любую милостыню. Пожалей меня! Просто – пожалей! Пожалуйста…
– Милостыню! Ну ладно. Пойдем.
«Пойдем, я расплачусь с тобой», – думала Марина, глядя, как осветилось его лицо. Так оно и пошло – Марина уступала Вадиму время от времени, но то, что случилось в Суханове, ни разу больше не повторилось, как он ни надеялся. Марина была совершенно безучастна, и Вадим иногда думал, что с таким же успехом мог бы любить резиновую куклу – а может, и с большим успехом, потому что кукла уж никак не стала бы смотреть на него в самый неподходящий момент с брезгливым любопытством или с холодной насмешкой. Марина же просто пережидала Дымарика, как пережидают приступ мигрени – пройдет когда‑нибудь. Она думала о чем‑нибудь совершенно постороннем, о необязательных пустяках, а иногда ей удавалось даже так отрешиться от происходящего, что она видела все как бы со стороны: паря в воздухе, она с легкой гадливостью наблюдала, как Дымарик трудится над ее бесчувственным телом, и думала: как нелепо это выглядит! Даже мерзко.
Маму наконец выписали, и она воспряла духом: дома и стены помогают! Но стены не помогали. Марина цеплялась за все, что давало хоть какую‑то иллюзию улучшения, Дымарик приходил так часто, как только мог, потому что Виктория Николаевна успокаивалась от одного его присутствия. Порой он оставался ночевать, и Марина чувствовала себя как загнанный зверь, обложенный со всех сторон, – волчица, рысь, дикая кошка. Даже 31 декабря Дымарик ухитрился прийти к ним – первый раз Марина встречала Новый год не вдвоем с мамой. Виктория Николаевна полусидела в постели, Марина накрыла рядом маленький столик, сама устроилась с ней, Вадим – напротив. Елка, шампанское, фейерверки за окном, бой курантов. Праздник. Горе.
Мама выпила шампанского – чуть‑чуть можно, сказал Дымарик, отведя глаза, – и захмелела от одного глоточка. Она смотрела на них влажным взором, и Марине пришлось сесть рядом с Вадимом, потому что маме хотелось видеть обоих сразу.
– Я признаю, что была к вам, Вадим Павлович, несправедлива…
Марина ужаснулась – только не это, нет!
– И если вдруг Бог даст, я бы с удовольствием погуляла на вашей с Мариночкой свадьбе…
– Мама! Ну что ты говоришь!
– Конечно, Виктория Николаевна, обязательно. Все так и будет.
Марина, схватив какую‑то тарелку, вышла на кухню. «Я его брошу тут же, как только… Сразу и брошу!» – думала она, не договаривая до конца, потому что договорить, выговорить, подумать эти слова – «когда мама умрет» – было чудовищно и непоправимо.
Шли неделя за неделей, месяц за месяцем – как один бесконечный день, заполненный болью, состраданием, тоской и ожиданием неизбежного. А потом настала та страшная августовская ночь, когда маму забрали на «скорой», и медсестра на регистрации в ответ на ее слабую жалобу – что‑то мне совсем нехорошо! – равнодушно ответила: что ж вы хотите, у вас рак. Мама умерла к утру. Оттого, что ее не было рядом с матерью, Марина испытывала такое сокрушительное чувство вины, что просто не знала, как жить дальше.
– Почему? Почему они не пускают к умирающим? Какая уже разница?! – кричала Марина Дымарику, тщетно пытавшемуся ее успокоить. – Я бы за руку ее держала, я бы могла проститься, поцеловать, глаза… глаза закрыть…
В конце концов, Вадиму пришлось сделать ей укол, и Марина проспала целые сутки. Потом Дымарик договорился и положил ее в стационар – Марина провела месяц «растительного существования» – только ела, гуляла в парке при клинике да спала, даже ничего не читала. В конце концов, Марина как‑то сумела загнать горе в глубину души, где оно лежало черным ледяным камнем, замораживая – или выжигая – ее изнутри. Вадима она старалась избегать, но он все время маячил на горизонте, как маячит неподвижная луна в окне быстро идущего поезда.
Она даже не думала про Алексея. Хотя нет, думала. Конечно же, думала! Но как о чем‑то совершенно недоступном, как о той же луне – думай не думай, что толку.
Марина брела по жизни словно сомнамбула, спасаясь одной только поэзией, сутками повторяя, как заклинание, какие‑нибудь привязавшиеся строки, бессознательно переиначивая их, прилаживая к своей больной душе, заговаривая боль. Она машинально убиралась в квартире, машинально разбирала книжные полки и антресоли, выбрасывая какое‑то накопленное за всю жизнь барахло, и прилежно вязала бесконечную шаль – шевеля губами, считала петли и чувствовала себя одной из мойр[1]: Клото пряла нить человеческой жизни, Лахезис распределяла судьбу, Атропос перерезала нить жизни, а она сама – четвертая, не предусмотренная мифологией – запутывала нить судьбы, заплетая ее в кружева.
Дымарик приходил, приносил ей цветы, фрукты, лекарства, книги, с недоумением оглядывал все пустевшую и пустевшую квартиру – больше всего Марина мечтала выкинуть диван, на котором с ней спал Вадим, и мамину кровать. Вадим же все на что‑то надеялся, хотя Марина его почти не замечала и смотрела сквозь него, не видя, как умеют смотреть кошки, когда им ничего не нужно от человека, и он чувствовал себя невидимкой. Порой, когда Марина протягивала руку за чем‑нибудь – за ножницами, за расческой – Вадиму казалось, что ее рука пройдет сквозь него, словно он бесплотный призрак.
Принесенные им цветы вяли в пустых вазах, нетронутые фрукты плесневели, лекарства она даже не распечатывала, книги так и лежали там, куда он их положил. Марина уплывала от него, как отколовшаяся льдина. Дымарик это видел, и все чаще и чаще вонзалась ему в сердце острая игла безнадежности, первый раз поразившая его, когда он увидел, как Марина и Алексей поют вместе, никого и ничего вокруг себя не видя…
У Вадима никогда не было такой юной любовницы. Нет, не так! У него никогда не было любовницы, которая была бы настолько моложе – почти на пятнадцать лет. Дымарику льстило, что она так обмирает, так трепещет, так волнуется при виде его. Сначала он ничего такого и не собирался затевать – просто любовался хрупкой, трогательной девочкой – сиянье глаз, коса чуть не до колен, нежный румянец, застенчивая улыбка. А потом он увидел, как она сосредоточенно ест шашлык, скосив глаза к носу от усердия, и облизывает розовым язычком губы, испачканные соусом – увидел и погиб. Это ж надо, влюбиться в девушку из‑за того, как она ест шашлык!
Ему не пришлось даже ее завоевывать – стоило только провести рукой по волосам, по долгой косе, как Марина покраснела и посмотрела на него жалобным взглядом. Он не верил своему счастью: чистая, неискушенная, наивная – он думал, таких больше «не выпускают». Марина совсем не сознавала собственной красоты и женственности, а Дымарик, наблюдая, как мужчины заглядываются на нее, преисполнялся гордости: все ее хотят, а она – моя! Как ему нравилось морочить ей голову, держать в строгости, смущать – Марина слушалась и шла на все, лишь бы Дымарик был доволен. Она всего стыдилась – порой до слез, – и он иногда доводил ее нарочно, чтобы потом утешать. Марина становилась такой трогательной, когда смущалась или плакала! Дымарика просто поражало ее пуританское воспитание: ему с большим трудом удавалось разжечь в ней хоть какое‑то пламя чувственности, но ему это не мешало, а, наоборот, даже нравилось. Он долго разыскивал среди пушкинских стихов строки, которые еще в юности поразили его и вспомнились после первой же близости с Мариной. А когда нашел, захохотал, швырнув красный томик на диван, и долго потом называл Марину «смиренница моя»:
…О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда, склоняяся на долгие моленья,
Ты предаешься мне нежна без упоенья,
Стыдливо‑холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему
И оживляешься потом все боле, боле –
И делишь наконец мой пламень поневоле!
Он давно уже жил «в свободном полете»: жена занималась наукой, ребенок рос по бабушкам‑дедушкам, а сам Вадим, в отличие от жены, всегда умел разделять «мух» и «котлеты» и сразу забывал о рабочих проблемах, закрыв за собой дверь клиники. Все друзья у него были совершенно из других сфер – театры, выставки, застолья, походы, шашлыки, девушки, девушки и девушки…
Потом все свелось к единственной девушке, и сначала он сам себе не признавался, что попался. Вадим всегда знал про себя, что не сентиментален, ироничен, даже жёсток, как многие врачи, и только узнав Марину, стал вдруг замечать в себе какие‑то непривычные проблески нежности – постарел, что ли? Он изо всех сил старался, чтобы она не догадалась, как сильно на него действует ее детская непосредственность, трогательная наивность и рабская преданность. Но Марина так порхала вокруг него, что он все чаще стал задумываться: а может, развестись, наконец, с женой и жениться на Марине – года через два‑три, когда сын закончит школу и поступит в институт? К тому времени умрет уже, должно быть, мачеха Серафима Алексеевна, которой и так уже почти сто лет, – умрет и освободит для него завещанную квартиру. Мачеха, правда, умирала последние лет пятнадцать, но не будет же она жить вечно!
А пока придется, пожалуй, поселиться у Марины – когда они поженятся, Виктория Николаевна уже не сможет относиться к нему так неприязненно, и вообще, Марина чересчур зависима от матери, хотя это и неплохо, что она прошла такую школу. Конечно, она захочет ребенка – он видел, как она оглядывается на младенцев. Это была проблема, но Дымарик пока не думал, как ее решать: после первых родов жены он сделал вазэктомию. Рожала она очень трудно, с тяжелыми последствиями, детей они больше не хотели – да Дымарик не очень их и любил, с трудом находя общий язык с собственным сыном.
Все рухнуло в одночасье – все мечты и планы. На выставке Дымарик еще ничего не заметил, но в гостях у Татьяны… Он сразу понял, что Алексей из кожи вон лезет, чтобы произвести впечатление на Марину, однако не обеспокоился – так бывало не раз, и Марина раньше в таких случаях всегда как‑то пугалась и приходила к нему спасаться. Но это было раньше. Вадим просто не поверил своим глазам, увидев, как они поют дуэтом, – да если бы они прямо занялись при всех любовью, это не выглядело бы так откровенно и непристойно! Вадим смотрел на Марину, чувствуя ужас и… возбуждение: кто эта женщина?! Я ее не знаю! Но как хороша!
Он просто не мог с собой совладать – у него словно что‑то сломалось внутри, какой‑то предохранитель, который позволял ему держать себя в рамках. И чем больше Марина отбивалась от него на лестнице, тем больше он возбуждался – он никак не подозревал раньше в ней такого темперамента и такой силы. Протрезвев, он решил сделать вид, что ничего особенного не произошло, и надеялся, что обойдется, хотя видел, как Марина от него шарахалась в такси – как от прокаженного. Но она была так покорна раньше!
И только когда Марина захлопнула перед ним дверь, Дымарик понял: он ее потерял. Он потерял и себя: именно тогда в нем сломался второй «предохранитель» – тот, что назывался гордостью. Но Вадим и представить не мог, как глубока та пропасть, в которую он сорвался. После того, что произошло в Суханове, после того, как он увидел, какой может быть Марина, он совсем заболел. Сердце, голова, суставы, мышцы, жилы, нервы, кожа – все ныло, как ноет больной зуб, и даже редеющие волосы на голове, казалось ему, тоже болели! Он был врач и знал, что ТАК болеть не может ничто в человеческом теле. Болела душа.
Когда Марина «подавала» ему, как нищему, грошик жалости, хотя жалостью там и не пахло, он бывал так мучительно счастлив – вот когда аукнулся Пушкин! – что никак не мог отказаться от этих неестественных отношений, прекрасно понимая, что Марина мстит ему за свою незадавшуюся любовь. Иногда, дойдя до последней степени отчаянья, он пытался бунтовать: «Что ты со мной делаешь, я же люблю тебя, ты мне нужна, ты – не одно твое тело, ты, ты сама!» «Не хочешь – не надо, мне все равно», – говорила Марина, и он опять ползал на коленях, не в силах постичь, как дошел до такого унижения. Но как он ни старался, как ни мучился, конец был неотвратим: то, что Марина его бросит, как только не станет Виктории Николаевны, Вадим осознавал. На работе он еще держался – спасал профессионализм, но дома… В конце концов, не выдержала жена:
– Вадим, мне это надоело. Давай разведемся, я видеть не могу, как ты мучаешься!
Он посмотрел на нее больными глазами:
– Света, я ей не нужен.
– Тогда возьми себя в руки! Мне ты тоже такой не нужен. И вообще, показался бы врачу – очень плохо выглядишь.
Он усмехнулся:
– Я сам врач, ты забыла? Да и ты тоже, если уж на то пошло.
– Я теоретик, ты же знаешь, а ты сам себя лечить не можешь. Сделай хотя бы кардиограмму!
– Кардиограмму? Да, кардиограмма уж точно поможет…
– А вообще‑то по тебе психиатр плачет!
Он наконец решился, потому что сил больше не было никаких, и лучше пусть смертный приговор, чем эта неопределенность. Хотя какая там неопределенность! Все давно ясно: топор наточен и палач засучил рукава.
Вадим приехал к Марине с букетом бледно‑желтых роз, хотя знал – выбросит, и, чувствуя, как ноет под левой лопаткой, спросил, заранее зная ответ:
– Мы разводимся с женой. Ты выйдешь за меня?
– Нет.
– Марина, но ведь было же у нас с тобой что‑то хорошее? Помнишь, как мы на пароходике катались? А в парке – помнишь? Сирень цвела? А в Симеиз ездили, разве нам там плохо было, а? Марина, девочка моя! Пожалуйста! Ты же все равно одна, так почему бы?..
– Что толку вспоминать прошедшее? Той Марины больше нет. Она умерла. Зачем тебе мертвая? Или тебе и это – все равно?
– Значит – нет?
– Нет.
Вадим посидел, опустив голову, потом встал и ушел. Он умер через неделю – упал прямо на улице, в двух шагах от собственной клиники. Народу на Пироговке в этот час было мало, и Вадим долго лежал поперек тротуара, пока его не обнаружил вышедший покурить охранник. Но было поздно. Последнее, что видел Вадим, перед тем как успокоиться навсегда, была светлая девочка в короткой белой юбочке – перекинув косу на грудь, она шла к нему навстречу по Пироговке и улыбалась, а вокруг ее головы просвечивала на солнце дымка из тонких, чуть вьющихся волос. Была середина июня, и по всей Пироговке цвела в палисадниках клиник персидская сирень и белый жасмин…
Татьяна Кондратьева жарила котлеты, когда раздался телефонный звонок. Чертыхнувшись, она убрала с огня сковородку и взяла трубку.
– Тань, ты представляешь? Он умер.
Марина говорила совершенно спокойно, только очень медленно, а голос звучал удивленно и время от времени прерывался, как будто она того гляди засмеется – или заплачет.
– Кто… умер?!
– Вадим. Я так хотела, чтобы его не стало, и вот он умер. Я ничего не знаю, а она говорит – похороны завтра. А разве я могу пойти на похороны? Я не могу. И он говорит, это я его убила. А ведь так и есть…
– Марин, подожди, ничего не понимаю! Кто говорит?!
– Сука, он сказал. Правильно, я и есть сука…
– Так, ты где? Дома? Вот и сиди на месте, я сейчас приеду! Ничего не понимаю…
Татьяна оставила недожаренные котлеты на недоумевающего Серёжку и помчалась к Марине. Та открыла дверь и сразу заговорила – у Татьяны было ощущение, что все это время Марина так и разговаривала сама с собой:
– Представляешь? Я ничего не знаю, а она мне говорит – отпевание в Новодевичьем, а я и не знала, что он крещеный, а похороны на Ваганьково, а он говорит, это ты его убила, сука, а я сука и есть, я не хотела, чтобы он был, и вот его не стало, а я его неделю не видела и так радовалась, думала, наконец он понял, наконец оставил меня, а он и правда оставил, и теперь уже все, и я никогда… никогда… никогда! Ничего не исправлю. Ничего… ничего… ничего… не осталось… от него… ничего!
С огромным трудом Татьяна вытянула из нее, что случилось:
– Мне его жена позвонила. Здравствуйте, говорит, вы Марина, а я – Светлана Петровна, жена Вадима Павловича Дымарика. Вернее, вдова. – Как вдова? А она – вы не знаете, Вадим Павлович скончался позавчера.
– Боже… – прошептала Татьяна.
– Как скончался? Инфаркт. Умер прямо на улице. И она так спокойно все это говорит. Она тоже врач. Отпевание завтра в Новодевичьем, похороны на Ваганьково. И слышу, кто‑то там еще рядом кричит: это ты с кем говоришь? С этой? Трубку у нее вырвал и мне в ухо: это ты его убила, сука! Чтоб ты сдохла! Сын…
Татьяна собрала кое‑какие вещи и увезла Марину с собой, а на следующий день осталась дома, отпросившись с работы: она думала, может, все‑таки пойти на похороны, но, увидев Маринины глаза, представила, как та завоет над гробом. Никуда они не пошли. Ближе к вечеру Татьяна накрыла на стол: давай помянем раба Божьего Вадима. Выпили, не чокаясь.
– Вот и все, – сказала Марина. – Был человек – и нет его.
Протянула руку, взяла, не глядя, что попалось на тарелке. Оказалось – соленый огурец. Посмотрела на него диким взглядом и сжала кулак так, что огурец раздавился и потек у нее сквозь пальцы зеленоватой жидкой кашицей, потом встала и вымыла руки. Потом, посидев, еще раз вымыла. И еще. Татьяна смотрела с тревогой.
– Я прямо как леди Макбет, – сказала Марина, заворачивая кран с холодной водой в пятый раз.
– Марин, ты о чем?!
– «И шотландская королева напрасно с узких ладоней стирала красные брызги в душном мраке царского дома».
– Марин?..
– Это Ахматова. Тань, ты не бойся, я в здравом уме! – она говорила своим обычным тоном, да и выглядела спокойной, только в глазах стояла такая тоска, что Татьяна горько вздохнула:
– В здравом, конечно…
– Правда. Правда… правда в том, что я его убила.
– Марин!
– Тань, ты не знаешь ничего. Ни‑че‑го. Я последние два года прожила как в аду. Сама горела и ему ад устроила. А он… он просто любил меня, и все. Только я – не любила. Он ко мне – с любовью, а я к нему – с ненавистью. А так нельзя. Теперь я опомнилась – а ничего не исправишь, поздно. И ты знаешь, я себе все время маму напоминала – ты же знаешь, какая она была! Я с ним разговариваю… когда еще разговаривала… и ловлю себя на маминых интонациях – помнишь, как она умела? Я же сама от этого страдала всю жизнь! Как я могла? Не понимаю. Словно это не я была. И как мне теперь жить, Тань, как? Я не знаю…
А Татьяна смотрела на нее и думала: «Сказать ей? Не говорить? Как лучше? Может, чуть погодя, когда в себя придет?» И не сказала. Но полтора месяца спустя все‑таки уговорила Марину поехать с ними в деревню – Серёжка только головой качал: «Не лезла бы ты в это дело!» Увидев Марину на вокзале, они дружно ахнули: от косы не осталось и следа, а на коротко стриженных, потемневших с возрастом волосах явно выступала седина. Леший ее не узнает – думала Татьяна.
Он и не узнал.
Часть вторая. К другому берегу
Леший только ближе к вечеру окончательно осознал, что Марина – здесь! Не выдержал, побежал к тому дому, решил зайти, вроде посмотреть, как устроились: ребят уже уложили, сами чай пили.
– Леший пришел! Чайку? – спросила Татьяна.
– Можно…
А сам на Марину покосился: как она, что? И расстроился – опять все то же: взгляд отрешенный, смотрит – не видит.
– Ну что, за грибами‑то когда пойдем? – поинтересовалась хозяйственная Танька. – Есть грибы‑то?
– Есть, много! Черники полно, брусника только начинается, – кивнул он.
– Давай послезавтра? – спросила Татьяна.
– Давай.
– Пока обустроимся, пока что… – Татьяна поставила перед ним чашку с чаем.
– Ну да, – согласился Леший.
– А рыба как? – включился Серёга, завзятый рыболов.
– Да вроде есть. Ты ж знаешь, я рыбак тот еще!
Потом Леший отправился к любимой березе‑пятисвечнику, на закат смотреть. Старая береза, огромная – пять стволов вместе растут из одного корня. Сел, пригорюнился. А вокруг, как нарочно, такая картина, что хоть беги за этюдником: на западе ярко‑голубое небо с золотыми облаками, на востоке – растяжкой сверху вниз – от голубого к синему, и облака розовые, а в южной стороне – четвертинка растущей серебряной луны в лиловых облаках. Леший смотрел, как постепенно всё менялось, и краски словно перетекали одна в другую: золотое – в розовое, розовое – в лиловое, лиловое – в синее. И темнело, темнело. Луна набухала, наливалась красным золотом, все ниже наваливалась на лес, пока не завалилась совсем. Звезды появились. Прилетела из лесу сова, бесшумно и плавно облетела березу по кругу, разглядывая Лешего. Еще какая‑то птица полетела через реку, быстро‑быстро махая крыльями. Тихо. На востоке желтая звезда зажглась. «Может, наладится все как‑нибудь, а?» – спросил у звезды. Может быть.
Вернулся к себе в избу, посмотрел на себя в зеркало и сбрил к чертовой матери отросшую, как у настоящего Лешего, бороду. Вид получился на редкость дурацкий – лоб и щеки загорелые, а подбородок бледный. Расстроился окончательно и лег спать. Ребята, конечно, посмеялись над ним с утра, а Марина и внимания не обратила.
Неделя пролетела – не заметили: уборка‑разборка, рыбалка, грибы‑ягоды. Пару раз Лёшка с ними ходил, водил за грибами в дальний лес. В накомарниках жарко, но куда деваться – комары заедят. Лёшку почти не кусали, а на этих, свеженьких, так и кидались. Серёга раз сходил – ну вас, говорит, с вашими грибами, я лучше рыбу буду ловить. Как будто там комаров меньше. Но красота такая в лесу, что провались эти комары: густые мхи аж пружинят под ногой, а по цвету – каких только нет оттенков зеленого! А на мхах стоят ярко‑желтые сыроежки, каждая с хорошее блюдце, червивых много, правда. У черники веточки зеленые и бордово‑желтые, а ягоды и круглые, и продолговатые: черные, синие, голубые, крупные, как вишни. Брусника еще недозрелая, но ягодка в темном малахите листвы как рубиновая горит, хорошо! Под дождь попали, пережидали под сосной. Сразу и солнце засияло – весь бледно‑зеленый ковер мха засверкал вдруг бриллиантами капелек, засиял радужными вспышками. Лёшка позвал Марину:
– Посмотри‑ка!
В самой чащобе, в зеленом сумраке стоял гриб удивительной белизны, настолько белоснежный, что даже сиянием окружен, белым свечением, как нимбом.
– Ой! Как красиво! Светится! Что это за гриб такой?
– Да поганка какая‑нибудь…
– Пога‑анка? – удивилась.
Потом след ей медвежий показал на лесной дороге, в глине – огромный! Поставил ногу в сапоге 45 размера, так еще место осталось.
– Нет, правда – медведь?
– Правда! Видела – кое‑где ягода объедена вместе с листьями? Это зверь поел, медведь. Ребята чего так орут – отпугивают.
– Врешь ты все…
– Испугалась? Не бойся, он не подойдет, нас много!
И как будто что‑то прежнее между ними замерцало – словно сияние от белого гриба! Потом погасло.
Марина бродила по лесу как зачарованная – Лёшка все следил за ней издали, присматривал. Словно у него в сердце компас был, а Марина – магнит: всегда знал, где она, в какой стороне. И все время думал, думал… И в лесу думал, и дома, в деревне. Что думал? Сам не знал. Ворочались мысли, как тяжелые глыбы.
К Марине подходить боялся. Видел издали – то за водой пройдет, то с ребятами играет, то еще что. Обедал у них пару раз – Марина почти не говорила, все молчала. Сердце сжималось. Ночью не спалось, выходил звезды считать к любимой березе: старое дерево, мудрое, посидишь, вроде поумнеешь. Кошка с ним вместе гуляла, подружка. Разговаривал с ней, да что толку от кошки. В воскресенье собрались прошедший Лёшкин день рожденья отметить. Татьяна пирогов напекла с грибами, рыбой, ягодой. Суетились, бегали туда‑сюда с тарелками‑табуретками. Уселись наконец.
– Лёш, тебе чего – квасу?
– Водки налей.
– Водки?! – прищурилась на Лешего Татьяна.
– Тань, все нормально. Ну, поехали!
Чокнулись разномастными стаканами и стопками. Марина – как воды отпила, не сморгнула. Не мог видеть ее бледное лицо, пустые глаза. Залпом выпил, сморщился – давно не пил. Потом еще стопку. Почувствовал, что захмелел, расслабился. Отпустило слегка. Хохотал о чем‑то с Серёгой, пугал мелкого Сергеича, делая страшные рожи – тот визжал с восторгом. Деревенские новости рассказывал:
– Егорыч в Череменино перебрался.
– А тетя Маша как? – спросила Татьяна.
– Да тоже думает. Тяжело ей одной с хозяйством‑то! Уедет – совсем деревня умрет, одни мы, дачники, останемся.
– Ну, ты‑то не дачник! – возразил Серёга.
– Да что я?.. так. Стареет тетя Маша. Забывать стала много. Потеряет что‑нибудь, ходит, вздыхает: вот и думай, вот и гадай – то ли рукастый, то ли зубастый…
– А кто это – рукастый‑зубастый? – испуганно спросил младший Кондратьев.
– Да мало ли тут нежити! – сказал Леший.
– Да ладно тебе! – отмахнулась от него Татьяна.
– И ничего не ладно! Мне лет десять было, когда первый раз сюда взяли. А тут так строго – к вечеру всех мелких по домам загоняли. Как закат – домой. Строжайше. Ну и ноешь, бывало: «Я еще поигра‑аю!» Нет, нельзя. Почему? Тут отец и рассказал страшилку эту, мать потом ругалась: что ты ребенку голову забиваешь, пугаешь.
– Что за страшилка? – нахмурился Серёга.
– Ну, играл мальчонка деревенский на лугу вечером. Заигрался. И вышла к нему из лесу женщина. Вся в черном и босая. Подошла, за руку взяла, а мальчик с ней и пошел. И пошел, и пошел – как зачарованный. Так чуть было в лес не увела. Насовсем.
– А как же он спасся? – разволновалась Татьяна.
– Вспомнил – молитву прочел, тетка и рассыпалась. Это Вечерница была. Такая нежить. Они на закате выходят, детей забирают. Потому и не пускали ребятню гулять по вечерам. И так мне красочно отец рассказал, так страшно, что я еще тогда подумал – а не с ним ли самим это случилось? Боялся потом. Как к ночи – страшно! Даже к отцу приставал: научи меня молитве.
– Научил? – спросил у Лешего Серёга.
– Ну да – Отче наш. Только и знаю.
– А ты крещеный? – задал Серёга следующий вопрос.
– Нет, наверное. Отец партийный был, вряд ли. Не знаю.
– Может, в деревне окрестили? – сказала Татьяна.
– В деревне? Где вы тут церковь видели? Был когда‑то храм на этом берегу, отец рассказывал, но сами и разрушили, местные, в тридцатые годы. А теперь – только в Кенженске, да еще в Макарьеве… Так что никакой тут святости не осталось, одна нежить.
Леший говорил, а сам все на Марину посматривал: слушает, нет? Слушала.
– А в Кенженске икона в храме необычная: «Утоли моя печали». Такой Богородицы нигде больше не видел. Я доску реставрировал. Икона на очень тонкой доске написана, ее выгибало все время. Пришлось дублировать, шпонки ставить…
– Утоли моя печали… Красиво, – тихо сказала Марина, и у Лешего дрогнуло сердце. Он затарахтел еще бойчее:
– А вот еще – москвичку помните?
– Тетка такая лихая? – вспомнил Серёга.
– Ага! Она этим летом была, так, говорит, лешего видела!
– Тебя, что ли? – рассмеялась Татьяна.
– Да правда, настоящего! – сказал Леший.
– Ла‑адно! – отмахнулась от него Татьяна.
– Лохматый такой, говорит, зеленый! Егорыч на лодке отвозил ее в Череменино, к самолету. Дала ему бутылку за провоз, он открыл: там вода, а не водка! Матерился: пусть только приедет – ни одна собака ее не повезет!
– А питерских не было? – спросил Серёга, подмигнув Лёшке.
– Питерских?.. – не понял Лешка.
– Что за питерские? – это Татьяна.
– Да так, туристки, – нехотя ответил Лешка.
А сам Серёге исподтишка кулак показал: не трепи, мол, лишнего. В прошлом году тут были – приплыли на моторке три девки, крутые такие: блондинка‑толстуха, брюнетка и рыжая с челкой. С рыжей‑то он и переспал. Черт, Серёга напомнил не вовремя!
Леший оглянулся, а Марины нет – ушла. Выпил с горя, потом еще и понял – зря: последняя лишняя была. Кураж ушел, навалилась злая тоска. «А, напьюсь!» – подумал. Но Татьяна не дала: «Хватит! Остановись. И вообще – спать пора. Все, иди с богом!» Пошел, покачиваясь, к любимой березе, подышать. А там Марина, на звезды смотрит. С кошкой разговаривает – издали услышал:
– Ах ты, кошка! Ах, какая ты ко‑ошка! Ты такая смешная! Разве ты кошка? Ты енот какой‑то. Ишь ты, лапки у тебя черные, прям танцовщица из «мулен Руж». И пяточки черные! Давай ты со мной поедешь, а, кошка? Ведь не поедешь? Не поедешь…
Обиделся – с кошкой разговаривает, а с ним – ни словечка! Кошка, понимаешь…
– Кто там?!
– Это я.
– Леший!
Подошел, сел рядом.
– А где кошка?
– Убежала, забоялась.
– Меня… забоялась? Кошка? Моя же кошка… Меня… Предательница! Как все вы. Ба‑абы.
– Лёша, да что с тобой? Ты напился, что ли?
– А что со мной? Со мной все нормально. А с тобой вот что? Ты забыла меня?
– А ты меня – не забыл разве? Пойду‑ка я.
– Нет, подожди! Посиди. Ты что?.. Ты со мной совсем… говорить не хочешь?!
– Ну, давай поговорим. Ты давно здесь?
– Где?
– В деревне!
– А‑а… Третий год… Или второй? Забыл.
– Как третий‑второй? Ты что, все время здесь живешь, что ли?
– Ну да. Почти. То приеду, то уеду. Туда‑сюда. Мотаюсь как это… как его… в проруби.
– А… семья?
– Семья! Нету никакой семьи. Кошка, и все.
– Ты что… ты – ушел?
– Я ушел? Я ушел. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел! Ушел. Да. Развелся.
– Почему?
– Почему‑у… А вот это ты мне скажи – почему?
– Я – скажи?!
– Ну да! Ты – скажи! Ты же баба – вот и скажи, почему это вы так можете. Почему это так вот можно при живом муже… а?
– Она тебе что – изменила?
– Ну да, да, да! Сука…
– Подожди… как же это?
– Это вот ты мне и скажи – как? Как это можно – от одного беременна, за другого замуж, с третьим переспать, а?
– Я не знаю.
– А что ты знаешь? Как с женатым гулять – это ты знаешь?
– Это я знаю.
– А‑а! А про жену его – ты думала? Ей каково было, а? Как это можно…
– Не думала. Я пошла.
– Коне‑ечно… С горочки‑то кататься – одно, а саночки возить – другое. А теперь вот… Скорбь мировую изобража‑аешь.
– Ты! Знаешь что! Пошел ты!
И растворилась в темноте. А он остался – сидел, бормотал что‑то сам себе, то кошку звал, то кричал в темноту: «Марина‑а!»
Проснулся утром – не помнил, как домой пришел. Голова трещит: господи, и как развезло‑то, а выпил всего ничего. Что значит – отсутствие практики! Опохмелиться, что ли – нашел заначку, на всякий случай держал. Только хотел хлебнуть, вдруг ударило: вспомнил, как сидел с Мариной под березой и что говорил… А, чтоб тебе! Идиот! Придурок! Сразу все похмелье как рукой сняло: «Что ж я наделал‑то! Вот урод!» Надо идти улаживать.
Вышел, огляделся – и как нарочно: Марина идет к колодцу с ведрами. Подхватился и к ней. А у колодца – лошадь, Карька. Видно пить хочет – к Марине подошла, морду к ведру тянет.
– Лошадь…
– Не бойся! Она пить хочет. Это пастуха лошадь. Он ее пускает – она и ходит сама по себе. Сейчас, сейчас, лапушка, я тебе воды достану!
А сам счастлив, что лошадь эта затесалась: как с Мариной говорить после вчерашнего – не представлял! Посмотрел краем глаза – вроде она ничего. И глаза сияют, как у ребенка: ло‑ошадь!
Достал воды, налил. Карька пьет.
– Можно, я ее поглажу? Она не укусит?
– Погладь, ничего!
Осторожно погладила по челке. Карька напилась, мотнула головой, хвостом и величаво поплыла куда‑то.
– Какая! – восхитилась Марина.
– Хорошая, да, – подтвердил Леший.
Набрал еще воды, разлил по ведрам.
– Марин…
Молчит. Посмотрел – опять пустота в глазах.
– Марин, прости меня, пожалуйста, я вчера напился, наговорил всякого, прости! Я давно не пил, развезло с непривычки. Прости! Я совсем не хотел…
– Лёша, я не обиделась. Меня сейчас обидеть нельзя. Ты видишь, я каменная. Все отскакивает.
«Правда, как каменная, – подумал Леший, – и говорит – медленно, с усилием».
– Мне кажется, ударь ножом – лезвие сломается.
Марина повела рукой, как будто ножом полоснула. А Леший вдруг испугался. Схватил ее за руки – посмотреть на запястья. Она руки повернула – смотри.
– Нет, я вены еще не резала.
– Марин, ну ты что?..
– Я, Лёша, скорбь мировую не изображаю. Я жить не могу. Понимаешь?
– Ну, прости, прости ты меня, дурака! Прости!
– Бог простит.
– Марина! Я злился, да! Я на тебя спокойно смотреть не могу!
– Такая страшная?
– У меня сердце разрывается! Что ты с собой делаешь?!
– Я – ничего не делаю. Это со мной жизнь делает. Наказывает.
– Да не за что тебя наказывать, не за что!
– Значит, есть за что.
– Ну нельзя ж так! Скажи – что мне сделать?
– Не знаю. Может, само пройдет… когда‑нибудь.
Он просто не мог видеть ее такой! Как зомби. Была бы она – куколка, статуэтка, игрушка, картинка – давно бы починил! Знал – как. А тут живое! Как починишь?! Что сделаешь? Картинка… А вдруг?
– Марин, а ты не хочешь картины мои посмотреть, рисунки, а?
– Рисунки?..
– Пойдем? В гости ко мне?
– Ну, пойдем.
Оказывается, он все еще держал ее за руку – так и повел, как ребенка. Рука маленькая, хрупкая – как будто птичку держал. А ведь первый раз к ней прикоснулся. Дома засуетился, стал доставать одно, другое. Объяснять начал. Она смотрела и слушала.
– Вот эта – красивая.
– С Полунинского берега писал.
– И эта.
– На дороге к Гальцеву писал, после дождя, видишь – лужи. Так волшебно было! У меня не очень получилось. День необыкновенный, знаешь: и ветер, и дождь, и солнце, и радуга огромная – во все небо. У нас тут тучи, темно, а там, где Гальцево, – солнце светит и одновременно дождь идет, струи сверкают на солнце! Потом дымка появилась, засияло все!
Говорил и видел, что помогает – глаза у Марины уже другие совсем.
– Красиво. Маленькие картиночки какие – там, на выставке, у тебя большие были.
– Ты понимаешь, здесь трудно с большим форматом – все ж на себе таскаю! Я пробовал – на холстах неудобно, провисают, пока довезешь. Подрамники объемные, много не потащишь опять же. Пробовал на оргалите – он тоже тяжелый. Решил в конце концов, буду маленькие писать на оргалите, а наброски – побольше, углем. Пастелью еще пробовал, но мне не очень нравится, там все‑таки цвет такой… белесый. Блеклый.
– Ну да, у тебя все ярко.
– А потом дома я картину пишу – уже на холсте, большую. Правда, у матери тесно, не развернешься.
– А акварель? Красиво – акварелью.
– Акварель мне не очень дается. С ней терпение нужно, а я знаешь, как пишу?
– Как?
– О! В полной ярости!
– Интересно…
– Я акварелью раньше писал, много. Тебя вот пытался…
– Меня?
– Да, ты акварельная такая была… прозрачная.
– А сейчас? Не акварель?
– Сейчас… нет.
– А что?
– Рисунок карандашом.
– Ты так всех видишь, да?
– Да. Я сразу человека определяю по тому, чем бы написал: маслом, акварелью. Вижу – чей типаж. Ты была – акварельная… прозрачная.
– А еще про кого‑нибудь скажи.
– Ну, Татьяна, конечно – масло! Малявин какой‑нибудь.
– А ты сам?
– Я‑то? Я – тоже масло! Коровин!
– А внешне ты на Серова похож, мне кажется. Я автопортрет его на выставке увидела – сразу тебя вспомнила. Только глаза черные. А так – вылитый Серов.
– Правда?!
Леший просто боялся спугнуть ее – только бы говорила, только бы жили глаза, только бы не уходила опять во мглу беспросветную.
– А ты как определяешь?
– Я? Не знаю… Наверное, по животным.
– Я – кто?
– Ты? Ты… пес? Ньюфаундленд.
– Это потому, что черный и лохматый? – усмехнулся Леший. – Нет, вряд ли. Я – не добрый. Скорее, волк. Или медведь. А я видел волка зимой! В окно выглянул, смотрю – собака сидит! Чья это? У пастуха дворняга такая лохматая, а это – овчарка что ли? Потом думаю, да это волк! Выскочил…
– Не испугался?
– Интересно, ты что!
– И как?
– Да ничего! Посмотрели с ним друг на друга, он и пошел себе в лес.
– Надо же!
– Ну да, он видел – я без ружья.
– А у тебя и ружье есть?
– Есть, мало ли что. Ну ладно, я пес, а Татьяна, например?
– Танька‑то? Курочка!
– Похоже… Пестренькая такая, горластая! А Серёга?
– Конь, конечно.
– Конь! В точку! А я все не знал, куда его. Петров‑Водкин, «Купание красного коня» – вот он там сразу и конь, и всадник!
Смеется!
– Ну, а ты?
– Я? Я никто.
О господи, опять…
– А мне кажется, ты кошка!
– Драная…
– Перестань! Такая… сиамская кошка.
– Так у меня глаза не голубые.
– Они у тебя всякие. Бывают и голубые, когда небо отражается.
– Нет, я себя кошкой не чувствую. Не знаю, кто я. Так, зверушка какая‑то мелкая.
Раненая зверушка – подумал с тоской Леший, а сам все продолжал говорить:
– А вот, кстати, про кошек – ты знаешь, Дуся со мной на этюды ходит! Я сначала думал – случайно. Потом смотрю – нет. Бежит за мной, деловая такая. Потом я работаю, а она вокруг лазает. Или придет, у ног ляжет, смотрит. Ну, говорю, как тебе? Понюхает, фыркнет! Смешная…
– Надо же!
– А хочешь со мной пойти на этюды? Можем в лес, на поляну – ягод наберешь! Или к реке?
– А я не помешаю?
– Нет, что ты!
Посмотрел – улыбается!
– Поесть не хочешь? А то я не завтракал.
– Не знаю. Ты поешь, а я еще картинки посмотрю, можно?
– Смотри, конечно! Может, чаю попьешь?
– Чаю?.. Да.
– Хочешь – с мятой?
– Хочу.
– Вот и ладно!
– А у тебя тепло тут, уютно. Пахнет чем‑то знакомым…
– Это хлебом от печи пахнет и сеном от матрацев.
– Ты сам хлеб печешь?
– Научился.
– А откуда эта кошка взялась?
– Дуся‑то? Это тети Маши! У нее их много. А эта меня выбрала! Сама пришла, стала жить. Я уезжаю, она к тете Маше уходит. Приезжаю – ко мне.
– А на что ты живешь? Ты же не работаешь нигде? Или работаешь?
– Я вольный стрелок! Ничего хорошего в этом нет, конечно. Но как‑то так получилось. Я когда с работы ушел – сначала машину продал. Потом один немец картины у меня купил – сразу много! Вот. Потом я сам в Измайлове продавал. Потом с ребятами сговорился – я им отдаю оптом, они продают. Мне‑то не очень выгодно, но жалко времени – сидеть там, покупателей ловить. В галерею отдал картины, там тоже потихоньку продаются. Я приезжаю, хожу везде, смотрю – что продается, что нет.
– И на это можно жить?
– Да не особенно, конечно. Еще бывает халтура – реставрирую мебель. Только особенно негде. У матери тесно, да и столярка бывает нужна, приходится к ребятам обращаться, у кого есть.
– Да ты просто мастер на все руки!
– Ой, есть захочешь – всему научишься! Фреску писал одному придурку.
– Почему – придурку?
– А! Эротическую фреску потому что! По его задумке. Ой, мама! Но – хозяин – барин.
– Что ж там было‑то, на фреске?
– Ага, так я тебе и рассказал. Здесь‑то много денег не надо, на подножном корму. Я картошку стал сажать. Морковку всякую. Растет, правда, плохо – север все‑таки. У тети Маши куры есть, молоко опять же. В магазин кое‑что привозят… да ничего, нормально. Летом грибы‑ягоды, рыба – щука, налим. Бобра даже ел!
– Бобра?! И как?
– Да ничего: на ночь в печь поставил, он затомился. Вкусно, слегка рыбой отдает. Бобра, знаешь, и монахи в пост едят, за рыбу сходит. И черепаху едят, потому что в скорлупе, вроде как орех.
– Ой, врешь ты все!
– Да вот те крест!
А сам смотрел и радовался – почти прежняя, живая! Только бы опять не ушла в туман этот, удержалась. Может… может – поцеловать?
– Марин… а ты помнишь… как мы… в Суханове?..
Дернулась, словно ударил.
Черт! Зачем вылез! Рано! Но не мог больше терпеть, что она с ним как с чужим!
– А‑а! Вот вы где! – Серёга вломился. – А меня Танька послала разыскивать. Что такое, говорит. Где Маринка? Ушла за водой и пропала. А они вон что!
– А мы чай пьем.
– Чай? Ну‑ну!
– Я сейчас приду! – подхватилась Марина.
– Да ладно, я воды принес. Леший, обедать приходи – я с утра рыбы наловил, уха будет!
– Хорошо.
– Ну, пейте‑пейте!
Серега пошел было, но вернулся:
– А, забыл! Лёш, ты, может, сходишь завтра с ребятами куда‑нибудь? Чтоб не мешались! А то у нас там с Танькой… дела.
– Знаю я ваши дела! Ладно, на Мархангу сходим! Обеспечьте провиантом, и сходим. Марин, пойдешь с нами на Мархангу?
– Можно. Далеко это?
– Да километров шесть наверно. На полдня поход. Может, грибов наберем. А нет – так погуляем.
– Хорошо.
– Вот и спасибо! – Серёга подмигнул Лёшке и ушел. Сразу тихо стало. Марина тоже встала:
– Пойду я. Спасибо тебе. За чай… и вообще.
Помолчала. Потом очень тихо произнесла:
– Я все помню, Лёша.
И ушла.
Леший закрыл глаза и некоторое время так и стоял, словно окаменев: не понимал – как теперь жить? Он же должен все время знать, что с ней! Что она в порядке.
Назавтра собрались, пошли в поход на Мархангу. Вышли не рано – долго копались. Хорошо, дождя не было, солнце из облаков показывалось, припекало. Шли по дороге – ноги в пыли утопают по щиколотку, а красота какая – сто раз здесь ходил, а как впервые видел. Справа и слева – поля, то желтые, с высокой сухой травой, то зеленые, скошенные. Ромашки, васильки, мятой пахнет. Ближе к реке – серебряные поляны иван‑чая. Вдоль дороги – покосившиеся столбы с черными линиями проводов, а на проводах, в каждом отрезке между столбами, как будто специально рассажены небольшие птички‑ястребки: сидят, уныло нахохлились, а подходишь ближе – перелетают вперед или в кусты планируют. Зашли в Полунино. Там, в ограде, телята. Большие уже, лопоухие, чумазые. Увидели, стали подниматься, подходить, и каждый – на свой голос: «Му‑у! Му‑уу! Му‑ууу!» На разные тона.
– Надо же, как орга́н прямо… – воскликнула Марина.
– Да, похоже, – согласился Леший.
Потом повел их дом посмотреть.
– Это что – правление какое‑нибудь?
– Да, правление тут было. А так это просто дом. Крестьянин жил, Макеев, – сказал Леший.
– Ничего себе, крестьянин! Двухэтажный дом!
– А ты посмотри, какие водостоки у него – чугунные, с ажуром! Ручки тоже были чугунные – сняли.
– Что же за крестьянин такой?
– Богатый. Видишь, даже липы перед домом посадил! Тут не растут вообще‑то. Откуда‑то саженцы привез – хотел как барин жить.
– Смотри‑ка паркет!
– Да, остатки.
– А печь какая!
– Музейная.
– Надо же… И что с ним стало?
– Да что с ними со всеми стало! Революция, коллективизация, раскулачивание. То объединяли, то разъединяли колхозы. Доигрались – вон, никакой жизни! Одна нежить. Отец рассказывал – Макеев этот даже в Париж ездил, представляешь? На Всемирную ярмарку.
– В Париж!
– Ага, а там его дочка влюбилась во француза.
– И что?
– Ну, что – Макеев воспротивился, привез ее домой. А она тут… утопилась в омуте. Там омут, недалеко от тети‑Машиного дома.
– И стала русалкой! С хвостом! – Это встряли мальчишки, которые прыгали рядом.
– А вы откуда знаете? – спросила Марина.
– А нам тетя Маша рассказывала! Она ее видела! – закричали мальчишки.
– Кого?! – спросил Леший.
– Русалку!
– Да ладно вам! Видела она… – отмахнулся от мальчишек Лёшка.
– А мы тоже видели!
– Русалку? – изумилась Марина.
– Нет! Русалку не видели! – закричали мальчишки наперебой. – Таких маленьких видели! Они в лопухах живут, около дальнего сарая! Мы им молоко ставили в блюдечке и пирога клали! Они все съели!
– И спасибо сказали? – подначивал их Леший.
– Нет, спасибо не сказали… – признали мальчишки.
– Фантазеры какие! – улыбнулась Марина.
Конец ознакомительного фрагмента – скачать книгу легально
[1] В древнегреческой мифологии духи судьбы.
Библиотека электронных книг "Семь Книг" - admin@7books.ru