
Хребты безумия (сборник) | Говард Лавкрафт
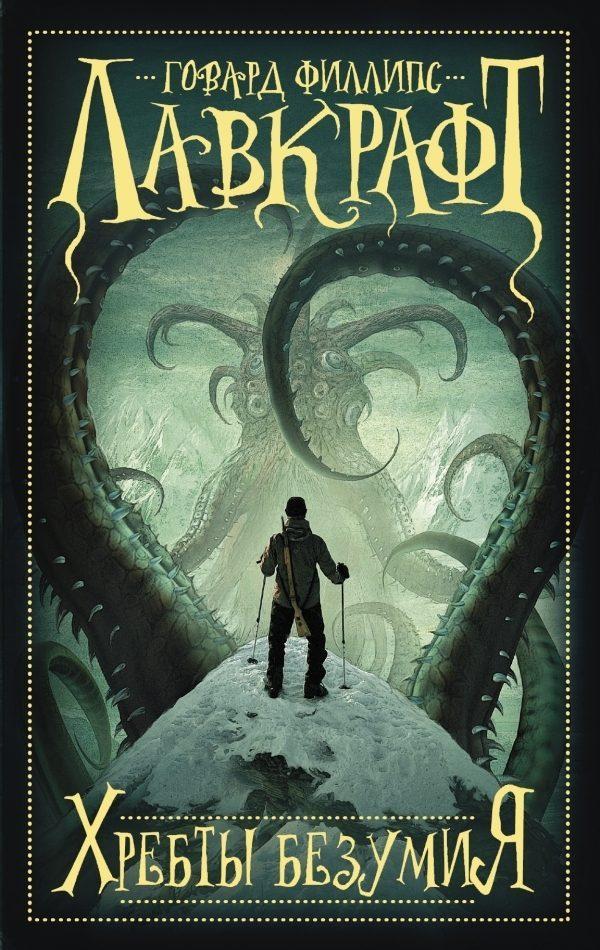
Говард Филлипс Лавкрафт
Хребты безумия (сборник)
Мастера магического реализма
Алхимик
Перевод Олега Колесникова
На небольшом возвышении на самой вершине покатой горы, склоны которой поросли густым, дремучим лесом, словно венчающая гору корона стоит замок моих предков. Многие века его величественный силуэт служит неизменной частью пейзажа всей окружающей сельской местности, а сам замок – дом старинного рода, прямая линия которого даже древнее, чем поросшие мхом стены. Древние башни, пережившие многие поколения, но рушащиеся под неуклонным давлением времени, в эпоху феодализма представляли одну из самых грозных и величественных крепостей Франции. Из бойниц и укрытий на стенах не раз видели баронов, графов и даже королей, готовых штурмовать до последнего, но никогда в просторных залах замка не звучало эхо шагов завоевателей.
Но с той героической поры все переменилось. Бедность, хотя и не дошедшая до крайней нужды, и гордость, не позволившая носителям славного имени осквернить его коммерцией, воспрепятствовали поддержанию великолепия древнего родового владения; и сейчас все здесь – выпадающие из стен камни, запущенная буйная растительность в парке, пересохший пыльный ров, щербатые внутренние дворики, осыпающиеся башни, а также покосившиеся полы, изъеденные червями стенные панели и поблекшие гобелены в них – рассказывает печальную повесть об увядшем величии. Одна из главных башен рассыпалась от времени, затем это же произошло с другой, и наконец у крепости осталась лишь одна башня, в которой вместо могущественного лорда пребывал его обнищавший потомок.
Именно в одной из просторных и мрачных палат оставшейся башни замка я, Антуан, последний из несчастного и проклятого рода графов де К., впервые увидел свет долгих девяносто лет назад. В этих стенах и на склонах горы, покрытых темными мрачными чащами и изрезанных ущельями и гротами, прошла вся молодость моей безрадостной жизни. Своих родителей я не знал. Мой отец умер в возрасте тридцати двух лет, за месяц до моего рождения; его убил камень, сорвавшийся с полуразрушенного парапета. Моя мать умерла в родах, и я оказался на попечении слуги, человека, достойного доверия и наделенного к тому же недюжинным умом, которого звали, если мне не изменяет память, Пьер. Я был единственным ребенком в замке, и нехватка товарищей для игр усугублялась стараниями моего воспитателя, всячески препятствующего любому моему общению с крестьянскими детьми, семьи которых обитали по всей окружающей гору равнине. Свой запрет Пьер тогда объяснял тем, что отпрыску благородного рода не следует водить дружбу с плебеями. Теперь я знаю, что истинная причина была другой: он хотел уберечь мои уши от праздных историй о роке, преследующем многие поколения мой род, которые, щедро приукрашенные, рассказывались поселянами на досуге по вечерам перед жарко растопленным очагом.
Поэтому, одинокий и предоставленный самому себе, свое детство я проводил, изучая старинные фолианты, коими была заполнена полумрачная библиотека замка, и бесцельно странствуя по не тронутому многие века фантастическому лесу, покрывавшему гору до самого подножия. Подобное времяпрепровождение, вероятно, и явилось причиной того, что меланхолия стала частью моей натуры. Занятия и исследования, связанные с мрачной таинственностью дикой природы, имели для меня особую притягательность.
Однако мне было позволено узнать очень мало об истории окружающей местности, и это крайне удручало меня. Возможно, изначально очевидное нежелание моего престарелого воспитателя углубляться в историю моих предков положило начало тому ужасу, который я испытывал при каждом упоминание о моем доме, но на исходе детства я сумел соединить бессвязные недомолвки, слетавшие с языка заговаривающегося старика, относящиеся к неким обстоятельствам, с годами превратившимся для меня из странных в вызывающие страх. Обстоятельства, которые я имею в виду, это то, что все наследные графы моей семьи умерли в раннем возрасте. Сначала я объяснял себе их безвременную кончину естественными причинами, полагая, что происхожу из семьи, в которой мужчины живут не долго, однако со временем стал соединять это с бессвязными старческими бормотаниями, в которых речь часто шла о проклятии, отмерявшем носителям графского титула срок жизни в тридцать два года. В день, когда мне исполнилось двадцать один год, престарелый Пьер вручил рукописную книгу, переходившую, по его словам, от отца к сыну на протяжении многих поколений и дописывавшуюся каждым новым обладателем. Она содержала поразительные записи, и их внимательное изучение подтвердило мои самые мрачные предположения. Мне следовало бы более критически отнестись к изложенному там, но в то время вера во все мистическое глубоко укоренилась в моей душе.
Начиналась она с рассказа о событиях тринадцатого века, когда замок, где я родился и вырос, был грозной и неприступной крепостью. В наших владениях появился некий весьма примечательный человек, низкого положения, но все же не крестьянин, по имени Мишель, впрочем, более известный как Мове, что означает «злой», поскольку о нем шла зловещая слава. Свою жизнь он посвятил поискам философского камня и эликсира молодости и слыл искушенным в черной магии и алхимии. У Мишеля Злого был сын по имени Карл, юноша, столь же сведущий в тайных науках, сколь и отец, и которого прозвали поэтому Ле Сорсье, или Колдун. Порядочные люди сторонились этой пары, подозревая, что отец и сын делают что‑то нечестивое. Поговаривали, что Мишель заживо сжег свою жену, принеся ее в жертву дьяволу, что именно он и его сын виновны в необъяснимых исчезновениях крестьянских детей. Тьму, окутывающую этих двоих людей, прорезал лишь один луч искупительного света: ужасный старик беззаветно любил своего отпрыска, и тот испытывал к нему чувство, намного превосходившее обычную сыновнюю преданность.
Однажды ночью в замке на горе наступило смятение из‑за исчезновения юного Годфри, сына Генриха, графа де К. Группа, отправившаяся для поисков юного графа, во главе с обезумевшим отцом ворвалась в небольшой домик, где жили колдуны, и застала там старого Мишеля Злого, хлопотавшего возле большого кипящего котла. Не в силах сдержать себя от ярости и отчаяния, граф бросился на колдуна, и несчастный старик испустил дух в его смертоносных объятиях. Тем временем слуги нашли молодого Годфри в дальних, не использовавшихся в тот момент покоях огромного замка, но радостная весть пришла уже после того, как Мишель оказался убит. Когда граф со своими людьми покидал скромное жилище алхимика, со стороны леса показался силуэт Карла Колдуна. Болтовня взбудораженных слуг сообщила ему о судьбе его отца, и на первый взгляд могло показаться, что он бесстрастно отнесся к его участи. Но затем, медленно надвигаясь на графа, Карл монотонным и при этом ужасным голосом произнес проклятие, преследовавшее с того момента представителей рода графа де К.
Не сможет ни один его прямой потомок
Превысить возраст этого убийцы, –
изрек он, а затем, прежде чем метнуться в сторону темного леса и скрыться за чернильным занавесом ночи, быстрым движением выхватил из складок своего платья склянку с бесцветной жидкостью и выплеснул ее в лицо убийцы. Граф упал и вскоре, не приходя в сознание, скончался, на следующий день его похоронили, а с того момента, как он появился на свет, и до его смерти прошло немногим более тридцати двух лет. Группы крестьян проводили поиски в окружающих лесах и полях, но убийца графа исчез бесследно.
Время и запрет на упоминания об этом происшествии стерли проклятие из памяти семьи графа, так что когда Годфри, невольный виновник трагедии и наследник графского титула, пал от стрелы во время охоты в возрасте тридцати двух лет, никто не связал его смерть с давними событиями. Но когда годы спустя Роберт, следующий граф, был найден в соседней области мертвым по непонятной причине, крестьяне шепотом стали поговаривать, что смерть нашла их господина вскоре после того, как ему исполнилось тридцать два. Луи, сын Роберта, достигнув рокового возраста, утонул в крепостном рву; скорбный список пополнялся поколение за поколением: жизни Генрихов, Робертов, Антуанов и Арманов, жизнерадостных и добродетельных, обрывались, стоило им достичь возраста их далекого предка в тот момент, когда он совершил убийство.
Из прочитанного я понял, что дальнейшего существования мне отмерено самое большее одиннадцать лет, а может, и меньше. Жизнь, не имевшая прежде в моих глазах особой ценности, с каждым днем становилась все милее, тогда как загадочный мир черной магии затягивал меня все глубже и глубже. Я жил отшельником, и современная наука нисколько не интересовала меня; изучал я лишь средневековую и старался, подобно старику Мишелю и юноше Карлу, овладеть таинствами колдовства и алхимии. Но все же мне никак не удавалось постичь природу странного проклятия, поразившего мой род. Иногда, отбрасывая мистицизм, я пытался найти рациональное объяснение смерти моих предков – например, банальной расправой, начатой Карлом Колдуном и продолженной его потомками. Убедившись в результате долгих изысканий, что род алхимика не имел продолжения, я вернулся к своим исследованиям, посвященным поиску заклинания, способного освободить мой род от бремени ужасного проклятия. Лишь в одном отношении я был непоколебим: мне следует остаться холостым, ибо моя смерть прервет и само проклятие.
Мне было почти тридцать, когда Господь призвал к себе Пьера. Я один похоронил старого слугу во внутреннем дворике, где он любил прогуливаться. Таким образом, я остался единственным живым существом, обитающим в крепости, и мой тщетный протест против надвигающегося рока стал ослабевать, сменяясь смирением с тем, что я должен разделить судьбу моих предков. Большую часть времени я проводил, исследуя покинутые и разрушающиеся залы и башни старого замка, куда раньше, будучи подростком, заходить не решался; стал проникать в такие закоулки, где, по словам старого Пьера, нога человека не ступала уже более четырехсот лет. Повсюду мне попадались странные и удивительные предметы. Мебель, покрытая пылью веков, осыпалась трухой от давно воцарившейся сырости. Все обильно покрывала густая паутина; огромные летучие мыши хлопали странными костистыми крыльями в давно необитаемом мраке.
Я стал отслеживать свой точный возраст, с точностью до дня и часа, ибо каждое движение тяжелого маятника часов в библиотеке отсчитывало заметную часть остатка моего обреченного существования. С мрачным предвкушением я дожидался того момента, который неотвратимо приближался. Проклятие обрывало жизни моих предков незадолго до того, как они достигали возраста, в котором погиб граф Генрих, и теперь я ежесекундно ждал неведанной смерти. Я не знал, в каком обличии она предстанет передо мной, но решил, что ей не встретить в моем лице малодушной дрожащей жертвы. А тем временем с возросшим энтузиазмом продолжал исследовать закоулки старого замка.
Во время одной из самых долгих вылазок в полуразрушенное крыло замка, менее чем за неделю до рокового часа, отмечающего предел моего земного бытия, произошло главное событие всей моей жизни. Почти все утро я пробирался по коридорам и полуразрушенным лестницам в одной из самых потрепанных временем древних башен замка. В начале дня я искал, как спуститься на более низкие уровни, туда, где в Средние века, по всей видимости, была тюрьма, а затем склад для хранения пороха. Когда я, спустившись по одной из лестниц, осторожно двигался по пропитанному селитрой проходу, настил под ногами становился все более хлипким, и вскоре мой мерцающий факел высветил голую, сочащуюся водой стену. Разворачиваясь, ибо дальше идти было некуда, я случайно заметил на полу рядом с ногами неприметную крышку люка с кольцом. После долгой, с перерывами, возни мне удалось ее приподнять; от пахучего дыма, вырвавшегося из черного провала, пламя факела заметалось с шипением, позволив мне, однако, рассмотреть ведущие в глубину каменные ступени.
Как только факел, опущенный в смердящую бездну, стал гореть спокойно и устойчиво, я начал спуск. После долгого спуска по ступеням я оказался в узком каменном проходе, проложенном, судя по всему, глубоко под землей. Проход этот оказался довольно длинным и привел к сырой и древней массивной дубовой двери, оказавшей сопротивление всем моим попыткам открыть ее. Через какое‑то время, отчаявшись, я повернул назад, к лестнице, но не успел сделать и нескольких шагов, как пережил одно из самых сильных и глубоких впечатлений, какое может выпасть на долю человека. Я вдруг услышал, как скрипят ржавые петли медленно отворяющейся за моей спиной тяжелой двери. Мои чувства в тот момент описать невозможно. Само по себе наличие в давно опустевшем старом замке очевидных свидетельств присутствия человека или духа вызвало у меня шок. Когда я обернулся и уставился на то, что было причиной звука, мои глаза, должно быть, вылезли от увиденного из орбит.
В древнем, готического вида дверном проеме стоял человек с шапочкой на голове и в длинном черном средневековом платье. Его длинные волосы и ниспадающая борода были очень густыми и отливали чернотой. Мне никогда не доводилось встречать человека с таким высоким лбом и так глубоко запавшими щеками, обрамленными суровыми морщинами; а его руки, длинные, узловатые, похожие на клешни, имели такую смертельную, подобную мрамору белизну, какой я никогда не видел у человека. Костлявое, аскетическое до истощения тело странно и уродливо контрастировало с просторностью его специфического одеяния. Но самым странным были его глаза – два бездонных черных колодца, глубоко понимающие, но при этом полные нечеловеческой злобы. Уставленный на меня их пристальный взгляд был преисполнен такой ненависти, что я словно прирос к полу.
Наконец человек заговорил, и его резкий голос, в котором звучали откровенное презрение и скрытая недоброжелательность, лишь усилил мой ужас. Язык, на котором он изъяснялся, оказался той формой латыни, которой пользовались просвещенные люди в Средние века, и был мне отчасти знаком благодаря изучению трудов древних алхимиков и магов. Он повел речь о проклятии, висящем над моим родом, о том, что мне недолго осталось жить, и подробно описал преступление, совершенное моим предком, и со злорадством перешел к мести Карла Колдуна. Карл скрылся в ночи, но спустя годы вернулся, когда наследник, Годфри, приблизился к тому возрасту, в каком был его отец в роковую ночь, чтобы выпустить стрелу в его сердце. Затем он тайком пробрался в замок и поселился в том самом заброшенном подземелье, у входа в которое стоял сейчас зловещий рассказчик, но покидал его, чтобы подстеречь Роберта, сына Годфри, когда тому минуло тридцать два года, и силой заставить того проглотить яд, чтобы продолжилось мщение, предсказанное в проклятии. Предоставив мне гадать далее над самой главной загадкой – почему проклятие не исчезло вместе со смертью Карла Колдуна, который рано или поздно должен был найти успокоение, – он пустился в долгий рассказ об алхимии и об исследованиях этих двух колдунов, отца и сына, особенно обратив внимание на то, что Карл пытался получить эликсир, дарующий отведавшему его вечную жизнь и неувядаемую молодость.
Воодушевление рассказчика, казалось, вымыло из его взгляда жгучую недоброжелательность, ошеломившую меня поначалу, но вдруг в его глазах снова вспыхнул дьявольский блеск, и с шипением, похожим на змеиное, он высоко поднял склянку с очевидным намерением прервать мою жизнь тем же способом, каким шесть столетий назад Карл Колдун расправился с моим предком. Движимый инстинктом самосохранения, я вырвался из оцепенения, уже долго удерживавшего меня на одном месте, и запустил в существо, угрожающее моей жизни, гаснущим факелом. Я услышал, как склянка разбилась о камень в дверном проходе, и в тот же момент платье странного человека вспыхнуло, осветив подземный проход странным, неприятным сиянием. Испуганный вопль моего несостоявшегося убийцы, полный бессильной злобы, оказался последней каплей для моих истерзанных нервов, и я без сознания повалился на склизкий пол.
Когда чувства наконец вернулись ко мне, вокруг была глубочайшая тьма, и разум, потрясенный пережитым, отказывался от попыток узнать чего‑либо еще, но любопытство все же одержало верх. «Кто же был этот злобный человек? – думал я. – Как он проник в замок? Почему он жаждал отомстить за смерть Мишеля Злого и как могло получиться, что со времен Карла Колдуна проклятие в течение долгих столетий неумолимо настигало очередную жертву?» Я оказался свободен от давившего на меня страха, ибо сразил того, кто призван был стать в отношении меня орудием проклятия, и теперь горел желанием лучше разобраться в том, что века преследовало мою семью и превратило мою юность в один долгий кошмарный сон. Набравшись решимости продолжить исследование, я нашарил в кармане огниво и кремень и запалил запасной факел.
Первое, что я увидел, – было изуродованное почерневшее тело загадочного незнакомца. Ужасные глаза оказались закрыты. Преодолевая отвращение, я прошел в покои за готической дверью. То, что там оказалось, более всего напоминало лабораторию алхимика. В одном углу высилась груда ярко‑желтого металла, искрящегося в свете факела. Вероятно, это было золото, но я не стал тратить время на проверку этого предположения, поскольку был еще не в себе от недавних событий. В дальнем конце покоя оказался выход в одно из ущелий посреди дикого леса. С изумлением я понял, каким образом незнакомец проник в замок, и двинулся обратно. Я не собирался разглядывать останки моего врага, но, когда приблизился к телу, мне показалось, что он издал едва слышный стон, словно жизнь в нем еще не совсем потухла. Ошеломленный, я повернулся к обгорелому скорченному телу на полу.
Внезапно эти ужасные глаза, с чернотой более глубокой, чем обгорелые черты лица, раскрылись и уставились на меня с выражением, которое я был не способен истолковать. Потрескавшиеся губы силились произносить какие‑то слова, но я их не вполне понял. Когда я различил среди них имя Карла Колдуна, мне затем показалось, что прозвучали слова «годы» и «проклятие», но общий смысл речи уловить не удавалось. При виде недоумения в моих глазах смоляные глаза незнакомца окатили меня такой злобой, что я задрожал, забыв о беспомощном состоянии моего противника.
На последней волне утекающей силы несчастный приподнялся немного на сырых склизких камнях. Я хорошо запомнил, как в предсмертной тоске он вдруг обрел голос и выплеснул на остатках дыхания слова, которые преследуют меня с тех пор днем и ночью.
– Глупец! – выкрикнул он. – Неужели ты не догадался, в чем мой секрет? Безголовый придурок, не способный понять, каким образом проклятие над твоим родом могло исполняться на протяжении шести веков! Разве я не рассказал тебе о великом эликсире вечной жизни? Разве ты не знаешь, что великая задача алхимии оказалась решена? Тогда скажу тебе прямо – это был я! Я! Я! Прожил шестьсот лет, чтобы исполнять свою месть, ибо я – Карл Колдун!
1916
Белый Корабль
Перевод Олега Колесникова
Я Бэзил Элтон, смотритель маяка на Северном мысе; мой дед и мой отец тоже были здесь смотрителями. На удалении от берега стоит серая башня на скользких скалах, обнажающихся во время отлива и скрытых от глаз во время высокого прилива. Вот уже более ста лет этот маяк указывает путь величественным парусникам, странствующим по всем семи морям; во времена моего деда их было много, при отце значительно меньше, а теперь они проплывают так редко, что порой я ощущаю себя настолько одиноким, будто остался последним человеком на планете.
В старину заходили в эти края большие белопарусные корабли из дальних стран, от далеких восточных берегов, где солнце светит жарко, а над чудесными садами и пестрыми храмами витают сладкие ароматы. Старые капитаны часто заглядывали к моему деду и рассказывали обо всех этих диковинах, а он, в свою очередь, поведал о них моему отцу, а отец в долгие осенние вечера рассказывал о них мне под жуткие завывания восточного ветра. Да и сам я много читал обо всем подобном в книгах, которые мне давали, когда я был молод и восторгался чудесами.
Но чудеснее рассказов старых людей и книжной премудрости была тайная мудрость океана. Голубой, зеленый, серый, белый или черный, спокойный, волнующийся или вздымающий водяные горы, океан никогда не умолкает. Всю свою жизнь я наблюдал за ним, прислушивался к его шуму и научился понимать его с полуслова. Сначала он рассказывал мне простенькие истории про тихие пляжи и ближайшие гавани, но с годами он стал более дружелюбен и рассказывал уже о других вещах – более странных и более отдаленных в пространстве и во времени. Иногда в сумерках серая дымка на горизонте расступалась, позволяя мне увидеть пути, ведущие вдаль, а порой среди ночи морские глубины становились прозрачными и фосфоресцировали, давая мне увидеть пути, ведущие вглубь. И тогда мне доводилось увидеть как пути, которые существовали, так и пути, что могли существовать, ибо океан древнее самих гор и пропитан памятью и снами самого Времени.
Этот Белый Корабль приходил с юга, когда полная луна стояла высоко в небе. С южного направления он тихо и плавно скользил по морю. И волновалось ли оно или было спокойным, был ли ветер попутным или встречным, корабль всегда шел плавно и тихо, паруса его были приспущены, а длинные ряды весел ритмично поднимались и опускались. В одну из ночей я разглядел на палубе бородатого человека в мантии, который, казалось, манил меня на корабль, предлагая отправиться к неведомым берегам. После этого я много раз видел его при полной луне, и всякий раз он зазывал меня.
Луна светила необычайно ярко в ту ночь, когда я откликнулся на зов и перешел на Белый Корабль по мосту из лунного света. Человек, зазывавший меня, обратился ко мне на певучем языке, который показался мне вполне понятным, и все то время, пока мы плыли в сторону таинственного Юга, золотого в свете полной луны, гребцы пели тихие песни.
А когда наступил розовый и лучезарный рассвет нового дня, я увидел вдалеке зеленый берег, незнакомый мне, яркий и прекрасный. От морской глади поднимались великолепного вида террасы, поросшие буйной растительностью, среди которой можно было углядеть крыши и колоннады необычных храмов. Когда мы стали ближе к зеленому берегу, бородатый человек сказал мне, что это земля, называемая Зар, где живут все сны и помыслы о прекрасном, что являлись когда‑то людям, а потом оказались забыты. И взглянув снова на террасы, я понял, что это правда, потому что среди того, что я заметил, было и то, что виделось мне сквозь туман за горизонтом и в фосфоресцирующих глубинах океана. А также были здесь формы и фантазии, великолепнее которых я никогда не видал: видения юных поэтов, умерших в нужде до того, как успели поведать миру о своих прозрениях и мечтах. Но мы не прогулялись по ровным лугам страны Зар, ибо сказано было, что тот, кто ступит на них, никогда больше не вернется на родной берег.
Когда Белый Корабль молчаливо удалился от украшенных храмами террас страны Зар, на горизонте показались шпили могучего города, и бородатый человек сказал мне: «Это Таларион, Город Тысячи Чудес, где собрано все таинственное, что люди тщетно пытались постигнуть». И снова посмотрев на него с близкого расстояния, я увидел, что город этот величественнее любого другого, о каком я знал или видел во сне. Шпили его храмов возносились в небо так высоко, что невозможно было разглядеть их острия, и далеко за горизонт уходили его мрачные серые стены, над которыми выступали только крыши немногих домов, странные и зловещие, хотя и украшенные фризами и соблазнительными скульптурами. Мне очень хотелось вступить в этот притягательный и в то же время отталкивающий город, и я умолял бородатого человека высадить меня на сияющий причал у гигантских резных ворот Акариэль, но он вежливо отклонил мою просьбу, сказав: «В Таларион, Город Тысячи Чудес, входили многие, но не вернулся никто. По его улицам бродят только демоны и безумцы, переставшие быть людьми, и мостовые белы от непогребенных костей тех, кто отважился взглянуть на нематериальный образ Лати, царствующий в этом городе». И Белый Корабль проследовал мимо стен Талариона, и много дней вслед за нами на юг летела птица, чье прекрасное оперение было цвета лазури неба, с которого она явилась.
Затем мы приблизились к приветливому берегу, радующему глаз буйством цвета, в глубину которого, насколько мог видеть глаз, в полуденном солнечном свете тянулись чудесные рощи, пронизанные радиально расходящимися аллеями. Из беседок, скрывающих то, что внутри, от нашего взгляда, доносились обрывки песен под аккомпанемент лиры, перемежающиеся со смехом, столь сладостным, что я начал настаивать, чтобы гребцы направили туда корабль. И бородатый человек не сказал ни слова, только смотрел на меня, пока мы приближались к берегу, перед которым густо росли лилии. Внезапно ветер, подувший с этих цветущих лугов, принес запах, заставивший меня вздрогнуть. Ветер стал сильнее, и воздух оказался пропитан зловонным кладбищенским духом зачумленных городов и не закопанных могил. И когда мы с безумной поспешностью поплыли прочь от этого проклятого берега, бородатый человек наконец произнес: «Это Ксура, Страна Недостижимых Удовольствий».
И снова небесная птица следовала за Белым Кораблем над теплым благословенным морем, несомая ласковым, ароматным бризом. Мы плыли день за днем и ночь за ночью, а когда восходила полная луна, слушали тихие песни гребцов, такие же приятные, как в ту давнюю ночь, когда я покинул родной берег. При свете луны мы бросили якорь в гавани страны Сона‑Нил, с двух сторон которой – мысы из хрусталя, поднимающиеся над морем и сходящиеся вместе сверкающей аркой. Это была Страна Фантазий, и мы сошли на зеленеющий берег по золотому мосту из лунного света.
В стране Сона‑Нил нет ни времени, ни пространства, ни страданий, ни смерти, и я прожил в ней многие тысячелетия. Рощи и пастбища там зелены, цветы ярки и ароматны, водные потоки сини и сладкозвучны, ключи прозрачны и холодны, а храмы, замки и города Сона‑Нил величественны. Эта страна безгранична, за одним чудесным видом тут же открывается другой, еще более прекрасный. В селениях и среди блеска городов живет и свободно странствует счастливый народ, и каждый здесь наделен изяществом манер и безмятежным счастьем. Тысячелетия, прожитые мной в этом краю, я блаженно странствовал по рощам, где из живописных зарослей выглядывали причудливые пагоды, а белые дорожки были усажены по краям чудесными цветами. Я поднимался на пологие холмы, с которых мог видеть чарующие пейзажи с городками, пристроившимися в уютных долинах, и золотые купола гигантских городов, сверкающие на горизонте в бесконечной дали. А при свете луны видел искрящееся море, два хрустальных мыса и спокойную гавань, где бросил якорь Белый Корабль.
Снова была ночь полнолуния в незапамятный год Тарпа, когда я вновь увидел манящий силуэт небесной птицы и ощутил первые уколы беспокойства. Тогда я обратился к бородатому человеку и поведал ему о желании отправиться в далекую Катурию, которую не видел никто из людей, но все верили, что она лежит за базальтовыми столпами Запада. Это Страна Надежды, и там сияют идеалы всего, что где‑либо когда‑либо было известно, или по крайней мере так говорилось. Но бородатый человек сказал мне: «Следует опасаться тех коварных морей, за которыми, по рассказам, лежит Катурия. Здесь, в Сона‑Ниле, нет ни боли, ни смерти, но кто знает, что скрывается там, за базальтовыми столпами Запада?» Однако в следующее полнолуние я ступил на борт Белого Корабля, и бородатый человек неохотно отплыл от счастливого берега, отправляясь в нехоженые моря.
А небесная птица летела впереди, ведя нас к базальтовым столпам Запада, но теперь гребцы не пели тихие песни при полной луне. В воображении я часто рисовал себе неведомую страну Катурию с ее пышными рощами и великолепными дворцами и представлял, какие новые наслаждения ожидают меня там. «Катурия, – говорил я себе, – это место, где обитают боги, страна бесчисленных городов из золота. Ее леса из алоэ и сандаловых деревьев напоминают благоуханные рощи Каморина, и в них веселые птицы насвистывают приятные мелодии. На зеленых и усыпанных цветами горах Катурии возвышаются замки из розового мрамора, богато украшенные барельефами и изображениями триумфов, а в их внутренних дворах прохладные серебряные фонтаны очаровательно мелодично разбрызгивают ароматную воду из рождаемой в пещерах реки Нарг. Города Катурии окружены золотыми стенами, и мостовые их также из золота. В садах этих городов растут удивительные орхидеи и благоухают озера, дно которых усыпано кораллом и янтарем. По ночам на улицах и в садах зажигают фонари, выполненные из трехцветного панциря черепахи, и звучат голоса певцов и звуки лютни. Все дома в Катурии – воистину дворцы, каждый из них выстроен над источающим аромат каналом, в котором течет вода священной реки Нарг. Эти дома выстроены из мрамора и порфира и покрыты сверкающим золотом, которое отражает лучи солнца и усиливает блеск городов в глазах блаженных богов, глядящих на них с отдаленных пиков. Но прекраснее всех строений дворец великого монарха Дориеба, которого одни считают полубогом, а другие богом. Дворец Дориеба высок, многочисленные мраморные башни возвышаются над его стенами. В его просторных залах происходят многолюдные собрания, а на стенах в них развешаны трофеи за многие века. Кровлю дворца, из чистого золота, подпирают высокие столпы из рубина и лазурита, украшенные резными изображениями богов и героев, исполненными так искусно, что при виде на них кажется, что это живые обитатели Олимпа. Пол во дворце стеклянный, под ним текут искусно подсвеченные воды реки Нарг, и в них плавают рыбки дивной окраски, которых не встретишь за пределами прелестной Катурии».
Так беседовал я сам с собой о Катурии, несмотря на то что бородатый человек предостерегал меня и уговаривал вернуться к счастливым берегам страны Сона‑Нил, ибо Сона‑Нил известна людям, тогда как Катурию не доводилось видеть никому.
И на тридцать первый день нашего странствия вслед за птицей мы увидели базальтовые столпы Запада. Они были окутаны туманом, так что нельзя было ни увидеть того, что за ними, ни разглядеть их вершины, которые, говорят, достают до небес. И бородатый человек снова уговаривал меня повернуть назад, но я не внял его увещеваниям, ибо из‑за столпов до моего слуха доносились голоса певцов и звуки лютни, более сладостные, чем самые сладкие песни Сона‑Нил, восхваляющие меня самого – смельчака, отправившегося при полной луне вдаль и долго прожившего в Стране Фантазий. Так что Белый Корабль поплыл на звуки песни в туман между базальтовыми столпами Запада. Когда же музыка стихла и туман рассеялся, мы увидели не землю Катурии, а стремительно несущиеся морские воды, которые неодолимо увлекали наше беспомощное судно неведомо куда. Скоро до нашего слуха донесся отдаленный грохот падающей воды и нашему взору открылось титаническое облако брызг чудовищного водопада впереди, далеко на горизонте, в котором океаны мира низвергались в бездну небытия. И тогда бородатый человек сказал мне сквозь слезы, сбегающие по его щекам: «Мы отказались от прекрасной страны Сона‑Нил и теперь никогда туда не вернемся. Боги могущественнее людей, и они победили». В ожидании грядущей катастрофы я закрыл глаза и перестал видеть небесную птицу, которая трепетала призрачными голубыми крыльями над самым краем стремительно обрушивающегося потока.
Сразу после крушения наступила полная темнота, сквозь которую доносились пронзительные крики людей и нечеловеческие стоны неживых предметов. Ураганный ветер с востока пробрал меня холодом, когда я приник к мокрой каменной плите, оказавшейся у меня под ногами. Затем я снова услышал грохот, открыл глаза и увидел, что нахожусь на площадке маяка, откуда отправился в путь многие тысячелетия назад. В темноте передо мной смутно вырисовывались расплывчатые очертания судна, налетевшего на безжалостные скалы, а когда я посмотрел вверх, то увидел, что маяк погружен во тьму – впервые с тех пор, как мой дед принял на себя заботу о нем.
Не дожидаясь рассвета, я вошел внутрь башни и увидел на стене календарь. На нем значился том самый день, когда я отплыл отсюда. На рассвете я спустился из башни, чтобы осмотреть обломки кораблекрушения, но нашел на скалах только мертвую птицу с оперением цвета небесной лазури и одну‑единственную расщепленную рею, оказавшуюся белее гребешка волны или снега на горной вершине.
После этого океан не раскрывал мне свои секреты, и хотя много раз в небе бывала полная луна, Белый Корабль с юга не приходил больше никогда.
1916
По ту сторону сна
Перевод Валерии Бернацкой
Интересно, задумывается ли большинство людей над могущественной силой сновидений и над природой порождающего их темного мира? Хотя подавляющее число ночных видений является, возможно, всего лишь бледным и причудливым зеркалом нашей дневной жизни – против чего возражал Фрейд с его наивным символизмом, – однако встречаются изредка не от мира сего случаи, не поддающиеся привычному объяснению. Их волнующее и не оставляющее в покое воздействие позволяет предположить, что мы как бы заглядываем в мир духа – мир, не менее важный, чем наше физическое бытие, но отделенный от него непреодолимым барьером. Из своего опыта знаю: человек, теряющий осознание своей земной сущности, временно переходит в иные, нематериальные сферы, резко отличающиеся от всего известного нам, но после пробуждения сохраняет о них лишь смутные воспоминания. По этим туманным и обрывочным свидетельствам мы можем о многом догадываться, но ничего – доказать. Можно предположить, что бытие, материя и энергия не являются в снах постоянными величинами, какими мы привыкли их считать, точно так же пространство и время значительно отличаются там от наших земных представлений о них. Порой мне кажется, что именно та жизнь является подлинной, а наше суетное существование на земле – явление вторичное или даже мнимое.
Именно от подобных раздумий меня, еще молодого тогда человека, оторвали в один из зимних дней 1900–1901 годов, когда в психиатрическую лечебницу, где я работал, доставили мужчину, чей случай вскорости необычайно заинтересовал меня. Из документов явствовало, что его звали то ли Джо Слейтер, то ли Джо Слайдер, на вид он был типичным жителем Катскиллских гор, то есть одним из тех странных, отталкивающего вида существ – потомков старого земледельческого клана, чья вынужденная почти трехвековая изоляция среди скал, в безлюдной местности способствовала постепенному вырождению, в отличие от более удачливых соплеменников, выбравших для поселения обжитые районы. Это своеобразное племя напоминает тех опустившихся обитателей юга, которых презрительно именуют «белая рвань», им равно незнакомы законы и мораль, а их интеллектуальный уровень самый низкий в стране.
Джо Слейтера доставили в лечебницу четверо полицейских, заверивших меня, что их подопечный весьма опасен, однако при первом осмотре я не заметил в его поведении ничего пугающего. Хотя он был значительно выше среднего роста и, казалось, состоял из одних мускулов, но сонная, выцветшая голубизна его маленьких слезящихся глаз, редкая и неопрятная светлая бороденка, тяжело отвисшая, вялая нижняя губа производили впечатление какой‑то особой беззащитности недалекого человека. Каков был его возраст, не знал никто: там, где он жил, свидетельств о рождении не существовало, так же как и прочных семейных уз, но, учитывая плешь на голове и удручающее состояние зубов, главный врач положил ему сорок лет.
Прочитав медицинские и судебные заключения, мы пришли к определенным выводам о болезни этого человека: бродяга и охотник, он всегда казался своим темным сородичам несколько чудаковатым. Он подолгу спал, а пробуждаясь, часто рассказывал о непонятных вещах в манере столь странной, что вызывал страх даже в сердцах лишенных фантазии соплеменников. Необычным был не язык – свой бред он описывал на примитивном местном наречии, – а тон и окраска речи, которые обретали такую таинственную мощь, что никто не оставался безучастным. Сам он бывал потрясен и озадачен не меньше слушателей, но уже через час после пробуждения всё забывал и снова впадал в тупую безучастность, свойственную жителям этого горного района.
Со временем приступы утреннего безумия у Слейтера участились, становясь все исступленней, пока наконец не произошла – приблизительно за месяц до его появления в лечебнице – та жуткая трагедия, которая и вызвала его арест. Однажды около полудня, очнувшись от глубокого сна, в который он впал после изрядной попойки, имевшей место часов в пять предыдущего дня, Слейтер издал такой душераздирающий вопль, что соседи прибежали к нему в хижину – грязный хлев, где он жил со своими родными, наверняка такими же жалкими людишками, как и он сам. Выбежав из хижины прямо на снег, он, воздев руки, старался подпрыгнуть как можно выше, крича при этом, что ему «надо в большую‑большую хижину, где сверкают стены, пол и потолок и откуда‑то гремит музыка». Двое крепких мужчин пытались держать его, но он яростно вырывался с необъяснимой силой маньяка и продолжал кричать, что ему во что бы то ни стало надо найти и убить «эту штуковину, которая сверкает, трясется и хохочет». Свалив вскоре одного из мужчин неожиданным ударом, он набросился на другого в каком‑то кровожадном, демоническом экстазе, истошно вопя, что он «допрыгнет до неба, спалив на своем пути все, что будет мешать».
Родные и соседи в панике разбежались, а когда самые смелые вернулись, Слейтера уже не было и на снегу темнело нечто бесформенное, что еще час назад было живым человеком.
Никто из горцев не осмелился преследовать убийцу, возможно надеясь, что он замерзнет в горах. Но несколько дней спустя, тоже утром, они услышали доносящиеся из отдаленного ущелья вопли и поняли, что ему удалось выжить. Следовательно, надо было самим расправиться со злодеем. Тут же снарядили вооруженный отряд, передавший вскоре свои полномочия (трудно сказать, какими они им представлялись) случайно встреченным в этих местах полицейским, которые, наткнувшись на отряд и узнав, в чем дело, присоединились к поискам.
На третий день Слейтера обнаружили без сознания в дупле дерева и отвезли в ближайшую тюрьму, где, как только он пришел в себя, его обследовали психиатры из Олбани. Им арестант объяснил все чрезвычайно просто. Однажды, изрядно выпив, он заснул еще до сумерек. Очнувшись, увидел, что стоит с окровавленными руками в снегу перед своим домом, а у его ног – изуродованный труп Питера Слейтера, его соседа. Объятый ужасом, он бросился в лес, не в силах лицезреть то, что могло быть делом его рук. Ничего другого он, по‑видимому, не помнил, и даже умело поставленные вопросы специалистов не прояснили сути.
Ту ночь Слейтер провел спокойно и, проснувшись, тоже ничем особенным о себе не заявил, хотя выражение его лица несколько изменилось. Доктору Бернарду, чьим пациентом он стал, показалось, что в светло‑голубых глазах появился странный блеск, а обвисшие губы слегка сжались, как бы от некоего принятого решения. Однако на вопросы Слейтер отвечал с прежней безучастностью жителя гор, повторяя то же, что и вчера.
Первый приступ болезни произошел в больнице на третье утро. Сначала Слейтер метался во сне, а затем, проснувшись, впал в такое бешенство, что лишь усилиями четверых санитаров на него удалось надеть смирительную рубашку. Психиатры, чье любопытство было до крайности возбуждено захватывающими при всей их противоречивости и непоследовательности рассказами родных и соседей больного, дружно обратились в слух. В течение четверти часа Слейтер делал отчаянные попытки освободиться, бормоча на своем примитивном диалекте что‑то о зеленых, полных света зданиях, о громадных пространствах, странной музыке, призрачных горах и долинах. Но более всего его занимало нечто таинственное и сверкающее, что раскачивалось и хохотало, потешаясь над ним. Это громадное и непонятное существо, казалось, заставляло Слейтера мучительно страдать, и его сокровенным желанием было свершить кровавый акт возмездия. По его словам, он готов, чтобы убить это существо, лететь через бездны пространства, сжигая всё на своем пути. Слейтер повторял это много раз, а потом вдруг замолк. Огонь безумия потух в его глазах, и вот он уже в тупом недоумении смотрит на врачей, не понимая, почему связан. Доктор Бернард освободил больного от пут, и тот провел на свободе весь день, однако перед сном его убедили надеть смирительную рубашку. Слейтер признавал, что иногда немного чудит, но вот почему – объяснить не мог.
На протяжении недели у Слейтера было еще два приступа, но они мало что нового подсказали докторам. Те ломали голову над подоплекой его видений: читать и писать их подопечный не умел, сказок и легенд тоже, очевидно, не знал. Откуда же брались эти фантастические образы? Их внелитературное происхождение выдавала речь несчастного безумца, остававшаяся во всех случаях крайне примитивной. В бреду он говорил о вещах, которых не понимал и о которых не мог толком рассказать; он переживал нечто такое, о чем никогда ранее слышать не мог. Врачи вскорости сошлись на том, что причиной болезни стали патологические сны пациента, необычайно яркие образы которых и после пробуждения владели разумом этого жалкого существа. Дабы соблюсти необходимые формальности, Слейтер предстал перед судом по обвинению в убийстве, был признан сумасшедшим, оправдан и направлен в лечебницу, где я тогда занимал скромное положение интерна.
Как я уже говорил, меня всегда занимала жизнь человека во сне, отсюда понятно нетерпение, с каким я приступил к осмотру пациента, предварительно ознакомившись со всеми документами. Он, казалось, почувствовал мою симпатию и нескрываемый интерес к нему, оценил и ту мягкость, с которой я его расспрашивал. В дальнейшем он не узнавал меня во время приступов, когда я затаив дыхание внимал его хаотичному рассказу о космических видениях, зато всегда узнавал в спокойные периоды, сидя у зарешеченного окна за плетением корзин и, возможно, тоскуя о навсегда утраченной жизни в горах. Родные его не навещали, они, наверное, нашли другого главу семейства, как это принято у отсталых горных племен.
Постепенно я все более восхищался безумным и фантастическим миром грез Джо Слейтера. Сам он был поразительно убог в интеллектуальном и языковом отношении, однако его ослепительные, грандиозные видения, пусть и переданные на бессвязном варварском жаргоне, могли зародиться лишь в особом, высшем сознании. Я часто задавал себе вопрос: как могло случиться, что неразвитое воображение дегенерата с Катскиллских гор могло вызвать к жизни картины, отмеченные искрой гения? Как мог неотесанный тупица воссоздать эти блистающие миры, полные божественного сияния и необъятных пространств, о которых Слейтер вещал в безумном бреду? Я всё больше склонялся к мысли, что в жалком человечишке, подобострастно взирающем на меня, таится нечто, выходящее за рамки понимания, как моего, так и моих более опытных, но наделенных скудным воображением коллег.
От самого же больного я не мог узнать ничего определенного. Мне удалось лишь выяснить, что в своем полусне Слейтер бродит, а иногда плавает в неведомых людям пространствах – среди огромных сверкающих долин, лугов, садов, городов, сияющих дворцов. Там он уже был не полудиким выродком, а личностью яркой и значительной, чьи деяния исполнены достоинства и величия. Существование ему омрачал лишь некий смертельный враг, который был не похож на человека и обладал хотя и видимой, но нематериальной структурой. Именно поэтому Слейтер и называл его «штуковиной». Эта «штуковина» причиняла Слейтеру чудовищные, непонятного свойства страдания, за которые наш маньяк (если он таковым все же являлся) порывался отомстить.
Из того, что рассказывал Слейтер, я уяснил, что он и «сверкающая штуковина» обладали равной мощью, что сам он во сне тоже был «сверкающей штуковиной» – словом, принадлежал к той же породе, что и его враг. Эту догадку подтверждали и его частые упоминания о полетах сквозь пространства, когда он сжигал на своем пути все преграды. Эти видения облекались больным в нескладную, совершенно неадекватную форму, что позволило мне прийти к выводу, что в мире его сновидений, если он действительно существовал, общение происходит без помощи слов. Может быть, душа, сопутствуя этому убогому созданию в его снах, изо всех сил пыталась передать ему нечто такое, что не выговаривалось на его примитивном и ограниченном языке? И возможно, я встретился с интеллектуальной эманацией, чью тайну я мог бы раскрыть, если бы нашел способ. Я не поверял свои мысли старым врачам: с возрастом люди становятся скептиками и циниками, с трудом принимая новое. Кроме того, совсем недавно главный врач по‑отечески предостерег меня: по его мнению, я слишком много работаю и нуждаюсь в отдыхе.
Я всегда думал, что человеческая мысль в своей основе – поток атомов и молекул, который можно представить в виде либо радиоволн, либо лучевой энергии, подобно теплу, свету и электричеству. Эта идея развилась в убеждении, что телепатия, или мысленная связь, может осуществляться с помощью соответствующих приборов. Еще в колледже я собрал приемник и передатчик, напоминающие те громоздкие устройства, которые применялись в беспроволочном телеграфе, когда еще не существовало радио. Со своим другом, тоже студентом, я провел ряд ни к чему не приведших опытов, после чего запрятал приборы подальше, вместе с другим учебным хламом, пообещав себе когда‑нибудь заняться этим снова.
И вот теперь, охваченный желанием разгадать тайну сна Джо Слейтера, я отыскал эти приборы и провозился с ними несколько дней, готовя для испытаний. Приведя устройство в порядок, я не упускал ни одного случая испробовать его. Как только у Слейтера начинался приступ бешенства, я тут же закреплял передатчик на его голове, а приемник – на своей и, слегка поворачивая рукоятку настройки, пытался отыскать, возможно, существующую волну умственной энергии. Я с трудом представлял себе, в какой форме – в случае успеха – будет усваиваться эта энергия моим мозгом, но не сомневался, что сумею распознать и истолковать ее. Я проводил эти эксперименты, никого не поставив о них в известность.
Это случилось 21 февраля 1901 года. Оглядываясь назад, я отдаю себе отчет в фантастичности случившегося и иногда задумываюсь, не был ли прав доктор Фентон, приписавший мой рассказ игре больного воображения. Помнится, он выслушал его сочувственно и терпеливо, однако тут же дал мне успокоительное и сделал все, чтобы уже на следующей неделе я смог уйти в полугодовой отпуск.
Той роковой ночью я был до крайности возбужден и расстроен, так как стало ясно, что, несмотря на прекрасный уход и лечение, Джо Слейтер умирает. То ли ему недоставало его родных горных просторов, то ли ослабший организм уже не мог справляться с бурями, сотрясавшими его мозг, но, каковы бы ни были истинные причины, огонек жизни еле теплился в его измученном теле. В тот день он всё время дремал, а с наступлением темноты впал в беспокойный сон.
Против обыкновения я не надел на него смирительную рубашку, решив, что он уже слишком слаб и не может представлять опасности, даже если перед смертью переживет еще один приступ помешательства. Однако я все же закрепил на наших головах провода космического «радио», смутно надеясь получить, хоть в эти последние часы, первое и единственное послание из загадочного мира сна. В палате кроме меня был еще санитар, простоватый парень, ничего не смысливший в моем устройстве и не пытавшийся расспрашивать меня о цели моих манипуляций. Часы тянулись медленно; я заметил, что голова санитара свесилась на грудь, но не будил его. Вскоре я и сам, убаюканный равномерным дыханием здорового человека и умирающего, должно быть, задремал.
Меня разбудили звуки странной музыки. Аккорды, отзвуки, экстатические вихри мелодий неслись отовсюду, а перед моим восхищенным взором открылось захватывающее зрелище неизъяснимой красоты. Стены, колонны, архитравы, как бы наполненные огнем, ослепительно блистали со всех сторон. Я же, находившийся в центре, казалось, парил в воздухе, устремляясь ввысь, к огромному, уходящему в бесконечность своду, великолепие которого я бессилен описать. Рядом с величественными дворцами (а точнее сказать, время от времени вытесняя их в калейдоскопическом вращении) появлялись бескрайние равнины, мирные долины, высокие горы, уютные гроты. Я сам мог прибавлять им очарования: стоило мне подумать о чем‑то, что могло украсить их еще больше, и это тут же возникало, вылепляясь по моему желанию из некой сверкающей, легкой и податливой субстанции, в которой равно присутствовали и материя и дух. Созерцая всё это, я быстро осознал, что во всех восхитительных метаморфозах повинен мой мозг: каждый новый, открывающийся передо мной вид был именно таким, каким хотело видеть мое переменчивое сознание. Я не чувствовал себя чужим в этом раю: мне был знаком каждый его уголок, каждый звук, как будто я обитал здесь и буду обитать вечно.
Затем ко мне приблизилась сверкающая аура моего солнечного собрата, и у нас завязался разговор – душа с душой, бессловесный и полный обмен мыслями. Приближается час его триумфа, скоро он отбросит сковывающую его тленную плоть, навсегда освободится от нее и ринется за своим ненавистным врагом в отдаленный уголок Вселенной, где огнем свершит грандиозное возмездие, которое заставит дрожать небесные сферы. Мы парили рядом, но вот я заметил, как вокруг нас начали меркнуть и исчезать предметы, будто некая сила призывала меня на землю, куда мне так не хотелось возвращаться. Существо рядом со мной, казалось, почувствовало это и стало заканчивать беседу, готовясь к расставанию, однако оно удалялось от меня с меньшей скоростью, чем всё остальное. Мы обменялись еще несколькими мыслями, и я узнал, что у нас со сверкающим братом еще будет встреча, но уже в последний раз. Сдерживающая его жалкая оболочка должна вот‑вот распасться, меньше чем через час он будет свободен и погонит своего врага через Млечный Путь, мимо ближних звезд к самым границам Вселенной.
Весьма ощутимый толчок отделял последние картины постепенно затухающего света от моего резкого, сопровождаемого чувством неопределенной вины перехода в состояние бодрствования. Я сидел, выпрямившись на стуле, глядя, как умирающий беспокойно мечется на койке. Джо Слейтер, несомненно, просыпался, хотя, по‑видимому, уже в последний раз. Вглядевшись, я заметил, что на его впалых щеках появился отсутствовавший доселе румянец. Плотно сжатые губы тоже выглядели необычно, словно принадлежали человеку с более сильным, чем у Слейтера, характером. Мускулы лица окаменели, глаза были закрыты, но тело конвульсивно сотрясалось.
Я не стал будить санитара, а, напротив, поправив съехавшие наушники телепатического «радио», ждал последних, прощальных сигналов, которые мог передать мне спящий. Тот же внезапно повернул ко мне голову, открыл глаза, и я остолбенел: катскиллский вырожденец Джо Слейтер смотрел на меня не прежними выцветшими глазками, а широко распахнутыми огненными очами. В его взгляде не было ни безумия, ни тупости. Никаких сомнений – на меня глядело существо высшего порядка.
В то же самое время мой мозг начал ощущать настойчивые сигналы извне. Чтобы лучше сосредоточиться, я закрыл глаза и тут же был вознагражден отчетливо уловленной мною мыслью: «Наконец‑то мое послание достигло тебя». Теперь каждая посылаемая информация мгновенно усваивалась мною, и, хотя при этом не использовался ни один язык, мой мозг привычно переводил ее на английский.
«Джо Слейтер умер», – произнес леденящий душу голос, пришедший с той стороны сна. За этим, однако, не последовало то, чего я с ужасом ожидал – страданий, мук агонии, – голубые глаза смотрели на меня так же спокойно, выражение лица было таким же одухотворенным.
«Хорошо, что он умер, он не способен быть носителем космического сознания. Его грубая натура не смогла приспособиться к неземному бытию. В нем было больше от животного, чем от человека, однако только благодаря его невежеству ты узнал меня, ибо космическим и планетарным душам лучше не встречаться. Ведь он в течение сорока двух земных лет ежедневно переживал мучительные пытки.
Я – то существо, каким бываешь и ты сам в свободном сне без сновидений. Я – твой солнечный брат, с которым ты парил в сверкающих долинах. Мне запрещено открыть твоему дневному, земному естеству, кем ты являешься в действительности; знай только, что все мы странники, путешествующие через века и пространства. Спустя год я, возможно, попаду в Египет, который вы зовете древним, или в жестокую империю Тцан Чана, чье время придет через три тысячи лет. Мы же с тобой странствуем в мирах, вращающихся вокруг красной звезды Арктур, пребывая в обличье насекомых‑философов, которые горделиво ползают по четвертому спутнику Юпитера. Как мало знает земной человек о жизни и ее пределах! Но больше ему, ради его же спокойствия, и не следует знать.
О моем враге мне нельзя говорить. Вы, на Земле, интуитивно ощущаете его отдаленное присутствие – недаром этот мерцающий маяк Вселенной вы нарекли Алголь, что означает Звезда‑Дьявол. Тщетно пытался я вырваться в вечность, чтобы встретиться с соперником и уничтожить его, но мне мешала земная оболочка. Этой же ночью я, подобно Немезиде, свершу праведное возмездие, которое ослепит и потрясет космическое пространство. Ищи меня в небе неподалеку от «дьявольской звезды».
Я не могу больше говорить: тело Джо Слейтера застывает, его грубый мозг перестает мне повиноваться. Ты был моим единственным другом на этой планете, единственным, кто прозрел меня в этой отвратительной оболочке, лежащей сейчас на койке, и стал искать ко мне путь. Мы вновь встретимся – может, это случится в светящейся туманности пояса Ориона, может, на открытых плоскогорьях доисторической Азии, может, сегодня во сне, который ты под утро забудешь, а может, в каких‑то новых формах, которые обретет вечность после гибели Солнечной системы».
На этом импульсы прекратились, а взгляд светлых глаз спящего – или, точнее сказать, мертвеца? – потух. Еще не придя в себя от изумления, я подошел к постели больного и взял его руку – она была холодна и безжизненна, пульс отсутствовал. Впалые щеки вновь побледнели, рот приоткрылся, обнажив омерзительные гнилые клыки дегенерата Джо Слейтера. Я поежился, натянул одеяло на уродливое лицо и разбудил санитара. После чего ушел из палаты и молча направился в свою комнату, почувствовав внезапную и неодолимую потребность забыться и видеть сны, которые не смогу вспомнить.
А кульминация? Но разве можно требовать от простого изложения событий, представляющих научный интерес, художественной завершенности? Я просто записал некоторые вещи, показавшиеся мне любопытными, вы же можете толковать их по‑своему. Как я уже упоминал, мой шеф, старый доктор Фентон, не верит ничему из рассказанного мною. Он убежден, что у меня было сильнейшее нервное переутомление и что я срочно нуждаюсь в длительном оплаченном отпуске, каковой он мне великодушно предоставил. Исходя из своего профессионального опыта, доктор уверяет меня, что у Джо Слейтера был параноидальный синдром, а его фантастические рассказы почерпнуты из народных преданий, существующих даже у самых отсталых сообществ. Что бы он ни говорил, я не могу забыть того, что увидел на небе в ночь после смерти Слейтера. Если вы считаете меня сомнительным свидетелем, то окончательное заключение пусть выведет другое перо, что, возможно, и станет желаемой кульминацией. Позволю себе привести следующее описание звезды Nova Persei, сделанное знаменитым астрономом Гарретом П. Сервиссом: «22 февраля 1901 года доктор Андерсон из Эдинбурга открыл новую удивительную звезду неподалеку от Алголя. Ранее на этом месте ее не наблюдали. Через 24 часа незнакомка разгорелась настолько, что по своей яркости превзошла Капеллу. Спустя неделю‑другую она потускнела, однако на протяжении еще нескольких месяцев ее можно было, хоть и с трудом, различить невооруженным глазом».
1919
Показания Рэндольфа Картера
Перевод Олега Колесникова
Повторяю вам, джентльмены: дознание, которое вы проводите, не даст никакого результата. Хоть целую вечность удерживайте меня здесь, заточите в темницу, казните меня – если считаете нужным принести жертву мнимому божеству, что зовется «правосудием», – ничего нового вы от меня не услышите. Я рассказал все, что помню, поведал как на духу, ничего не скрывая и не искажая, а если что осталось непроясненным – виной тому мгла, застилавшая мой рассудок, и непостижимая природа тех ужасов, что ее вызвали.
Повторяю: я не знаю, что случилось с Харли Уорреном, хотя думаю – по крайней мере, надеюсь, – что он пребывает в безмятежном забытьи, если, конечно, столь благословенная вещь вообще существует. Истинно то, что на протяжении пяти лет я был его ближайшим другом и верным спутником в опаснейших изысканиях в области неизведанного. Не стану также отрицать – особенно потому, что моя собственная память стала слаба, – что человек, который свидетельствовал здесь, вполне мог видеть нас вдвоем в ту страшную ночь в половине двенадцатого на Гейнсвильском пике, направляющихся, по его словам, в сторону Большой кипарисовой топи. То, что мы несли электрические фонари, лопаты и моток провода, соединяющий какие‑то аппараты, я готов подтвердить и под присягой, ибо эти предметы играли важную роль в той чудовищной истории, разрозненные фрагменты которой глубоко врезались мне в память, как бы та ни была слаба и ненадежна. Но о том, что произошло впоследствии и почему меня обнаружили наутро на краю болота одного и в невменяемом состоянии, – я не способен поведать ничего помимо того, что уже устал вам повторять. Вы утверждаете, что ни на болоте, ни где‑либо рядом нет места, подходящего под описанный мною кошмарный эпизод. Я повторяю, что только описываю увиденное собственными глазами. Было это видением или бредом – о, я надеюсь, что видением или бредом! – не знаю, но это все, что сохранилось в моей памяти от тех страшных часов, когда мы пребывали исключительно друг с другом, вдали от прочих людей. И на вопрос, почему Харли Уоррен не вернулся, способен ответить только он сам, или его тень, или та сущность, для которой у меня нет названия и которую я не в силах описать.
Я не скрывал, что не только был в курсе того, какого рода изысканиям посвящает себя Харли Уоррен, но и отчасти принимал в них участие. Я прочитал все книги из его обширной коллекции старинных раритетов на запретные темы, что написаны на языках, которыми я владею; таких, однако, оказалось меньшинство по сравнению с фолиантами, исписанными абсолютно непонятными мне значками. Большая часть из них, насколько я могу судить, были арабскими, но та вдохновленная нечистой силой книга, что привела к чудовищной развязке – он унес ее с собой в кармане, – была написана знаками, подобных которым я нигде и никогда не встречал. Уоррен же ни за что не соглашался открыть мне, о чем она. Что же касается характера наших штудий – могу лишь повторить, что теперь уже не вполне это представляю. И, говоря откровенно, даже рад своей забывчивости, потому что в целом они были жутковаты, и я принимал участие скорее с деланным энтузиазмом, нежели с искренним интересом. Уоррену всегда удавалось помыкать мною, и я его отчасти даже побаивался. Помню, мне стало не по себе от выражения его лица накануне этого ужасного происшествия, когда он увлеченно излагал мне свои соображения относительно того, почему некоторые трупы не разлагаются, но тысячелетиями лежат в могилах, неподвластные тлену. Но теперь я не боюсь его; сам он, похоже, столкнулся с такими ужасами, по сравнению с которыми мой страх ничто. Теперь я боюсь за него.
Повторяю снова, что не имею внятного представления о наших намерениях той ночью. Несомненно лишь, что это было тесным образом связано с книгой, которую Уоррен захватил с собой, – упомянутой уже древней книгой, написанной непонятным алфавитом, полученной им по почте из Индии месяц назад, – но, клянусь, я не знаю, что именно мы предполагали найти. Свидетель утверждает, что видел нас в половине двенадцатого на Гейнсвильском пике направляющимися в сторону Большой кипарисовой топи. Возможно, так оно и было, но в памяти у меня все расплывчато. Врезалась мне в душу и опалила ее сцена, явно имевшая место значительно позже; полагаю, было уже далеко за полночь, поскольку серп луны застыл высоко в мглистых небесах.
Окружало нас старое кладбище, настолько древнее, что я испытывал трепет, глядя на многочисленные приметы глубокой старины. Располагалось оно в глубокой сырой лощине, заросшей мхом, редкой травой и причудливо стелющимися сорняками. Неприятный запах в этой лощине в моем воображении абсурдным образом вязался с гниющим камнем. Нас окружали дряхлость и запустение, и меня не покидала мысль, что за многие века мы с Уорреном – первые живые существа, нарушившие безмятежность здешних могил. Бледная ущербная луна тускло проглядывала над краем ложбины сквозь нездоровые испарения, струившиеся, казалось, из каких‑то невидимых катакомб, и в ее слабом свете я различал зловещие очертания древних плит, урн, кенотафов и фасадов мавзолеев; все это было разрушающимся, поросшим мхом, потемневшим от времени и наполовину скрытым в буйно разросшейся вредоносной растительности.
Мое первое яркое впечатление от этого чудовищного некрополя: мы с Уорреном остановились возле какой‑то древнего вида гробницы и скинули на землю то, что принесли с собой. Возле меня лежали две лопаты и электрический фонарь, а возле моего спутника – точно такой же фонарь и переносные телефонные аппараты. Мы не проронили ни слова – и место, и наша цель были нам, похоже, хорошо известны – и, не теряя времени, взялись за лопаты и принялись счищать траву, сорняки и налипшую землю с древнего плоского надгробья. Расчистив крышу склепа, составленную из трех тяжелых гранитных плит, мы чуть отошли назад, посмотреть со стороны на представшую нам картину, а Уоррен, похоже, делал в уме какие‑то прикидки. Вернувшись к гробнице, он, орудуя лопатой как рычагом, попытался приподнять плиту, ближайшую к груде камней, которая, должно быть, в свое время представляла собой памятник. Не преуспев в этом, он жестом позвал меня на помощь. Совместными усилиями мы расшатали каменный блок, приподняли его и поставить на торец.
На месте удаленной плиты зиял черный провал, из которого хлынули настолько тошнотворные миазмы, что мы в ужасе отпрянули. Спустя некоторое время, когда испарения стали менее густыми, мы снова приблизились к яме. Наши фонари осветили верхние ступени, сочащиеся какой‑то мерзкой подземной сукровицей, каменной лестницы, ограниченной по сторонам влажными стенами с налетом селитры. Именно тогда прозвучали первые сохранившиеся в моей памяти слова – их произнес Уоррен, обращаясь ко мне, и голос его, несмотря на кошмарную обстановку, был таким же спокойным, как всегда.
– К великому сожалению, – сказал он, – вынужден просить тебя оставаться здесь, наверху. Было бы преступлением с моей стороны позволить человеку с таким слабыми нервами, как у тебя, спуститься туда. Ты не можешь даже вообразить, несмотря на все прочитанное и услышанное от меня, что суждено увидеть и совершить мне. Это дьявольская миссия, Картер, и нужно обладать стальными нервами, чтобы, после всего того, что предстоит мне увидеть внизу, вернуться в наш мир живым и в здравом уме. Не хочу обидеть тебя и, видит Бог, я рад, что сейчас ты со мной, но вся ответственность за предстоящее в некотором роде лежит на мне, а я не считаю себя вправе приводить такой сгусток нервов, как ты, к порогу возможной смерти или безумия. Твоему воображению недоступно то, что ждет меня там! Но обещаю ставить тебя в известность по телефону о каждом своем движении, а провода, как видишь, у нас хватит до центра Земли и обратно.
Эти бесстрастно произнесенные слова все еще звучат у меня в ушах, и я хорошо помню свои протесты. Я отчаянно упрашивал его взять меня с собой в глубины гробницы, но он оставался неумолимым и даже пригрозил, что откажется от своего замысла, если я буду продолжать настаивать. Именно эта угроза и подействовала, ибо лишь у него был ключ к тайне. Этот момент я хорошо помню, а вот чего ради мы туда прибыли – сказать теперь не могу. Добившись от меня безусловного согласия во всем слушаться его, Уоррен поднял с земли провод и подключил аппараты. Я взял один из них и уселся на старый заплесневелый камень рядом с проходом в гробницу. Уоррен пожал мне руку, накинул моток провода на плечо и начал спускаться в недра мрачного склепа.
С минуту мне были видны отсветы его фонаря и слышно шуршание скидываемого витками с плеча провода, но потом свет резко исчез, будто лестница сделала резкий поворот, и почти тут же стихли и звуки. Я остался в одиночестве, хотя и со связью с неведомыми безднами через волшебную нить, изоляция которой зеленовато отсвечивала в слабых лучах лунного серпа.
Я то и дело светил фонарем на циферблат часов и с лихорадочным беспокойством прижимал ухо к телефонной трубке, однако на протяжении четверти часа так и не услышал ни звука. Потом в трубке раздался слабый треск, и я в тревоге выкрикнул в нее имя своего друга. Несмотря на терзающие меня предчувствия, я оказался никак не готов услышать те слова, что устройство донесло до меня из глубин чертова склепа, произнесенные таким встревоженным, дрожащим голосом, что я не сразу опознал Харли Уоррена. Еще совсем недавно такой невозмутимый и бесстрастный, теперь он говорил шепотом, звучащим страшнее, чем душераздирающий вопль:
– Боже! Если бы ты только мог видеть то, что вижу я!
Я не смог вымолвить ни слова. Только безмолвно ждал. Затем испуганный шепот продолжил:
– Картер, это ужасно… чудовищно… невообразимо!
Наконец я смог совладать со своим голосом и разразился потоком полных тревоги вопросов. Вне себя от ужаса я повторял снова и снова:
– Уоррен, что там? Что там?
Я вновь услышал голос друга – искаженный страхом голос, в котором были отчетливо слышны нотки отчаяния:
– Я не могу сказать тебе, Картер! Это выше всякого понимания… я не должен говорить тебе… никакой человек не способен выжить, узнав об этом! Великий Господь! Я ожидал чего угодно, но только не такого!
В трубке установилось молчание, несмотря на бессвязный поток вопросов с моей стороны. Потом опять прозвучал голос Уоррена – похоже, на высшей ступени уже не сдерживаемого ужаса:
– Картер, во имя любви к Господу, верни плиту на место и беги отсюда, пока не поздно! Скорее! Сделай так и убегай скорее – это твой единственный шанс на спасение! Делай, как я говорю, и ни о чем не спрашивай!
Я слышал это и тем не менее продолжал испуганно повторять вопросы. Вокруг меня были могилы, тьма и тени; внизу подо мной – ужас, недоступный человеческому пониманию. Но мой друг пребывал в еще большей опасности, чем я, и, несмотря на испуг, мне было обидно, что он полагает меня способным бросить его в таких обстоятельствах. В трубке прозвучали еще несколько щелчков, а затем отчаянный вопль Уоррена:
– Уматывай скорее! Ради бога, столкни плиту на место и уматывай отсюда, Картер!
То, что мой спутник опустился до просторечных выражений, свидетельствовало о крайней степени его потрясения, и это оказалось последней каплей. Приняв вдруг решение, я прокричал:
– Уоррен, держись! Я спускаюсь к тебе!
На эти слова трубка откликнулась воплем, в котором сквозило уже полное отчаяние:
– Не делай этого! Ты не понимаешь!.. Уже слишком поздно… И лишь я один виноват! Столкни плиту и беги – мне уже никто не поможет!
Тон Уоррена опять изменился – сделался мягче, в нем стала слышна горечь безнадеги, но при этом ясно звучала тревога за мою судьбу.
– Скорее, а то будет поздно!
Я пытался не слишком вслушиваться в его увещевания, стараясь стряхнуть сковавший меня паралич и броситься ему на помощь. Но когда он обратился ко мне в очередной раз, я все еще сидел без движения, скованный леденящим ужасом.
– Картер, торопись! Не теряй времени! Все бесполезно… тебе нужно уходить… лучше я один, чем мы оба… плиту…
Пауза, щелчки и вслед за тем слабый голос Уоррена:
– Почти все кончено… не продлевай этого… завали вход на чертову лестницу и беги со всех ног… ты зря теряешь время… прощай, Картер… прощай навсегда…
Внезапно Уоррен перешел с шепота на крик, переходящий в вопль, исполненный тысячелетнего ужаса:
– Будь они прокляты, эти исчадия ада!.. их здесь легионы!.. Господи!.. Беги! Беги! БЕГИ!
После этого наступила тишина. Бог знает сколько тысячелетий я просидел ошеломленный, бормоча, взывая и выкрикивая в телефонную трубку. Уходило тысячелетие за тысячелетием, а я все сидел и шептал, звал, кричал и вопил:
– Уоррен! Уоррен! Ответь мне – ты все еще здесь?
А потом на меня обрушился ужас, явившийся апофеозом всего происшедшего – немыслимый, невообразимый и почти необъяснимый. Я уже сказал, что, казалось, многие тысячелетия миновали с тех пор, как Уоррен выкрикнул последнее отчаянное предупреждение, и с тех пор лишь мои крики нарушали гробовую тишину. Однако спустя все это время в трубке снова раздались щелчки, и я весь обратился в слух.
– Уоррен, ты здесь? – снова позвал я, но в ответ мой рассудок накрыло беспроглядной мглой. Я даже не пытаюсь дать себе отчет о том, что именно имею в виду, джентльмены, и не решаюсь как‑то описать это, ибо первые же услышанные мною слова лишили меня чувств и привели к тому провалу в памяти, что продолжается вплоть до момента моего пробуждения в больнице. Имеет ли смысл говорить о том, что голос казался низким, вязким, глухим, отдаленным, замогильным, нечеловеческим, бесплотным? Что еще могу я рассказать? На этом заканчиваются мои воспоминания, и далее я не способен поведать ничего. Услышав этот голос, донесшийся из глубин зияющего спуска в склеп, я впал в беспамятство – на неведомом кладбище в глубокой сырой лощине, в окружении крошащихся плит и покосившихся надгробий, где все оплетено растениями и пропитано зловонными испарениями – и сидел, оцепенело наблюдая за пляской под бледной ущербной луной бесформенных, питающихся трупами теней.
А произнес он вот что:
– Идиот! Уоррен МЕРТВ!
1920
Кошки Ултара
Перевод Валерии Бернацкой
Рассказывают, что в городке Ултар, лежащем за рекой Скай, запрещено убивать кошек. И, глядя на кота, который мурлыча греется у камелька, я думаю, что это мудрое решение. Ведь кот – загадочнейшее существо, он посвящен в сокрытые от человека тайны. Он – душа Древнего Египта и единственный свидетель существования давно забытых городов: Мероэ[1] и Офира[2]. Он – родственник властелина джунглей и посвящен в тайны древней и загадочной Африки. Сфинкс – его кузен, они говорят на одном языке, но все же кот старше сфинкса и помнит такое, о чем тот давно позабыл.
В Ултаре еще до выхода указа, запрещающего убивать кошек, жил старик крестьянин с женой, и ничто им не было так любо, как изловить и погубить соседскую кошку. Трудно сказать, зачем они это делали, разве что были из тех, кто не выносит кошачьи вопли по ночам, кого передергивает при мысли, что кошки крадучись бродят в полночь по дворам и садам. Так или иначе, старики с удовольствием заманивали в западню и убивали каждую кошку, имевшую несчастье приблизиться к их жилищу, а по разносившимся ночью воплям соседи догадывались, что конец животных был ужасен. И все же никто не заговаривал об этом со стариками – слишком уж невозмутимое выражение хранили они на своих лицах, да и жили на отшибе, в маленькой хибарке под развесистыми дубами. А если уж говорить начистоту, то хотя кошачьи хозяева и ненавидели эту парочку, но еще больше боялись и, вместо того, чтобы как следует проучить жестоких убийц, старались следить, чтобы их любимцы не бродили поблизости от уединенной хижины под густыми деревьями и не ловили там мышек. Когда все же случалось непоправимое и кошка пропадала, владелец, слыша после наступления темноты вопли несчастной твари, бессильно плакал или же возносил хвалу Богу за то, что такая судьба не постигла его ребенка. Ведь жители Ултара были простыми людьми и не знали всю славную родословную кошек.
И вот однажды диковинный караван с юга вступил на узкие, мощенные булыжником улицы Ултара. Темнокожие путешественники отличались от обычного бродячего люда, что проходил через деревню дважды в год. На рынке они предсказывали за деньги судьбу и покупали яркие бусы. Никто не знал, откуда родом эти странники, но молились они как‑то чудно, да и повозки их украшали странные фигуры с человеческим торсом и с головами кошек, соколов, баранов и львов. А голову предводителя каравана венчал двурогий убор с загадочным диском посередине.
Ехал с этим удивительным караваном маленький мальчик; не было у него ни отца, ни матери, а был только крошечный черный котенок, которого он очень любил. Жестокая судьба подарила мальчику это маленькое пушистое существо, дабы смягчить боль всех утрат: когда ты юн, взирать на резвые шалости своего черного дружка – большая утеха. И поэтому мальчик, которого темнокожие люди называли Менесом, играя с грациозным котенком в углу диковинно разукрашенной повозки, смеялся чаще, чем плакал.
На третье утро пребывания каравана в Ултаре котенок исчез. Менес горько рыдал, и тут кто‑то из жителей рассказал ему о старике и его жене и о том, что сегодня ночью из их хижины опять доносились страшные звуки. Услышав это, мальчик перестал рыдать и призадумался, а потом стал молиться. Он простер руки к солнцу со словами молитвы на незнакомом языке. Впрочем, жители городка и не пытались разобрать слова молитвы, их взоры устремились к облакам, которые стали принимать удивительные очертания. Странно, но с каждым словом мальчика на небе возникали неясные, призрачные фигуры экзотических существ, увенчанных короной с двумя рогами и диском посередине. Природа часто дарит людям с воображением удивительные картины.
Той же ночью странники покинули Ултар, и никто их больше не видел. Одновременно в городке исчезли все кошки, что привело в отчаяние их хозяев. Никто больше не мурлыкал у камелька – пропали большие и маленькие, черные, серые, полосатые, рыжие и белые. Старый бургомистр Кренон был уверен, что это темнолицые люди увели с собой кошек, чтобы отомстить за котенка Менеса, и громко проклинал и караван, и самого мальчика. Но по мнению тощего нотариуса Нита, здесь скорее замешаны старый крестьянин и его жена: их ненависть к кошкам с течением времени, казалось, лишь возрастала. И все же никто не осмелился открыто расспросить о случившемся зловещую чету, хотя маленький Атал, сын хозяина гостиницы, клялся, что видел собственными глазами, как в сумерках все кошки Ултара, медленно и торжественно выступая по двое, словно совершая неведомый ритуал, постепенно окружили проклятый дом под деревьями. Жители сомневались, можно ли верить такому малышу, и хотя подозревали, что старые злыдни замучили животных до смерти, все же предпочли не связываться с ними, пока не встретят старика где‑нибудь подальше от его чертова подворья.
Наконец весь Ултар, мучась от бессильной злобы, забылся тяжелым сном, а утром, когда проснулись, – ба! – все кошки снова грелись у печурок. Все были на своих местах – большие и маленькие, черные, серые, полосатые, рыжие и белые. Они вернулись домой, отяжелевшие и лоснящиеся, и громко мурлыкали от удовольствия. Удивленные горожане, толкуя о случившемся, не знали, что и думать. Старый Кренон твердил свое: это‑де темнолицые увели животных, от старика и его жены кошки живыми бы не вернулись. Но удивительнее всего, по общему мнению, было то, что блюдца с молоком и кусочки мяса стояли нетронутыми. Кошки Ултара не притрагивались к пище целых два дня, а только дремали у печки или грелись на солнышке.
Лишь неделю спустя горожане заметили, что по вечерам в окнах дома под дубами не загорается свет. И тогда тощий Нит напомнил им, что с того дня, как пропали кошки, никто не видел старых злыдней. Еще через неделю бургомистр переборол страх и постучал в дверь жилища, исполняя свою обязанность служителя власти, но из дома не донеслось ни звука. Впрочем, бургомистр не забыл захватить с собой кузнеца Шенга и резчика по камню Тула. Когда же они, взломав ветхую дверь, проникли внутрь, то увидели только два дочиста объеденных скелета да ползающих в темных углах тараканов.
Среди жителей Ултара было много всяких толков. Следователь Зат обсудил происшествие во всех подробностях с тощим нотариусом Нитом, а потом засыпал расспросами Кренона, Шенга и Тула. Затем все вместе еще раз с пристрастием допросили маленького Атала, сына хозяина гостиницы, дав ему в награду леденец. А после этого долго судили да рядили о старике крестьянине и его жене.
И в конце концов бургомистр издал памятный указ, о котором рассказывают торговцы в Хатеге и путешественники в Нире, а именно: «Никто в Ултаре не смеет убить кошку».
1920
Полярная звезда
Перевод Олега Колесникова
В мое северное окно жутковато светит Полярная звезда. Сияет долгими адскими часами непроницаемой темноты. И когда на календаре осень и ветры с севера завывают и проклинают все подряд, а в короткие утренние часы под убывающим месяцем красноватые кроны деревьев на болоте перешептываются друг с другом, я сижу возле окна и наблюдаю за этой звездой. Проходят часы, и Кассиопея соскальзывает вниз, тогда как Большая Медведица выползает из‑за пропитанных болотными испарениями деревьев, покачиваемых ночным ветром. Перед самым рассветом Арктур красновато мигает над расположенным на возвышении кладбищем, а Волосы Вероники загадочно подмигивают с таинственного востока, но Полярная звезда продолжает злобно светить на том же самом месте на черном своде, мерзко помигивая, как вперившийся болезненный взгляд силящегося передать какое‑то загадочное сообщение, однако неспособного вспомнить ничего, помимо лишь того факта, что когда‑то обладал этим известием. Иногда, когда на небе пасмурно, мне удается заснуть.
Я хорошо помню ночь большого северного сияния, когда над болотом поигрывал ужасающими вспышками дьявольский огонь. Только когда его закрыли облака, мне удалось заснуть.
Под убывающим месяцем я впервые увидел город. Он лежал, тихий и сонный, на странном плато высоко в горах между двумя странными пиками. Стены и башни его были из мертвенно‑бледного мрамора, как и его колонны, купола и мостовые. На мраморных улицах возвышались мраморные столпы, на верхней части которых были вытесаны лица суровых бородатых мужей. Воздух был теплым и неподвижным. И над всем этим, всего в десяти градусах от зенита, сияла эта стерегущая Полярная звезда. Я долго рассматривал город, но день все не наступал. Когда красный Альдебаран, мерцающий низко над горизонтом, но никогда не заходящий, прополз четверть своего круга, я заметил огни и движение в домах и на улицах. Обитатели, одетые странно, но в то же время благородные и знакомые мне, прогуливались и говорили под убывающим месяцем мудрые слова на языке, который оказался мне вполне понятен, хотя и не был похож ни на какой из известных мне языков. И когда красный Альдебаран совершил еще чуть более половины своего кругового пути, снова установились темнота и молчание.
Пробудившись, я оказался уже не тем, кем был раньше. Над моей памятью тяготело видение города, а в душе вставало другое смутное воспоминание, в природе которого я тогда не был уверен. После этого в те ночи, когда было облачно и я мог спать, я зачастую видел город; иногда его согревали желтые горячие лучи солнца, которое не закатывалось, а описывало круг низко над горизонтом. А в ясные ночи Полярная звезда глядела так злобно, как никогда раньше.
Со временем я стал задумываться: какова моя роль в этом городе на странном горном плато между странными пиками? Сначала я довольствовался наблюдением за его жизнью в качестве вездесущего бестелесного зрителя, но затем у меня возникло желание определить свое отношение к ней и высказывать свои мысли тем суровым людям, которые каждый день вели беседы на общественных площадях. Я сказал себе: «Это не сон, ибо чем я могу доказать, что более реальна та, другая жизнь в доме из камня и кирпича к югу от мрачного болота и кладбища на пригорке, где каждую ночь в мое северное окно заглядывает Полярная звезда?»
Однажды ночью, слушая ораторов на большой площади, где стояло множество статуй, я ощутил в себе перемену и внезапно понял, что перестал быть призраком и обрел материальную форму. Я больше не был чужеземцем на улицах Олатое, города, расположенного на плато Саркиа между пиками Нотон и Кадифонек. В этот момент говорил мой друг Алос, и речь его радовала мою душу, ибо это была речь настоящего мужа и патриота. Этой ночью поступило известие о падении Дайкоса и наступлении инутов, злобных желтокожих карликов, появившихся пять лет назад откуда‑то с запада, опустошавших приграничные области нашего королевства и осаждавших многие наши города. Захватив укрепления у подножия гор, они могли теперь вторгнуться на плато, пусть даже каждый гражданин будет сражаться с ними за десятерых. Эти коренастые негодяи были сильны в военном искусстве и не придерживались понятий чести, которые удерживали наших рослых сероглазых ломарцев от завоевательных походов.
Алос, мой друг, был командующим всех сил плато и нашей последней надеждой. Спокойно и уверенно он говорил о нависшей над нами угрозе и призывал жителей Олатое, храбрейших из ломарцев, вспомнить славные традиции предков, которые, когда им пришлось двинуться на юг из Зобны, отступая от надвигающегося ледника (когда‑нибудь и нашим потомкам придется отступать от него же с земель Ломара), доблестно разгромили волосатых длинноруких каннибалов гнопкехов, преграждавших им путь. Мне Алос не позволил участвовать в боях, потому что я был слабым и подвержен непонятным обморокам при физических и нервных нагрузках. Но мои глаза считались горожанами самыми зоркими, поскольку я ежедневно долгие часы изучал Пнакотические рукописи и премудрость Зобнийских Отцов, поэтому мой друг, не желая моей бесполезной гибели в схватке, оказал мне великую честь, доверив один из важнейших постов. Он отправил меня на сторожевую башню Тапнен, где я должен был послужить глазами его армии. Если инуты попытаются пробраться к цитадели по узкому проходу, огибающему пик Нотон, чтобы захватить гарнизон врасплох, мне следовало огнем подать сигнал, предупредить воинов и спасти город от такой угрозы.
Я в одиночестве отправился на башню, потому что все крепкие телом люди были нужны для обороны горных проходов. Мой мозг был болезненно возбужден и сильно утомлен, ибо я не спал несколько суток, но намерения мои были твердыми, поскольку я любил свою родную страну Ломар и мраморный город Олатое, лежащий между пиками Нотон и Кадифонек.
Но когда я оказался на самом верхнем этаже башни, то увидел серп убывающего месяца, красный и зловещий, мерцающий сквозь дымку испарений над далекой впадиной Баноф. А через окошко в кровле смотрела бледная Полярная звезда, подрагивающая, словно живая, и глядящая искоса, словно недруг и искуситель. Мне показалось, что душа ее вкрадчиво нашептывает, убаюкивая меня и внушая предательскую дремоту отвратительным рифмованным обещанием, повторяемым снова и снова:
Дремлешь, наблюдатель, до поры,
Шесть и двадцать тысяч лет минует,
И тогда вернешься в тот же круг,
Где горят в очаяньи миры.
Звезды светят яростно, в злобе,
Притупляя боль, суля забвенье,
Но едва забудешь опасенья –
Постучится прошлое к тебе.
Тщетно я боролся с овладевающей мной дремотой, пытаясь сопоставить как‑то эти странные слова со знаниями, почерпнутыми из Пнакотических рукописей. Моя голова отяжелела и, покачиваясь, склонилась на грудь, а когда я снова поднял взгляд, уже во сне, из окна на меня злорадно смотрела Полярная звезда над зловеще покачивающимися деревьями на спящем болоте. И мне не удалось проснуться.
Охваченный стыдом и отчаянием, я кричал время от времени, умоляя снящихся мне существ разбудить меня, потому что инуты могут прокрасться через проход, огибающий пик Нотон, и захватить цитадель врасплох, но эти существа, демоны, смеялись надо мною и говорили, что я брежу. Они насмехались надо мною, спящим, а коренастые желтокожие враги уже, наверное, молчаливо подбирались к оборонявшимся. Я не справился со своим заданием и предал мраморный город Олатое. Я не оправдал надежды Алоса, моего друга и командира. Но призраки из моего сна по‑прежнему смеются надо мной. Они говорят, что страна Ломар существует только в моих видениях; что в тех краях, где Полярная звезда стоит высоко, а красный Альдебаран крадется вдоль горизонта, уже давно, тысячи лет, нет ничего, кроме снега и льда, и обитают только низкорослые желтокожие туземцы, прозябающие в этом холодном крае и называемые эскимосами.
Терзаемый чувством вины, отчаянно пытаясь спасти город, отвести от него угрозу, я безуспешно старался пробудиться от этого чудовищного сна, в котором я пребываю в доме из камня и кирпича к югу от мрачного болота и кладбища на пригорке, где каждую ночь в мое северное окно заглядывает Полярная звезда, злобная и чудовищная, посматривает с черного небосвода, издевательски подмигивая, как уставившийся глаз сумасшедшего, силящегося передать какую‑то весть, но неспособного вспомнить ничего, кроме того, что когда‑то знал какое‑то известие.
1920
Дерево
Перевод Юрия Соколова
Многие годы назад, когда вилла на склоне холма еще сверкала новым великолепием, в ней обитали два скульптора – Калос и Музидес. Красоту их работ превозносили от Лидии до Неаполя, и никто не посмел бы сказать, что мастерство одного из них превосходит мастерство другого. Изваянный Калосом Гермес стоял во мраморном святилище в Коринфе, a Паллада Музидеса венчала собой столп в Афинах неподалеку от Парфенона. Все люди почитали Калоса и Музидеса и дивились тому, что никакая тень артистического соперничества не омрачает теплоту их братской дружбы.
Однако, хотя Калос и Музидес пребывали в нерушимой гармонии, по природе своей они были людьми различными. В то время как Музидес бражничал ночами посреди городских увеселений Тегеи, Калос оставался дома, ускользнув от внимания своих рабов в какой‑нибудь из прохладных уголков масличной рощи. Там размышлял он над видениями, наполнявшими его разум, и обдумывал очертания той красоты, которая впоследствии сделалась бессмертной в дыхании мрамора. Впрочем, праздные люди говорили, что Калос общается с духами рощи и созданные им статуи всего лишь изображают явившихся ему там фавнов и дриад, ибо он не пользовался в своей работе услугами живых натурщиков.
Столь знаменитыми были Калос и Музидес, что никто не удивился, когда Тиран Сиракуз прислал к ним своих людей, чтобы обсудить многоценную статую Тюхе[3], которую он намеревался поставить в своем городе. Огромной и хитроумно сделанной должна была быть она, ибо изваянию этому надлежало стать чудом для соседних народов и объектом интереса путешественников. Высокими помыслами надлежало обладать тому, чья работа могла бы заслужить одобрение, и Калос и Музидес получили приглашение побороться за эту честь. О братской любви их было известно повсюду, и хитроумный Тиран полагал, что оба не станут скрывать друг от друга своих работ, предлагая совет и помощь; и взаимная щедрость эта послужит созданию двух образцов небывалой доселе красоты, самый чарующий из которых затмит даже мечты поэтов.
Скульпторы с радостью приняли предложение Тирана, и в последовавшие дни рабы их слышали только непрекращающийся перестук молотков. Друг от друга Калос и Музидес не скрывали своих работ, однако другим не показывали. Никакие другие глаза, кроме их собственных, не лицезрели два божественных изваяния, под искусными руками высвобождавшихся из грубых камней, заточавших их в себе от начала мира.
По ночам, как и прежде, Музидес посещал пиршественные залы Тегеи, в то время как Калос бродил в одиночестве по оливковой роще. И все же с течением времени люди заметили, что веселье оставляет прежде искрившегося им Музидеса. Странно, говорили они между собой, что такое уныние может охватить человека, только что получившего столь великий шанс заслужить высочайшую награду своему мастерству. Много месяцев миновало, однако на кислом лице Музидеса никак не обнаруживалось то напряженное ожидание, которого вроде бы требовала ситуация.
А потом однажды Музидес сообщил, что Калос болен, после чего никто уже не удивлялся его печали, ибо все знали, что дружеская привязанность скульптора свята и глубока. Многие теперь отправлялись повидать Калоса и в самом деле замечали бледность лица его; однако теперь Калоса окутывала блаженная ясность, делавшая взгляд его еще более волшебным, чем взор Музидеса, явно отвлеченного тревогой и отодвинувшего прочь всех рабов, чтобы лично ухаживать за своим другом и кормить его из собственных рук. А за плотными занавесками в забвении пребывали две незаконченные каменные фигуры Тюхэ, к которым почти не прикасались в последнее время резцы больного и его верного служителя.
Необъяснимым образом теряя и теряя силы вопреки стараниям озадаченных врачей и своего усердного друга, Калос часто выражал желание, чтобы его отнесли в любимую масличную рощу. Там он просил, чтобы его оставили одного, словно бы желая поговорить с тварями незримыми. Музидес всегда исполнял его просьбы, хотя глаза его наполнялись заметными всем слезами при мысли о том, что Калос более интересуется фавнами и дриадами, чем своим другом. Наконец смерть подошла совсем близко, и Калос принялся говорить о предметах, лежащих за гранью сей жизни. Музидес, рыдая, пообещал другу воздвигнуть ему гробницу, много более красивую, чем склеп Мавзола; однако Калос воспретил ему даже вспоминать о мраморном великолепии. Только одно желание преследовало теперь умирающего: чтобы веточки нескольких маслин из рощи поместили в месте его упокоения – возле головы. И вот однажды ночью, пребывая в одиночестве во мраке масличной рощи, Калос скончался. Прекрасной, выше всякого описания, была мраморная гробница, которую исполненный горя Музидес высек из камня для своего любимого друга. Никто другой, кроме самого Калоса, не смог бы создать подобные барельефы, изображавшие Элизий во всем великолепии. Не позабыл Музидес и поместить взятые из рощи веточки олив возле головы Калоса.
Когда острота горя оставила Музидеса и сменилась смирением перед судьбой, он принялся усердно работать над своим изваянием Тюхе. Все почести теперь заранее принадлежали ему, поскольку сиракузский Тиран не желал иметь дело с каким‑либо другим скульптором, кроме него или Калоса. Работа предоставила свободный выход его чувствам, и Музидес ни на день не оставлял ее и усердно трудился, забросив развлечения, которыми прежде так наслаждался.
Тем временем он проводил свои вечера возле надгробия друга, из‑под которого, у головы спящего, пробилась юная маслина. Так быстро росло это деревце и столь странными оказались его очертания, что всякий побывавший у гроба дивился им, восклицая; a Музидес как будто бы одновременно восторгался и испытывал отвращение.
Через три года после смерти Калоса Музидес отправил к Тирану вестника, и на Тегейской агоре начали шептать, что великое изваяние завершено. К этому времени дерево у гробницы приобрело удивительные пропорции, превосходя все прочие деревья своего рода, а особенно тяжелая ветвь протянулась над помещением, в котором работал Музидес. Многие приходили, чтобы полюбоваться великолепным деревом и восхититься искусством скульптора, так что он редко оставался в одиночестве.
Однако множество гостей не смущало его; напротив, он как бы опасался оставаться один, теперь, после того как была завершена целиком поглотившая его работа. Нудный горный ветер, вздыхавший в масличной роще и в ветвях выросшего на могиле древа, странным образом производил едва ли не осмысленные звуки.
Под сумрачным вечерним небом явились в Тегею посланцы Тирана. Всем было известно, что они прибыли затем, чтобы увезти с собой великое изображение Тюхэ и покрыть Музидеса вечной славой, так что проксены[4] оказали им весьма теплый прием. Когда ночь близилась к своему исходу, великая буря разразилась над гребнем Менала, и люди из далеких Сиракуз были рады тому, что пребывают в городском уюте. Они беседовали о своем блистательном Тиране, о великолепии его столицы и восхищались славой той статуи, которую сработал для него Музидес. Тегейцы же говорили о великодушии Музидеса и о тяжком горе его по утраченному другу, и о том, что даже грядущая слава не могла утешить его в отсутствие Калоса, который мог бы и сам заслужить эти лавры. Говорили они и о дереве, выросшем из‑под надгробья у головы Калоса. И ветер взвизгивал здесь еще более жутким голосом, и сиракузяне и аркадийцы вместе молились Эолу.
Под лучами утреннего солнца проксены повели вестников Тирана вверх по склону к обители скульптора, в которой разгулявшийся ночью ветер натворил странного. Крики рабов возносились над сценой разрушения, и посреди оливковой рощи более не возносилась блистательная колоннада того чертога, в котором грезил и творил Музидес. Одинокими и потрясенными скорбели смиренные залы и основания стен, ибо на роскошный и величественный перистиль обрушился нависавший над ним тяжелый сук странного нового дерева, с удивительной полнотой превративший величественную мраморную поэму в груду неприглядной щебенки.
Ошеломленные, потрясенные ужасом застыли перед развалинами сиракузяне и тегейцы, то и дело переводя взгляд на огромное и зловещее дерево, столь таинственно похожее на человека и корнями своими уходившее в землю возле украшенного скульптурами надгробия Калоса. И страх и смятение их еще более усилились, когда, обыскав обрушившееся строение в поисках благородного Музидеса и созданного им чудесного и прекрасного изображения Тюхэ, они не обрели и следа ни того ни другого. Великий хаос царил посреди развалин, и представители обоих городов в разочаровании оставили их; ибо сиракузяне не обрели статуи, чтобы доставить ее домой, а у тегейцев не осталось более художника, которого можно было бы увенчать славой. Впрочем, спустя некоторое время сиракузяне приобрели в Афинах великолепное изваяние, тегейцы же утешились тем, что возвели на агоре мраморный храм в честь дарования, добродетели и братской любви Музидеса.
Только масличная роща растет как и прежде, как стоит и дерево, выросшее из гробницы Калоса, a старый пасечник рассказал мне, что иногда ветви его перешептываются под ночным ветром и все повторяют друг другу: «Ойда! Ойда! Знаю! Все знаю!»
1921
Артур Джермин
Перевод Валерии Бернацкой
I
Жизнь – страшная штука, а по отдельным дьявольским намекам, доходящим до нас из пучины неведомого, мы можем догадываться, что на самом деле все обстоит в тысячи раз хуже. Наука со своими шокирующими открытиями не только не принесла человечеству счастья, но, возможно, станет даже его убийцей. Однако есть ли такое понятие – человечество? Ведь желание во что бы то ни стало утаить сокрытое зло никак не могло родиться в разуме смертного. Если бы мы знали, кем являемся на самом деле, то поступили бы как сэр Артур Джермин, однажды вечером обливший себя горючей смесью и поднесший к одежде спичку. Никто так и не собрал в урну его прах и не поставил памятник на могилу: найденные после него документы и некий заключенный в ящик предмет настолько всех потрясли, что эту смерть постарались поскорее забыть. Те же, кто знал его близко, никогда о нем не говорили.
Артур Джермин ушел на болото и сжег себя, после того как извлек и рассмотрел привезенный из Африки предмет. Именно из‑за этого предмета, а вовсе не из‑за своей необычной внешности он покончил с собой. Многим не понравилось бы жить с таким лицом, но Артур Джермин спокойно уживался с ним – ведь он был поэт и ученый. Страсть к науке была у него в крови, ведь его прадедушка, сэр Роберт Джермин, был известный антрополог, а прапрапрадедушка, сэр Уейд Джермин, одним из первых исследовал бассейн реки Конго и со знанием дела описал его племена, животный мир и возможную праисторию. Научный энтузиазм сэра Уейда граничил поистине с сумасбродством, и когда были опубликованы материалы его исследований некоторых районов Африки, то эксцентричные предположения автора о существовании в доисторические времена в Конго белой цивилизации вызвали много насмешек. В 1765 году этого бесстрашного путешественника поместили в психиатрическую лечебницу города Хантингдона.
Безумие жило во всех Джерминах, к счастью, этот род был малочислен. В его генеалогическом древе отсутствовали побочные ветви – Артур был последним представителем рода. Трудно сказать, что сделал бы он, увидев предмет, будь у него родственники. Джермины никогда не отличались приятной наружностью – чего‑то в их облике для этого недоставало, – но Артур превзошел в безобразии всех. Впрочем, по старинным фамильным портретам, висевшим в родовом поместье Джерминов, можно было заключить, что до сэра Уейда в семье встречались и вполне благообразные люди. Безумие тоже вошло в семью с сэром Уейдом, чьи бредовые россказни об Африке приводили его друзей равно и в восторг, и в ужас. Взять хотя бы необычную коллекцию, привезенную им из Африки, – разве не позволяла она усомниться в его нормальности? А тот факт, что никому ни разу не довелось увидеть его жену? По словам сэра Уейда, она была дочерью португальского торговца, встреченного им в Африке, и не любила европейских обычаев. Он привез ее вместе с родившимся в Африке сыном из своего второго, самого продолжительного путешествия. Из третьего же, и последнего, жена не вернулась. Никто так никогда и не видел ее вблизи, даже служанки, но, по слухам, нрав у нее был свирепый. Во время своего непродолжительного пребывания в мужнином фамильном замке она жила в отдаленном крыле, где ее навещал один только супруг. Стремление к семейному уединению было развито у сэра Уейда до такой степени, что, вернувшись из Африки, он никому, кроме негритянки из Гвинеи, довольно неприятного вида, не позволял ухаживать за маленьким сыном. После смерти леди Джермин он целиком посвятил себя заботам о мальчике.
Но сумасшедшим сэр Уейд прослыл все‑таки из‑за своих завиральных идей. В таком рациональном веке, как восемнадцатый, образованному человеку не следовало бы рассказывать о диких зрелищах и фантастических сценах, разыгрывавшихся под конголезской луной, о высоких, полуразрушенных и заросших диким виноградом стенах и башнях заброшенного города, о сырых каменных ступенях, ведущих во мрак гробниц, наполненных сокровищами, о запутанных подземных ходах. Особенно шокировал всех его бредовый рассказ о существах, населяющих город. По его словам, они напоминали и обитателей джунглей, и потомков древней языческой цивилизации. Их причудливый облик озадачил бы самого Плиния. Эти существа возникли, возможно, после того как гигантские обезьяны захватили приходящий в упадок город – вместе с его стенами и башнями, склепами и таинственным резным орнаментом.
После своего окончательного возвращения сэр Уейд стал разглагольствовать обо всех этих вещах с совершенно неподобающим пылом – обычно после третьего стакана вина в трактире «Голова рыцаря». Он похвалялся, что отыскал в джунглях нечто такое, чего никто никогда не видел, и рассказывал, как жил там среди никому не ведомых развалин. Об аборигенах же он говорил теперь такие несуразности, что его быстренько упрятали в сумасшедший дом. Оказавшись за решеткой больничной палаты, этот джентльмен, казалось, не сокрушался о своей судьбе – так сильно он к той поре переменился. По мере того как взрослел сын, сэр Уейд все меньше любил свой замок и наконец прямо‑таки его возненавидел. Родным домом ему стала «Голова рыцаря». Попав же в лечебницу, он как будто даже испытывал благодарность за заботу о нем. Спустя три года он умер.
Филип, сын сэра Уейда, отличался большими странностями. Внешне он чрезвычайно напоминал отца, однако облик его и поведение были настолько грубы, что многих приводили в трепет. Его старались избегать. Хотя он и не унаследовал отцовского безумия, чего многие боялись, зато был определенно глуп и, кроме того, время от времени впадал в приступы необъяснимой ярости. Небольшого роста, он был очень силен и необычайно ловок. Через двенадцать лет после получения титула Филип женился на дочери своего егеря, по происхождению цыгана, а перед самым рождением сына ушел на флот простым моряком, чем только подтвердил свою плохую репутацию. Рассказывали, что после окончания Войны за независимость он служил на торговом корабле, везшем груз в Африку, но исчез незадолго до того, как судно отчалило от берегов Конго.
В сыне сэра Филипа Джермина наследственные черты обернулись странной, фатальной стороной. Высокого роста, довольно привлекательный, несмотря на некоторую странность пропорций, с загадочной восточной грацией во всем своем облике, Роберт Джермин уже в самом начале сознательной жизни проявил себя как ученый и исследователь. Он первый изучил с научным пристрастием крупную коллекцию редкостей, привезенную его сумасшедшим дедом из Африки, а также прославил родовое имя в области этнологии, подобно тому как его предок сделал это в географии. В 1815 году сэр Роберт женился на дочери седьмого виконта Брайтхолма и имел в этом браке трех детей, из которых старший и младший никогда не показывались на людях по причине физических и душевных изъянов. Удрученный этими печальными семейными обстоятельствами, ученый нашел утешение в работе, совершив две продолжительные экспедиции в центральную часть Африки. В 1849 году его второй сын, Невил, исключительно неприятный субъект, соединивший в себе угрюмый нрав Филипа Джермина и надменность Брайтхолмов, убежал из дому с какой‑то танцовщицей. Он объявился через год и был прощен. В родовое гнездо Невил вернулся вдовцом, с малюткой Альфредом, которому предстояло стать отцом Артура Джермина.
Друзья говорили, что разум сэра Роберта Джермина пошатнулся из‑за семейных невзгод, но, возможно, поводом к этому послужил африканский фольклор. Пожилой ученый собирал легенды одного из племен онга, жившего в том районе, где путешествовал сначала дед, а потом и он сам в поисках затерянного города с жителями странного этнического типа. Некоторая логика, присутствовавшая в загадочных записях его предка, позволяла предположить, что воображение безумца подхлестывалось местными поверьями. 19 октября 1852 года путешественник Сэмюел Ситон посетил замок Джерминов, захватив с собой записи легенд, собранных им среди племен онга; он считал, что знаменитому этнологу будет интересна та их часть, где рассказывается о сумрачном городе белых обезьян во главе с белым богом. На словах он, возможно, добавил еще что‑то, оставшееся неизвестным, потому что беседа завершилась кровавой трагедией. Задушив путешественника, сэр Роберт Джермин вышел из библиотеки и, прежде чем ему сумели помешать, убил всех своих детей: тех двух, которых никто не видел, и того, который убегал из дома. Перед смертью Невил Джермин успел, однако, спрятать своего двухлетнего сына, которому иначе неминуемо грозил бы тот же конец. Что касается самого сэра Роберта, то он, отказавшись дать какое‑либо объяснение чудовищному своему деянию, неоднократно пытался покончить с собой и наконец скончался от апоплексического удара на второй год пребывания в тюрьме.
Сэр Альфред Джермин унаследовал титул баронета, когда ему не было и четырех лет, однако особым аристократизмом не отличался. В двадцать лет он стал работать в кабаре, а в тридцать шесть, покинув жену и ребенка, ушел с бродячим американским цирком. Конец его был ужасен. Среди цирковых животных особой популярностью у публики пользовалась огромная горилла с необычайно светлой кожей – она была послушна и хорошо поддавалась дрессировке. Эта обезьяна совершенно покорила Альфреда Джермина, и они часто и подолгу рассматривали друг друга через решетку клетки. Со временем Джермин добился разрешения работать с обезьяной, удивив всех своими неожиданными способностями к дрессуре. Однажды утром, когда цирк находился в Чикаго, горилла и Альфред репетировали сложный номер с боксом. Животное случайно нанесло дрессировщику‑любителю удар сильнее обычного, чем задело его самолюбие. О том, что за этим последовало, артисты группы «Величайшее шоу мира» не любят вспоминать. Сэр Альфред Джермин издал неожиданно для всех резкий, нечеловеческий крик, схватил своего незадачливого противника и, затащив в угол клетки, вонзился зубами в волосатую глотку. Горилла потеряла над собой контроль, и, прежде чем вмешался дрессировщик‑профессионал, баронет был разорван в клочья.
II
Артур Джермин был сыном Альфреда Джермина и певички из кабаре неизвестного происхождения. Когда Альфред бросил ее, она привезла ребенка в родовой замок его отца, где уже не осталось никого, кто имел бы право ее выставить. Она знала кое‑что понаслышке о дворянской чести и потому постаралась, чтобы ее сын получил самое лучшее образование, какое только позволяли весьма стесненные средства. Денег в семье не хватало, да и замок нуждался в ремонте, но молодой Артур крепко привязался к этому древнему дому со всем его укладом. Мечтатель и поэт, он не был похож на остальных Джерминов. Соседи, помнившие рассказы о португальской жене сэра Уейда, утверждали, что в потомке заговорила латинская кровь; другие же, посмеиваясь над его склонностью ко всему прекрасному, приписывали ее влиянию матери‑певички, которую общество так и не признало. Поэтическая натура Артура Джермина особенно бросалась в глаза по контрасту с его исключительно безобразной внешностью. Большинство Джерминов, как мы уже упоминали, отличались некрасивостью, но Артур превзошел всех. Трудно сказать, чем именно отталкивала его внешность, но и выражение лица, и профиль, и необычайно длинные руки – все мгновенно рождало антипатию к нему.
Но ум и характер Артура Джермина с лихвой искупали недостатки его наружности. С его талантами и образованием он добился признания и ученых степеней в Оксфорде и, казалось, был рожден для того, чтобы восстановить высокую научную репутацию семьи. Хотя по темпераменту Артур был скорее поэт, нежели ученый, тем не менее он собирался продолжить труды предков в области африканской этнологии и истории, используя богатейшую, хотя и загадочную, коллекцию сэра Уейда. Наделенный большим воображением, он частенько задумывался о доисторической цивилизации, в существование которой так истово верил сумасшедший путешественник, и тогда в его грезах вставал затерянный в джунглях город, упоминавшийся в фантастических записках его предка. При каждом, даже косвенном упоминании о безымянной, никому ранее не ведомой расе, живущей в джунглях, он испытывал странное чувство, в котором подсознательный ужас смешивался с неодолимым любопытством. Он много размышлял над тем, что могло лежать в основе этой фантазии, и в поисках ответа обращался к легендам, собранным его прадедом и Сэмюелом Ситоном среди племен онга.
В 1911 году, после смерти матери, сэр Артур Джермин решил довести свои изыскания до конца. Продав часть земель и выручив необходимую для снаряжения экспедиции сумму, он отплыл в Конго. С помощью бельгийских властей он нанял проводников и отправился в джунгли, где провел год среди племен онга и калири, собрав там сведения, важность которых превзошла все его ожидания. В племени калири ему повстречался пожилой вождь по имени Мвану, обладавший не только цепкой памятью, но и значительным интеллектом – он и сам интересовался старинными легендами. Старик знал все те фантастические истории, которые читал Джермин, и добавил к ним еще одну – о каменном городе и белых обезьянах, которую слышал от своих родичей.
По словам Мвану, древний город и его жители‑метисы погибли много лет назад в войне с жестоким племенем нбангусов. Разрушив жилища и уничтожив все живое, племя унесло с собой мумию богини – она и была, собственно, предметом их вожделений. Богиня, которой поклонялись таинственные жители‑метисы, напоминала обезьяну и, по преданию, когда‑то царствовала в городе. Кем в действительности являлись эти обезьяноподобные белые существа, Мвану не знал, но предполагал, что они‑то и построили разрушенный впоследствии город. Рассказ местного жителя не связал воедино для Джермина отдельные легенды, но история мумифицированной принцессы при дальнейших расспросах становилась все интереснее.
По преданию, обезьянья принцесса стала супругой пришедшего с запада великого белого бога. Они долгое время совместно управляли городом, но после рождения сына уехали, взяв младенца с собой. Позднее бог и принцесса вернулись и какое‑то время снова царствовали. После смерти принцессы божественный супруг поместил ее мумию в просторный каменный храм, где она стала предметом ритуального поклонения. Сам же покинул город.
Легенда существовала в трех вариантах. Согласно первой, ничего особенного в дальнейшем не произошло; правда, считалось, что мумия приносит удачу и могущество владеющему ею племени. Именно поэтому нбангусы и похитили ее. В другом варианте бог вернулся, чтобы умереть у ног своей мумифицированной супруги. В третьем говорилось о приезде взрослого сына (человека? обезьяны? бога?), ничего не знавшего о тайне своего рождения. Негры с их пылким воображением, конечно же, многое присочинили, и теперь трудно было докопаться до подлинных фактов, лежащих в основе сей экстравагантной истории.
После этих рассказов Артур Джермин уже не питал ни малейших сомнений в том, что описанный старым Уейдом город в джунглях существовал, а когда в 1912 году случайно набрел на его руины, испытал некоторое разочарование. Хотя каменные развалины ясно говорили о том, что это не обычная негритянская деревушка, однако величина города была сильно преувеличена. Резных орнаментов, к сожалению, не обнаружили, а малочисленность экспедиции не позволила начать работы по расчистке входа в подземный туннель, который, возможно, привел бы к системе подземных ходов и склепов, о которых упоминал и сэр Уейд. Пытались расспрашивать о белых обезьянах и о мумии местное население, но без особого успеха. Наконец один европеец вызвался перепроверить сведения из рассказа старого Мвану. Это был бельгийский подданный господин Веререн, торговый агент, работавший в Конго. Он рассчитывал не только отыскать мумию, о которой кое‑что слышал и раньше, но и заполучить ее. Члены когда‑то могущественного племени нбангус были теперь преданными вассалами короля Альберта и при небольшом нажиме, без сомнения, согласились бы расстаться с украденным ими божеством. Поэтому Джермин отплыл в Англию исполненный радужных надежд воочию увидеть в ближайшие месяцы бесценную реликвию, которая подтвердила бы самые фантастические рассказы его прапрапрадедушки, по крайней мере из тех, что дошли до него. Самые бредовые рассказы сэра Уейда наверняка слышали завсегдатаи «Головы рыцаря», но уже невозможно было разыскать и расспросить их потомков.
Артур Джермин терпеливо ждал обещанного господином Веререном ящика, а пока с еще бóльшим тщанием изучал записи сумасшедшего предка. Он чувствовал все более тесную связь с ним и старался теперь отыскать в бумагах сведения не только об африканских экспедициях, но и о его жизни в Англии. О таинственной затворнице‑жене сохранилось много устных преданий, но ни одного вещественного свидетельства ее пребывания в Джермин‑хаусе. Размышляя о том, что же послужило причиной столь странного заточения, Джермин решил, что это как‑то связано с безумием сэра Уейда. Из рассказов он помнил, что его прапрапрабабушка была дочерью португальского купца из Африки. Наверняка унаследованный ею здравый смысл, а также некоторое знание Черного континента побудили ее скептически отнестись к «басням» мужа, чего он ей, конечно, не простил. Она умерла в Африке, куда он, возможно, насильственно ее привез, чтобы доказать свою правоту. Но все это были лишь предположения. Джермин прекрасно понимал, что спустя сто пятьдесят лет после смерти этих странных супругов трудно представить себе истинную картину.
В июне 1913 года пришло письмо от Веререна, в котором он сообщал, что нашел мумию богини. По его словам, это было нечто из ряда вон выходящее и совершенно не поддающееся определению. Только специалист мог бы понять, к какому виду – приматов или человека – относится это существо, однако плачевное состояние, в котором находилась мумия, исключало и эту возможность. Время и климат Конго не пощадили богиню, к тому же дело усугублялось тем, что ее мумифицировали не по правилам. Шею мумии украшала золотая цепь с медальоном, на котором были выгравированы геральдические знаки. Эту ценность туземцы наверняка похитили у какого‑нибудь путешественника и использовали как талисман. Месье Веререн позволил себе вышутить наружность мумии, прибавив, что, по его мнению, она удивит его корреспондента, но в остальном был краток – его слишком интересовала научная сторона вопроса. Он писал, что сам экспонат прибудет месяц спустя после письма.
Ящик с мумией доставили в Джермин‑хауз в полдень третьего августа 1913 года и по просьбе хозяина сразу же внесли в большую комнату, где хранились собранные сэром Робертом и Артуром африканские раритеты. О том, что случилось дальше, известно из рассказов слуг, а также из осмотра на месте происшествия различных бумаг и предметов. Среди изложенных версий наиболее убедительным представляется рассказ старого дворецкого Сомса. По его словам, перед тем как вскрыть ящик, сэр Артур Джермин попросил всех покинуть комнату. Вскоре по донесшемуся оттуда стуку молотка стало ясно, что он приступил к делу. Затем воцарилась тишина. Сколько она продолжалась, Сомс не мог сказать с точностью, но, во всяком случае, не больше четверти часа. Затем раздался отчаянный вопль хозяина. Дверь тут же распахнулась, и Джермин, пулей вылетев из комнаты, понесся прочь, словно его преследовал страшный враг. Лицо хозяина, неприятное и при спокойном выражении, теперь, искаженное ужасом, было поистине чудовищным. Почти добежав до выхода, он вдруг остановился, как бы пораженный пришедшей в голову мыслью, повернулся и побежал к лестнице, ведущей в подвал. Ошеломленные слуги застыли на месте, не решаясь спуститься за хозяином. Тот все не возвращался, а потом из подвала донесся сильный запах нефти. Когда стемнело, во дворе послышался легкий шум, и помощник конюха увидел, как Артур Джермин, с головы до ног залитый нефтью, выскользнул из двери подвала и исчез на болоте, подступающем к дому. Его конец видели все оцепеневшие от ужаса обитатели замка. Сначала в темноте вспыхнула крошечная искорка, затем занялось пламя, и вот уже огненный столб взмыл к небесам. Род Джерминов прекратил существование.
Причина, по которой обугленные останки Артура Джермина не собрали и не похоронили, вызвана содержимым присланного из Африки ящика, которым заинтересовались после его смерти. Мумия богини выглядела отвратительно, вдобавок была источена временем, однако не вызвало никаких сомнений: в ящике лежала мумифицированная белая обезьяна неизвестного вида. Волосяной покров был у нее выражен гораздо меньше, чем у большинства известных науке приматов, и вообще она удивительным образом – что поражало неприятней всего! – напоминала человека. Не хотелось бы вдаваться во все эти подробности, но о двух вещах сказать необходимо – слишком во многом соответствуют они африканским запискам сэра Уейда, а также конголезским легендам о белом боге и обезьяньей принцессе. Во‑первых, изображенный на медальоне герб принадлежал роду Джерминов, а во‑вторых, шутливый намек месье Веререна на сходство принцессы с кем‑то из его знакомых расшифровывался мгновенно: сморщенное личико богини – все тотчас отметили это с ужасом и отвращением – было как две капли воды похоже на лицо утонченного Артура Джермина, прапраправнука сэра Уейда Джермина и его неизвестной супруги. Члены Королевского общества антропологов сожгли проклятую мумию, а медальон бросили в глубокий колодец, дабы ничто не напоминало о том, что Артур Джермин жил на этом свете.
1921
Селефаис
Перевод Олега Колесникова
В видениях Куранес видел город в долине, морской берег вдали, снежную вершину горы над морем и галеры ярких расцветок, отчалившие из гавани и плывущие в дальние края, где море смыкается с небом. Именно в видениях его звали Куранес; в обычной жизни его звали иначе. Вероятно, другое имя он придумал себе неслучайно, ибо был последним в роду и остро чувствовал свое одиночество в многомиллионном равнодушном Лондоне. Не так уж много людей общались с ним, напоминая тем самым, кем он был. Его деньги и земли – все это ушло в прошлое, ему было безразлично, что о нем думают люди, он предпочитал грезить и писать о своих грезах. Те, кому он показывал первые пробы пера, высмеяли его; тогда он стал писать для себя, а затем и вовсе забросил это занятие. И чем больше он удалялся от обыденного мира, тем изумительнее становились его видения и тем более беспомощными оказывались попытки описать их. Куранес был человеком консервативного воспитания и мыслил не так, как модные писатели. Они пытались сорвать с жизни ее сотканные из мифов покровы и показать неприкрытое безобразие отвратительной реальности, Куранес же искал саму красоту. Знания и обретенный опыт не смогли раскрыть ее, и тогда он обратился к фантазии и иллюзии и нашел красоту совсем рядом – в туманных воспоминаниях о детстве и детских мечтах.
Немногие сознают, какие неведомые дали раскрываются в историях и мечтах их юности; ибо дети, слушая и мечтая, не пытаются вгонять мысли в какие‑то рамки, а когда мы пытаемся вспомнить уже будучи взрослыми, то воспоминания получаются скучными и унылыми, отравленными ядом жизни. И все же некоторые из нас просыпаются среди ночи, увидев диковинные фантазии: зачарованные горы и сады, поющие под солнцем фонтаны, золотые пики гор, вздымающиеся возле ласковых морей, долины, простирающиеся вокруг спящих городов из камня и бронзы, удалых воинов, разъезжающих по опушкам густых лесов на белых лошадях, покрытых попонами; и тогда мы догадываемся, что заглянули через ворота из слоновой кости в мир, открытый для нас прежде, когда мы еще не были так мудры и несчастны.
Куранес внезапно смог вернуться в прежний мир своего детства. Ему снился дом, где он родился, большой, увитый плющом, в котором прожили тринадцать поколений его предков и где он надеялся умереть и сам. Летней лунной ночью он тайком выбрался в сады, спустился вниз, по террасам, мимо парка со старыми дубами и вышел на длинную белую дорогу, ведущую к деревне. Деревня казалась очень старой на вид, с покосившимися, будто начинающая убывать луна, домами на околице, и Куранес невольно задумался: что же таится в домах с островерхими крышами: сон или смерть? Посреди улицы росла высокая трава, а дома смотрели на него взглядом непроницаемо грязных стекол либо пустыми глазницами. Куранес шел не останавливаясь, будто куда‑то конкретно. Он не пытался проявлять своеволия, опасаясь, что все окажется иллюзией, как мечты и устремления повседневной жизни, никогда ни к чему не приводящие. Потом он свернул из деревни к обрыву – и внезапно оказался на краю света, у бездны, возле которой стояла деревня; весь мир заканчивался, и взору открывалась бесконечная пустота, не содержащая ничего, и небо над ней было пустое, не освещалось даже ущербной луной или мерцанием звезд. Глубокая внутренняя убежденность сподвигла Куранеса сделать шаг вперед, и он медленно полетел вниз, плыл все ниже и ниже, миновал темные, бесформенные, неприснившиеся сны, слабо светящиеся сферы частично приснившихся сновидений и смеющихся крылатых эльфов, которые, казалось, высмеивали всех мечтателей мира. Потом тьма перед ним расступилась, и Куранес увидел ущелье и город в долине, сверкающий вдали на фоне неба, моря и снежной вершины горы, вздымающейся возле моря.
Куранес проснулся в тот же миг, как увидел город, но этого мига ему хватило – он сразу узнал Селефаис, город в долине Оот‑Наргаи за Танарианскими холмами, где его дух обитал целую вечность в тот час давнего летнего полдня, когда он убежал от няньки и, наблюдая за плывущими облаками, заснул возле деревни, убаюканный теплым морским бризом. Он был крайне недоволен, когда его нашли и разбудили, потому что во сне собирался отплыть на золотой галере в чудесные края, где море смыкается с небом. Вот и на этот раз Куранес, проснувшись, почувствовал досаду, потому что нашел свой сказочный город после сорока тоскливых лет.
Но через три ночи Куранес снова вернулся в Селефаис. Как и в прошлый раз, сначала ему приснилась деревушка, сонная или вымершая, и бездна, через которую он должен был безмолвно перелететь; затем снова перед ним оказалось ущелье, и он увидел сверкающие минареты города, изящные галеры, стоявшие на приколе в голубой гавани, и китайские деревья гинкго на горе Аран, колышущиеся от морского бриза. Но на сей раз никто не выхватил его из мира грез, и он, как крылатое существо, опустился на поросшую травой полянку на склоне горы, и ноги его мягко коснулись травы. Наконец ему удалось вернуться в долину Оот‑Наргаи к замечательному городу Селефаис.
Спускаясь с горы, Куранес наслаждался ароматом трав и любовался красочными цветами; он перешел бурную журчащую речку Нараксу по деревянному мостику, на котором много лет назад вырезал свое имя, миновал рощицу и подошел к большому каменному мосту у городских ворот. Здесь ничто не изменилось: не потемнели мраморные стены, не покрылись патиной украшавшие их бронзовые скульптуры. И Куранес понял: ему не надо опасаться, что все здесь стало совсем другим. Даже часовые на крепостном валу были те же самые и такие же молодые, какими он их запомнил. Тогда Куранес вступил в город через бронзовые ворота и прошел по ониксовым мостовым, а купцы и погонщики верблюдов приветствовали его, как будто он никуда надолго не уходил, и то же самое повторилось в бирюзовом храме Нат‑Нортат, где жрецы в венках из орхидей объяснили ему, что в Оот‑Наргаи время не движется и здесь всегда вечная юность. Затем Куранес прошел по Столбовой улице к той части крепостного вала, что граничила с гаванью, где толпились купцы и моряки, а также чужестранцы из тех краев, где море смыкается с небом. Куранес долго стоял на крепостном валу, глядя на ярко освещенную гавань, на морскую рябь, сверкавшую под непривычным солнцем, на галеры, скользившие по воде. Трудно было оторвать взгляд от горы Аран, царственно возвышавшейся над морем, нижняя часть склонов которой была зелена от растительности, а снежный пик упирался в небо.
Куранесу безумно хотелось отплыть на галере в те удивительные края, о которых слышал так много чудесного, и он отправился на поиски капитана, когда‑то давно согласившегося взять его с собой в плавание. Он разыскал этого человека, Атхиба, сидящим на том же самом сундуке с пряностями и, казалось, даже не заметившим, сколько времени прошло. Затем они вдвоем подплыли к галере, стоявшей на якоре, капитан отдал приказ гребцам, и галера вышла в бурное Серенарианское море, которое где‑то вдали сливается с небом. Несколько дней галера неслась по волнам, и наконец путники приблизились к горизонту, туда, где море смыкается с небом. Галера, не замедляя хода, вплыла в голубизну неба и двинулась меж пушистых облачков, слегка розоватых от света солнца. А далеко внизу, под килем, Куранес видел незнакомые земли, реки и города неслыханной красоты, нежившиеся в лучах солнца, которое здесь никогда не заходило. Наконец Атхиб сказал, что путешествие подходит к концу: они приближаются к гавани Серанниана, облачного города, построенного из розового мрамора на эфирном берегу, где западный ветер начинает дуть в небо. Но когда на горизонте стали видны самые высокие из башен этого города, Куранес услышал звук, от которого проснулся в своей лондонской мансарде.
После этого он многие месяцы тщетно искал чудесный город Селефаис и галеры, уплывающие к небу, и хотя посетил в грезах много чудных, невиданных мест, никто из встреченных им не помог ему отыскать Оот‑Наргаи, лежащий за Танарианскими холмами. В одну из ночей он пролетал над темными горами, где на большом расстоянии друг от друга горели едва различимые костры – там паслись стада диковинных косматых животных, и на шее у вожаков висели колокольчики, позвякивающие при ходьбе, – и в самой глухой части этой затерянной в горах страны, куда редко проникали путешественники, он приметил очень древнюю стену, изгибами проходящую через горы и долины, настолько громадное сооружение, что не верилось, что это дело рук человеческих: и в ту и в другую сторону стена уходила куда‑то вдаль. За этой стеной в предрассветных сумерках он увидел странные сады с вишневыми деревьями, а когда взошло солнце, пред ним предстал прекрасный мир белых и красных цветов, сочной зеленой листвы, белых дорожек, сверкающих ручейков и голубых маленьких озер, резных мостиков и пагод с красными крышами – настолько прекрасный, что Куранес в восхищении на миг забыл про Селефаис. Но, направившись к пагоде, он вспомнил про чудесный город – и спросил бы местных людей про него, но обнаружил, что здесь обитают только птицы, пчелы и бабочки. В другую ночь Куранес поднимался по бесконечной винтовой лестнице из мокрого камня и наконец увидел в лунном свете из окна башни долину и реку; на противоположном берегу реки лежал спящий город, и Куранесу показалось, что он узнает знакомые места. Он собирался уже спуститься и спросить, как добраться до Оот‑Наргаи, но вдруг из‑за горизонта выплыла яркая звезда, и Куранес понял, что перед ним руины города и не река, а болото, поросшее камышом, а на всем вокруг лежит печать смерти – с тех пор как король Кинаратолис вернулся из завоевательного похода и узрел месть богов.
Вот так Куранес тщетно искал сказочный город Селефаис с его галерами, плавающими в небесный град Серанниан, а попутно видел много чудес и однажды едва спасся от верховного жреца, о котором лучше умолчать, но скажу лишь, что тот скрывал лицо желтой шелковой маской и жил в полном одиночестве в очень древнем каменном монастыре, стоявшем на холодном пустынном плато Ленг. Со временем Куранесу стали настолько постылы бесцветные дни, разделяющие ночи, что он, желая продлить ночные грезы, стал пользоваться наркотиками. Полезным в этом отношении оказался гашиш, и с его помощью Куранес совершил путешествие в удивительное пространство, где отсутствует форма, а светящиеся газы изучают тайны жизни. Фиолетовый газ рассказал Куранесу, что это пространство находится за пределами того, что он назвал бы бесконечностью. Этот газ никогда раньше не слышал о планетах и живых организмах, но смог определить, что Куранес явился из той бесконечности, где существуют материя, энергия и сила притяжения. Куранес безумно жаждал вернуться в Селефаис с его дивными минаретами и потому стал принимать более сильные дозы наркотиков. Но в один прекрасный летний день все деньги у него закончились, и покупать наркотики было не на что; его выселили из мансарды, и он, бесцельно бродя по улицам и перейдя по очередному мосту, оказался в глухой оконечности города, где дома попадались все реже и реже. Но внезапно здесь его ожидания сбылись: Куранес повстречал кортеж рыцарей из Селефаиса, прибывший, чтобы забрать его с собою навсегда.
Они были прекрасны, эти рыцари на чалых лошадях, в сверкающих доспехах и расшитых золотом плащах с гербами. И так многочисленны, что поначалу Куранес по ошибке принял кортеж за войско; но их прислали, чтобы оказать ему особую честь: ведь Куранес создал Оот‑Наргаи своими мечтаниями, и потому теперь его навечно назначили верховным богом города. Рыцари усадили Куранеса на коня, и он поскакал в голове кавалькады. Величественная конница выехала на равнины Суррея и вскоре миновала родовой замок Куранеса, где жили когда‑то его предки. Но вот что удивительно: скача вперед, всадники совершали обратное путешествие во времени. Так, проезжая в сумерках деревню, Куранес видел дома и людей такими, как видел их Чоcep или его предшественники, и порой им попадались рыцари верхом в сопровождении своей прислуги. Когда стемнело, лошади побежали резвее, а в ночи и вовсе полетели, будто по воздуху. В предрассветных сумерках они приблизились к деревне, которую Куранес видел обитаемой в детстве, а потом, в другом сне, спящей или вымершей. Сейчас она была обитаема, и деревенские жители, поднявшиеся рано утром, кланялись проезжавшим всадникам, сворачивавшим на улицу, которая во сне обрывалась пропастью. Прежде Куранес бывал у пропасти только ночью, теперь он жаждал увидеть бездну при свете дня и нетерпеливо подгонял своего коня. Едва все они приблизились к краю пропасти, с запада разлился золотой свет и закрыл все вокруг лучезарной завесой. Пропасть казалась бурлящим хаосом розового и небесно‑голубого цвета, и невидимые голоса запели ликующий гимн, когда всадники ринулись вниз и поплыли среди сверкающих облаков в серебристом сиянии. Казалось, бесконечно долго падают вниз всадники, а кони их ступают по золотым облакам, как по золотому песку в пустыне, но наконец лазурная завеса распахнулась, открывая подлинное великолепие – изумительную красоту Селефаиса на берегу моря и горного снежного пика над ним. Галеры ярких расцветок плыли из гавани в далекие края, где море смыкается с небом.
И Куранес стал верховным правителем Оот‑Наргаи, города своей мечты, и его окрестностей, а двор его располагался попеременно в Селефаисе и городе в облаках Серанниане. Он и сейчас там правит и будет править вечно, несмотря на то что возле утесов Инсмута волны насмешливо поигрывали телом бродяги, забредшего на рассвете в полупустую деревню, потаскали его вдоль берега и выбросили возле Тревор‑Тауэрс, где преуспевающий пивовар, ставший миллионером, наслаждался атмосферой приобретенного не так давно старинного родового имения деградирующей аристократии.
1922
Усыпальница
Перевод Валентины Кулагиной‑Ярцевой
Принимая во внимание обстоятельства, которые привели к моему заточению в этом приюте для умалишенных и само мое пребывание здесь, я вполне сознаю, что достоверность моего рассказа может вызвать естественные сомнения. Как ни печально, умственные представления большинства людей слишком ограниченны для того, чтобы разумно и терпеливо оценить те отдельные явления, которые лежат за пределами повседневного опыта и которые способны увидеть или ощутить лишь немногие психологически восприимчивые люди. Хотя человеку с широкими взглядами известно, что не существует четкого различия между реальным и нереальным, что все существующее представляется таким как есть лишь благодаря тонким индивидуальным умственным и физическим особенностям, посредством которых мы воспринимаем его, прозаическое большинство считает безумием проблески озарения, проникающие сквозь грубую завесу банального эмпиризма.
Мое имя Джервас Дадли. С самого детства я был мечтателем и фантазером. Достаток семьи позволял мне не заниматься доходной деятельностью, а неуравновешенность характера не содействовала регулярным занятиям и отдыху в обществе знакомых. Я пребывал в сферах, далеких от реального мира, юность и молодость моя прошли за чтением старинных и редких книг, в странствиях по полям и рощам близ нашей родовой усадьбы. Не думаю, что я находил в этих книгах или видел в полях и рощах совершенно то же, что видели или находили другие, но не стану распространяться об этом, поскольку подробный рассказ лишь послужит подтверждением грубой клеветы на мой разум, клеветы, которую мне не раз доводилось слышать в опасливом перешептывании здешних служителей. Мне достаточно излагать события, не анализируя их причин.
Как уже было сказано, я пребывал вдали от реального мира, но это не значит, что я существовал один. Так жить никому не под силу, и лишенный сообщества живых неизбежно находит себе компанию из не живущих более или из предметов неодушевленных.
Неподалеку от нашего дома находилась поросшая лесом лощина. Там, в тенистых зарослях, я проводил почти все время, – то читая, то предаваясь размышлениям и мечтам. По ее мшистым склонам я делал первые детские шаги, вокруг ее покрытых причудливыми наростами дубов сплетались мои мальчишеские фантазии. Я знал живших в этих деревьях дриад, и не раз наблюдал их исступленные пляски в пробивающихся лучах тусклой луны… но об этом я не стану сейчас говорить. Я расскажу лишь об одинокой гробнице в самых темных зарослях – о заброшенной гробнице старинного благородного семейства Хайдов, последний прямой представитель которого упокоился в этом темном обиталище за много десятилетий до моего рождения.
Усыпальница, о которой я веду речь, была сооружена из гранита, выветрившегося и выцветшего под воздействием туманов и сырости. Она была вырублена в горе, так что на поверхности виднелся лишь портал. Тяжелая каменная дверь – плита, висевшая на ржавых железных петлях, – преграждала вход. Дверь была затворена неплотно – в этом угадывалось нечто зловещее – и заперта на тяжелые железные цепи с отвратительного вида висячими замками, бывшими в ходу около полувека назад. Усадьба рода, отпрыски которого лежали здесь, некогда венчала тот самый склон, в глубину которого уходила гробница, но уже много лет назад она пала жертвой пламени, вспыхнувшего от удара молнии. О полуночной буре, разрушившей мрачный особняк, иногда, понизив голос, со страхом рассказывали старожилы здешних мест, глухо намекая на то, что они называли «божьим гневом». Но очарование скрытой под сенью леса усыпальницы, всегда пленявшее меня, от этого лишь усиливалось. Пожар унес жизнь только одного человека. Семейство Хайдов перебралось в другую страну, и когда здесь, под сенью тишины и тени, должен был упокоиться последний из рода Хайдов, скорбную урну с его прахом доставили издалека. Здесь некому было положить цветы перед гранитным порталом, и редко кто отваживался пройти мимо гробницы, в печальной тени, которая, казалось, странным образом задерживалась на отполированном водой камне.
Никогда не забуду вечера, когда я впервые набрел на почти скрытую зарослями обитель смерти. Стоял июль – время, когда алхимия лета преображает лес в сливающуюся воедино яркую массу зелени, когда кружится голова от запахов пульсирующего моря влажной листвы и неопределимых ароматов земли и плодов, когда перестаешь видеть мир в истинном свете, время и пространство становятся пустыми словами, а эхо давно минувших времен настойчиво звучит в очарованном сознании.
Целый день я бродил по таинственным рощам лощины, обдумывая то, что нет нужды обсуждать, беседуя с теми, кого нет нужды называть. В свои десять лет я видел и слышал много чудесного, недоступного другим, и в некоторых отношениях был на удивление взрослым. Когда, пробираясь между густых зарослей шиповника, я вдруг нашел вход в усыпальницу, то не имел ни малейшего представления о том, что обнаружил. Темные гранитные плиты, странно приоткрытая дверь, траурные барельефы над аркой не пробудили во мне ни печальных, ни пугающих ассоциаций. О могилах и гробницах я много знал и много фантазировал, но, принимая во внимание особенности моего характера, родители оберегали меня от прямого соприкосновения с кладбищами и погостами. Удивительное каменное сооружение на поросшем лесом склоне лишь возбудило мое любопытство, так как его холодное влажное нутро, куда я тщетно пытался заглянуть сквозь дразнящую щель, не связывалось у меня со смертью и разложением. Вдруг любопытство сменилось диким, безрассудным желанием, которое и привело меня в это заключение, в этот ад. Повинуясь голосу, который шел, должно быть, из самой жуткой глубины леса, я решил проникнуть в манящую тьму, несмотря на преграждавшие путь тяжелые цепи. В угасающем свете дня я гремел их ржавыми звеньями, пытаясь пошире открыть каменную дверь, потом пробовал протиснуться в щель; но ни то ни другое мне не удалось. И если поначалу меня снедало простое любопытство, то тут я пришел в неистовство; в сумерках вернувшись домой, я поклялся сотне богов этой рощи, что любой ценой когда‑нибудь окажусь в черных холодных глубинах, которые, казалось, призывали меня.
Доктор с седоватой бородкой, который ежедневно появляется в моей комнате, однажды сказал тому, кто навещал меня, что это решение знаменовало начало достойной сожаления мономании; но вынесение окончательного приговора я предоставляю моим читателям – после того как они узнают обо всем.
Месяцы, последовавшие за моим открытием, прошли в тщетных попытках взломать сложный замок чуть приоткрытой усыпальницы и в осторожных расспросах о характере и истории обнаруженного мною сооружения. Дети, как правило, имеют обыкновение прислушиваться к разговорам, таким образом, я многое узнал, но привычка к скрытности не позволила мне ни с кем поделиться ни своим открытием, ни принятым решением. Наверное, следует упомянуть, что я не был ни удивлен, ни испуган, узнав об истинном назначении усыпальницы. В моих довольно своеобразных представлениях о жизни и смерти холодный прах и живое, трепещущее тело были связаны довольно слабо; я просто чувствовал, что злополучное благородное семейство каким‑то образом представлено в одетом камнем пространстве, которое я стремился исследовать. Невнятные толки о таинственных ритуалах и нечестивых празднествах прошлых лет, которые совершались в старинной усадьбе, лишь усилили мой интерес к гробнице, и я ежедневно просиживал часами перед ее порталом. Однажды я просунул свечу в узкую дверную щель, но не увидел ничего, кроме сырых каменных ступеней ведущей вниз лестницы. Запах усыпальницы и отпугивал, и околдовывал меня. Казалось, он знаком мне, знаком с давних, за пределами воспоминаний, времен, предшествовавших моему воплощению в теперешнем теле.
На следующий после моего открытия гробницы год я случайно наткнулся на старый, заплесневелый том перевода «Жизнеописаний» Плутарха на забитом книгами чердаке собственного дома. Читая жизнеописание Тезея, я поразился рассказу об огромном камне, под которым юный герой должен был найти знамения своей судьбы, как только станет достаточно взрослым, чтобы поднять такую тяжесть. Эта легенда умерила мое страстное желание проникнуть в усыпальницу, внушив мне, что время еще не пришло. Позже, сказал я себе, став сильнее и хитроумнее, я без труда открою тяжелую, запертую на цепь дверь, а пока надо покориться велению Судьбы.
Таким образом, мои бдения около поросшего мхами портала стали реже, но большую часть времени я проводил в не менее странных занятиях. Иногда я потихоньку вставал по ночам и украдкой выбирался на прогулки по тем самым кладбищам и погостам, от которых оберегали меня родители. Что там делалось, я не буду рассказывать, потому что теперь не совсем уверен в реальности происходившего; но я помню, как после таких ночных прогулок я часто удивлял окружающих знанием подробностей, не сохранившихся в памяти поколений. Однажды я поразил домашних необычным рассказом о похоронах известного сквайра Брустера, влиятельного в наших местах и богатого человека, умершего в 1711 году; его надгробный памятник из серого с синеватым отливом сланца, на котором были выбиты череп и скрещенные кости, с течением времени понемногу рассыпался в пыль. В порыве детской фантазии я объявил, что владелец похоронной конторы, Гудмен Симпсон, украл башмаки с серебряными пряжками, шелковую одежду и атласное белье покойника, и добавил, что сам сквайр, которого не совсем покинула жизнь, дважды перевернулся в зарытом в землю гробу на следующий день после погребения.
Мысль о том, чтобы проникнуть в гробницу, не оставляла меня; неожиданно сделанное генеалогическое открытие – по материнской линии мои предки были в отдаленном родстве с Хайдами, род которых, как считалось, пресекся, – лишь укрепило мою решимость. Я оказался последним потомком не только отцовского рода, но также и этого, более древнего и более таинственного. Я начал ощущать, что эта гробница моя, и с нетерпением ждал, когда наконец, открыв дверь, смогу оказаться внутри и сойти по скользким каменным ступеням во тьму. У меня создалась привычка внимательно прислушиваться, сидя у приоткрытой двери, я выбирал для этих странных бдений тихую полуночную пору. С годами мне удалось расчистить небольшую прогалину в зарослях перед замшелым каменным порталом на склоне холма, а ветви росших вокруг деревьев переплелись, образовав стены и купол лесного шатра. Этот шатер был моим храмом, закрытая дверь – святыней, и часто, когда я лежал там, растянувшись на мшистой земле, меня посещали удивительные мысли и удивительные грезы.
Ночь, когда я совершил первое открытие, была душной. Очевидно, я задремал и, пробуждаясь, ясно услышал голоса. Их тон и произношение удержали меня от того, чтобы заговорить; их тембр заставил меня промолчать; могу поручиться, что лексика, манера говорить и сами высказывания разительно отличались от современных. Все особенности новоанглийского диалекта – и четкая риторика полувековой давности, и характерное неблагозвучное произношение колонистов‑пуритан, казалось, были представлены в этой беседе теней, хотя это я осознал только впоследствии. А в тот момент мое внимание привлекло совсем другое явление, настолько мимолетное, что я не поручился бы за его реальность. Просыпаясь, я увидел, как мелькнул и тут же погас свет внутри забытой гробницы. Это не вызвало у меня ни удивления, ни испуга, но я убежден, что в ту ночь я коренным образом и навсегда переменился. Вернувшись домой, я поднялся на чердак, уверенно направился к полусгнившему сундуку и обнаружил там ключ. На следующий день я легко отпер дверь, которую так долго и напрасно старался открыть. В мягких сумерках я в первый раз проник в усыпальницу на давно опустевшем склоне. Я был точно околдован, сердце колотилось, я ощущал неописуемое ликование. Закрыв дверь, я стал спускаться по ступеням, как будто давно их знал; свеча то и дело мигала в удушливых испарениях, но я чувствовал себя в этом затхлом склепе как дома. Оглядевшись вокруг, я увидел множество мраморных плит с гробами или остатками гробов. Некоторые были закрыты и совершенно целы, другие почти рассыпались, и их серебряные ручки и накладки валялись среди странных кучек беловатой пыли. На одной из серебряных пластин я прочел имя сэра Джеффри Хайда, приехавшего из Сассекса в 1640 году и умершего несколькими годами позже. В глубине просторной ниши стоял прекрасно сохранившийся гроб, украшенный только пластинкой с именем – именем, заставившим меня и улыбнуться, и вздрогнуть. Повинуясь странному импульсу, я влез на широкую плиту, погасил свечу и улегся в него. На раннем рассвете я, пошатываясь, вышел из усыпальницы и запер дверь на цепь. Юность моя закончилась, хотя всего двадцать один раз зимние холода успели проморозить мое бренное тело. Жители деревни, рано начинавшие день, бросали на меня любопытные взгляды, удивляясь следам якобы бурной пирушки на лице юноши, который, как им было известно, вел уединенную и воздержанную жизнь. Перед родителями я решился предстать лишь после долгого освежающего сна.
С тех пор гробница служила мне убежищем каждую ночь. Не стану рассказывать о том, что я видел, слышал и делал. В первую очередь изменения произошли в моей речи, на которой всегда сказывалось влияние окружения, и появившаяся в ней архаичность вскоре была замечена. Неожиданно для себя я сделался на диво дерзким и безрассудным. Изменились манеры, я стал вести себя как светский человек, несмотря на то что жил всю жизнь отшельником. Прежняя замкнутость сменилась разговорчивостью, мне стало доступно и легкое изящество речи Честерфилда[5], и нечестивый цинизм Рочестера[6]. Я проявлял удивительную эрудицию, не имевшую ничего общего с чуть ли не монашеской образованностью, приобретенной мною в юности; я покрывал форзацы своих книг импровизированными легкими эпиграммами в духе Гея и Прайора[7]. Однажды за завтраком я сам приблизил катастрофу, вдохновенно продекламировав – с интонациями явно подвыпившего человека – стихотворение XVIII века, эпохи короля Георга, игривую застольную песнь, полную вакхического веселья, которой не найти ни в одной книге, и звучавшую примерно так:
Мы эля в тяжелые чаши нальем
И выпьем за то, что пока мы живем;
Пускай громоздится в тарелке еда –
Поесть и напиться мы рады всегда.
Подставь же стакан!
Жизнь так коротка.
За гробом не выпьешь уже ни глотка!
Был красен от выпивки Анакреон,
Но счастлив и весел при этом был он.
Пусть буду я красным, но все же живым,
Чем белым, как мрамор, и столь же немым!
Эй, Бетти, друг мой!
Целуйся со мной!
В аду не найти мне подружки такой!
Красавчика Гарри держите, не то,
Парик потеряв, упадет он под стол!
А сами наполним мы кубки опять,
Все ж лучше под лавкой, чем в яме, лежать!
Здесь смех и вино,
Веселья полно;
В могиле тебе недоступно оно.
Черт, как я надрался! Шагнуть не могу,
Стоять не могу, и язык – ни гу‑гу!
Хозяин, порядок пора навести!
До дома попробую я добрести.
Кто мне бы помог?
Не чувствую ног,
Но весел, пока не прибрал меня Бог![8]
Примерно в это же время я стал бояться огня и молний. Прежде они не производили на меня никакого впечатления, теперь же я испытывал перед ними непреодолимый ужас и спасался в самых укромных уголках, как только на небе разворачивалась грозовая панорама. Излюбленным убежищем мне служил разрушенный подвал сгоревшего в огне особняка Хайдов – сидя в нем, я старался вообразить, каким было это здание прежде. И однажды поразил одного из окрестных жителей, безошибочно указав ему вход в неглубокий нижний подвал, о котором я, как выяснилось, знал, несмотря на то что о его существовании многие годы никто не вспоминал.
Наконец произошло то, чего я давно опасался. Мои родители, встревоженные переменами в манерах и облике единственного сына, из самых благих побуждений учредили слежку за моими передвижениями, и это грозило катастрофой. Я никому не рассказывал о посещении гробницы, с детских лет благоговейно храня свои тайны; теперь же я вынужден был с еще большей осторожностью пробираться по лесному лабиринту, чтобы отделаться от возможного преследования. Ключ от усыпальницы висел у меня на шее на шнурке, и никто не подозревал о его существовании. Я ни разу не вынес наружу ни одного предмета, найденного в усыпальнице.
Как‑то утром, выйдя из сырой гробницы и закрывая замок на цепи не совсем твердой рукой, я заметил на соседнем склоне испуганное лицо соглядатая. Конец был явственно виден, ведь мое убежище обнаружено, цель ночных странствий раскрыта. Соглядатай не остановил меня, и я поспешил домой, чтобы постараться подслушать, что он станет рассказывать моему измученному беспокойством отцу. Неужели о моем пребывании за запертой цепями дверью станет известно всем?
Вообразите же радость и облегчение, которые я испытал, услышав, что соглядатай рассказывает боязливым шепотом, будто я провел ночь возле усыпальницы, обратясь лицом к неплотно закрытой двери! Каким чудом он мог так обмануться? Несомненно, сверхъестественные силы покровительствовали мне! Ободренный этим обстоятельством, я вновь стал, не таясь, посещать усыпальницу, уверенный, что никому не дано увидеть, как я вхожу внутрь. Целую неделю я наслаждался загробным общением, которое не стану описывать, а потом произошло это, и я был привезен сюда, в ненавистную обитель, где царят печаль и однообразие.
В ту ночь я не собирался выходить: в тучах погромыхивал гром, а на дне лощины дьявольскими огоньками фосфоресцировало мерзкое болото. И даже зов мертвых звучал по‑иному. Меня тянуло не к гробнице на склоне, а к обугленному подвалу на вершине, словно обитавший там демон манил меня невидимой рукой. Пройдя рощицу и оказавшись на ровном месте перед развалинами, я увидел в неверном свете луны то, чего всегда в какой‑то мере ожидал. Перед моим восхищенным взором вновь возник во всем своем великолепии особняк, рухнувший столетие назад; все окна сияли блеском множества свечей. По подъездной аллее одна за другой кареты везли гостей из Бостона, а многочисленные обитатели соседних усадеб, разодетые, напудренные, подходили пешком. Я смешался с толпой гостей, хотя и сознавал, что мне подобает находиться среди хозяев. В зале царили музыка и смех, у каждого в руке был бокал с вином. Несколько лиц оказались знакомы мне, хотя я знавал их уже ссохшимися, тронутыми смертью и разложением. В этой дикой, нечестивой толпе я был самым диким и самым беспутным. Из моих уст изливался поток богохульств, я произносил речи, в которых отрицал все законы – и божеские, и человеческие, и природные.
Внезапно над самой крышей, перекрыв шум неистового веселья, раздался удар грома. Разбушевавшиеся весельчаки в ужасе смолкли. Красные языки пламени и опаляющий жар охватили здание; участники празднества, испуганные обрушившимся на них бедствием, которое, казалось, было ниспослано свыше, с пронзительными криками исчезли. Я остался один, меня удержал на месте унизительный страх, какого я никогда прежде не испытывал. Но вдруг он сменился новым ужасом. Если я заживо сгорю дотла, а пепел мой развеется по ветру, я никогда не буду лежать в усыпальнице Хайдов! Разве не ждет меня мой гроб? Разве нет у меня законного права на вечный покой среди потомков сэра Джеффри Хайда? Вечный! Я стремился получить свое посмертное наследство во что бы то ни стало, пусть даже душе моей пришлось бы столетиями искать воплощения в теле, которое сможет упокоиться в нише склепа. Джервас Хайд не разделит печальной участи Палинура! [9]
Когда видение горящего дома растаяло в воздухе, я вдруг ощутил, что исступленно кричу и бьюсь в руках двух мужчин, один из которых – тот самый шпион, выслеживавший меня у гробницы. Дождь лил как из ведра, а на южной стороне неба, у горизонта, вспыхивали молнии, какие недавно сверкали у нас над головой. Я кричал, я требовал похоронить меня в склепе, а мой отец скорбно стоял поодаль и время от времени просил удерживавших меня людей обходиться со мной как можно мягче. На полу разрушенного подвала чернел круг – след мощного удара, ниспосланного с небес; из этого развороченного ударом молнии места несколько любопытствующих жителей деревни извлекли и принялись рассматривать при свете фонарей небольшую шкатулку старинной работы.
Прекратив тщетную и теперь уже бесполезную борьбу, я наблюдал за тем, как они любовались найденными в земле сокровищами, как, получив дозволение, принялись их делить. В шкатулке, замок которой был разбит, находилось множество бумаг и ценных предметов, но я не мог отвести глаз от одного из них. Это была миниатюра на фарфоре с инициалами «Дж. X.», изображавшая молодого человека в изящно завитом по моде XVIII века парике с кошельком. Насколько я мог разглядеть, лицо его было точной копией того, что я ежедневно видел в своем зеркале.
На следующий же день я оказался в этой комнате с зарешеченными окнами, но кое‑что мне продолжает сообщать старый слуга – простая душа, которого я любил в детстве и которому, как и мне, нравятся кладбища. Все мои рассказы о пребывании в усыпальнице вызывают у слушателей только сочувственные улыбки. Отец, который часто навещает меня, утверждает, что я ни разу не входил в запертую на цепь дверь и что, как оказалось при ближайшем рассмотрении, ржавого замка в течение последних пяти десятков лет никто не трогал. Он даже говорит, что о моих прогулках к гробнице знали все окрестные жители и что меня часто видели у мрачного портала. Я спал с открытыми глазами, устремленными на неплотно прилегающую дверь. Никаких вещественных доказательств, с помощью которых я мог бы опровергнуть эти утверждения, у меня нет, ведь ключ от замка был утерян, когда я в ту ужасную ночь бился в руках своих преследователей. Удивительные знания о прошлом, которые я почерпнул во время ночных встреч с мертвецами, отец считает плодом многолетнего беспорядочного чтения старинных книг из фамильной библиотеки. И если бы не мой старый слуга Хайрам, я бы сейчас не сомневался в собственном безумии. Но Хайрам, преданный Хайрам, поддерживает во мне веру. Он совершил нечто, позволяющее мне сделать, во всяком случае, часть моей истории достоянием публики. Неделю назад он взломал замок, запиравший цепи на неизменно приоткрытой двери, и спустился с фонарем в мрачные глубины. На плите в каменной нише он обнаружил старый, но пустой гроб, на потускневшей серебряной пластинке которого стоит лишь одно слово: Джервас. Я получил обещание, что после смерти буду лежать в этом гробу, в этой усыпальнице.
1922
Гипнос
Перевод Олега Колесникова
Что же касается сна, этого зловещего приключения, случающегося каждую ночь, то вызывала бы удивление та смелость, с какой люди раз за разом отдают себя в его власть, не будь она результатом неведения и непонимания опасности.
Бодлер
Наверное, меня хранят милосердные боги, если таковые действительно существуют, в те часы, когда ни сила воли, ни какие‑либо изобретенные человеком средства не способны удержать от падения в пропасть сна. Смерть милосердна, ибо из ее владений нет возврата; но тот, кто возвращается из мрачнейших владений ночи, измученный и познавший, навсегда лишается мира и покоя. Я был глупцом, неистово стремящимся познать тайны, не предназначенные для человеческого рассудка. Глупцом или богом был мой единственный друг, который вел меня этим путем и которого в итоге постигла та ужасная участь, что должна была достаться мне.
Припоминаю, как мы впервые встретились на железнодорожной станции, где он оказался в центре внимания толпы пошлых зевак. Он лежал без сознания, облаченный в черный костюм, его тело свела судорога, придавшая ему удивительную строгость. Думаю, ему было тогда около сорока – об этом свидетельствовали глубокие морщины на бледном, со впалыми щеками, но овальном и красивом лице и легкая проседь в густых вьющихся волосах и аккуратной бородке, которая прежде была иссиня‑черной. Высокий лоб был божественной формы и точно высечен из пентелийского мрамора. Мне, скульптору по профессии, он показался статуей фавна античной Греции, найденной в руинах храма и чудесным образом оживленной в наш удушливый век, для того лишь, чтобы подчеркнуть пронизывающий холод и груз напрасно прожитых лет. И когда он открыл свои крупные, горящие лихорадочным блеском черные глаза, я уже знал, что отныне он станет моим единственным другом – другом человека, у которого никогда не было друзей, – поскольку такие глаза, должно быть, видят великолепие и ужас царств, находящихся за пределами обыденного сознания и действительности; царств, о которых я мечтал в грезах, но напрасно искал наяву. Поэтому, разогнав толпу, я предложил ему пройти со мной, быть моим учителем и проводником в постижении удивительных тайн, и он согласился, не произнеся ни слова. Позднее я обнаружил, что его голос похож на музыку, в нем сливались глубокое звучание виол и легкий звон хрусталя. Мы часто беседовали и ночью, и днем, пока я вытачивал из слоновой кости его бюсты и миниатюрные головки, чтобы запечатлеть для вечности различные выражения его лица.
Не берусь описать словами суть наших изысканий – слишком уж мало они связаны с какими‑либо представлениями людей о мире. Они имели отношение к огромной устрашающей Вселенной и познании реальности, лежащий за пределами нашего понимания материи, времени и пространства, – той Вселенной, о существовании которой мы иногда догадываемся в тех особенных разновидностях сновидений, что неведомы заурядным представителям рода людского и лишь несколько раз в жизни являются человеку, одаренному воображением. Мир нашего бодрствующего сознания порожден из этой же Вселенной примерно как шут выдувает из трубочки мыльный пузырь и соприкасается с нею не больше, чем мыльный пузырь со своим творцом, когда этот шут втягивает его обратно по своей прихоти. Люди науки лишь смутно догадываются об этом, но по большей части стараются не замечать. Мудрецы как‑то пытались толковать сны, и боги смеялись над ними. Один человек с восточными воззрениями сказал как‑то, что время и пространство относительны, и люди подняли его на смех. Но этот человек с восточными воззрениями всего лишь высказал предположение. Я пытался сделать больше, чем просто предположение, и мой друг пытался – и отчасти преуспел. Затем мы стали пробовать вместе и с помощью экзотических наркотиков погружались в запретные глубины сновидений в моей башне‑мастерской, пристроенной к старинному особняку в многовековом графстве Кент.
Одним из главных душевных терзаний тех дней была невыразимость. Невозможно записать или как‑то еще сообщить то, что я узнал и увидел в часы тех нечестивых исследований, ибо ни в одном языке нет подходящих для этого слов и понятий. Наши впечатления от начала и до конца относились к области ощущений, которые нельзя сопоставить с реакциями нервной системы человека. И хотя это были ощущения и они даже содержали некоторые подобия времени и пространства, я не могу сказать про них ничего четкого и определенного. Все, что возможно в пределах возможностей человеческой речи, это передать общий характер наших опытов, называя происходящее в них погружениями и полетами, ибо при каждом таком откровении какая‑то часть нашего сознания отрывалась от всего реального и настоящего и воспаряла над темными, внушающими ужас безднами, иногда прорывалась сквозь хорошо различимые препятствия, которые можно описать как странные вязкие облака.
Мы совершали эти бестелесные полеты иногда поодиночке, иногда вместе. Когда мы были вдвоем, мой друг всегда сильно опережал меня, но несмотря на бестелесность я узнавал о его присутствии всплывающим в памяти зрительным образам: его лицо в странном золотом свете пугающе красивое, с удивительно юными чертами, с горящими глазами, изгибом бровей гордого олимпийского бога и чуть тронутыми сединой волосами и бородою.
За временем мы не следили: оно казалось нам всего лишь иллюзией. Должно быть, в этом была какая‑то доля истины, ибо мы удивлялись тому, что совсем не старимся. Наши обсуждения были чудовищно богохульственны и амбициозны: ни боги, ни демоны не отважились бы на то, чего домогались мы. Меня и сейчас пробирает дрожь, когда я рассказываю о наших занятиях, и я не решаюсь говорить о них более подробно; впрочем, скажу, что однажды мой друг написал на листке бумаги желание, которое не осмелился произнести вслух, а я сжег этот листок и со страхом посмотрел на усыпанное звездами ночное небо за окном. Я намекну – только намекну, – что он замышлял обрести власть над всей видимой вселенной и даже большей областью, предполагал достичь того, чтобы Земля и все звезды перемещались в пространстве согласно его воле, и решать судьбы всех живущих. Клянусь, что у меня не было ничего даже близкого к подобным притязаниям, а если это противоречит каким‑то словам или записям моего друга, то он, несомненно, глубоко заблуждался, ибо я не властный человек, чтобы рисковать совершить нечто крайне запретное ради великого достижения.
В ту ночь ветры неизведанных пространств неудержимо несли нас к безграничному вакууму за пределами мыслимого. Особые непередаваемые ощущения вызывали в нас безграничный восторг, но сейчас они почти стерлись из моей памяти, а то, что осталось, пересказать почти невозможно. Вязкие облака проносились мимо одно за другим, и наконец я почувствовал, что мы достигли области столь далекой, в какой не бывали никогда прежде.
Мой друг был далеко впереди, но, несмотря на это, когда мы нырнули в удивительный океан первозданного эфира, я заметил мрачное ликование, которым светилось его удивительно юное лицо. Вдруг его очертания исчезли, и в то же время я почувствовал, что оказался перед препятствием, которое не могу преодолеть. Оно было подобно тем, какие мне уже встречались, но оказалось неизмеримо плотнее; нечто вязкое и клейкое, если вообще возможно применять подобные описания свойств нематериального мира.
Барьер, остановивший меня, мой друг и наставник преодолел без труда. Новая попытка прорваться привела к тому, что я пробудился от наркотического сна и, открыв глаза, увидел мастерскую в башне и бледное все еще бесчувственное тело моего спутника напротив, мраморные очертания его лица, невероятно изможденного, невыразимо прекрасного в золотистом лунном свете.
Вскоре тело в углу пошевелилось, и да хранят меня небеса от того, чтобы еще когда‑либо увидеть или услышать подобное. Я не способен описать его крики и жуткие видения ада, отражавшиеся в его черных, обезумевших от страха глазах. Могу сказать лишь, что упал без чувств и пришел в себя лишь тогда, когда он, очнувшись, принялся меня трясти, желая избавиться от страха и одиночества.
Так завершились наши добровольные погружения в глубины грез. Упавший духом и вздрагивающий от дурных предчувствий, мой друг предостерег меня от возможных новых попыток исследования той области, где мы побывали. Он не решился рассказать, что именно там увидел, однако исходя из своего жизненного опыта решил, что нам теперь следует как можно меньше спать, даже если для этого придется использовать сильнодействующие лекарства. Довольно скоро я убедился в его правоте: невыразимый страх охватывал меня всякий раз, как только мною овладевал сон.
После каждого даже самого краткого и непродолжительного сна мне казалось, что я постарел, а мой друг дряхлел с пугающей быстротой. Было ужасным замечать, как на нем появляются морщины и седеют волосы. Наш образ жизни изменился полностью. Мой друг, прежде всегда бывший затворником – он даже не сообщил свое настоящее имя и откуда родом, – теперь панически боялся одиночества. По ночам он остерегался оставаться один, и даже компания в несколько человек его не успокаивала. Отрадой ему стали разнообразные шумные сборища и неистовые пирушки; немноголюдные мужские встречи нас не устраивали.
В большинстве случаев мы внешностью и возрастом настолько не соответствовали окружению, что это вызывало насмешки, и меня это больно ранило, но мой друг считал это меньшим злом, чем одиночество. Особенно опасался он оказываться под открытым небом, и когда такое случалось, то невольно часто боязливо посматривал вверх, будто за ним охотилось что‑то чудовищное. Посматривал он не в какую‑то определенную сторону – я заметил, что направление этих взглядов в разное время разное. Весенними вечерами он бросал взгляды на северо‑восток. Летом он украдкой смотрел куда‑то почти над головой. Осенью поглядывал на северо‑запад. Зимой его осторожное внимание привлекала восточная часть небосклона, но только в предутренние часы.
Наиболее спокойным он казался зимними вечерами. Лишь по прошествии двух лет я понял, что этот страх связан с каким‑то вполне конкретным местом; тогда я стал замечать, что поглядывает он всегда на одну и ту же точку звездного неба, где‑то в области созвездия Северной Короны.
В то время мы занимали небольшую мастерскую в Лондоне, по‑прежнему оставаясь неразлучными, но избегая разговоров о тех днях, когда пытались проникнуть в тайны нереального мира. Лекарственные препараты, беспорядочный образ жизни и нервное переутомление довольно заметно состарили нас, редеющие волосы и борода моего друга стали белыми как снег. Несмотря на это, мы умудрялись обходиться без долгого сна и крайне редко уделяли более одного‑двух часов подряд на то беспамятство, что превратилось для нас в ужасную угрозу.
Наконец, в туманном и дождливом январе, наступил тот день, когда деньги у нас закончились и не на что было приобрести необходимые медицинские препараты. Я уже продал все свои статуи и резные головы из слоновой кости и не имел ни малейшего желания доставать материал и работать над новыми скульптурами. Положение наше было ужасным, и однажды ночью мой друг впал в странный тяжелый сон, из которого мне никак не удавалось его пробудить. Я и сейчас прекрасно помню эту сцену: запущенная мрачная каморка на чердаке, под самой крышей, по которой беспрерывно стучит дождь; мерно тикают настольные часы; воображаемо тикают карманные часы на туалетном столике; скрипят ставни в какой‑то отдаленной части дома; звуки города, приглушенные туманом и расстоянием; но самое страшное – размеренное, глубокое, зловещее дыхание моего друга, ритмично отмеряющее мгновения сверхъестественного страха и агонии духа, блуждающего в невообразимых, немыслимо удаленных запретных сферах.
Напряжение моего бдения становилось невыносимым, дикая вереница мимолетных впечатлений и ассоциаций проносилась в моем слегка помутившемся сознании. Я услышал донесшийся откуда‑то бой часов – наши часы этого не умели, – и моя возбужденная фантазия приняла его за отправную точку. Часы… время… пространство… безграничность… и затем мои мысли вернулись к настоящему, и, несмотря на туман и дождь, я вдруг ощутил, как на северо‑востоке Северная Корона восходит над горизонтом. Созвездие, которого так опасался мой друг, нависает сверкающим полукольцом и простирает свои лучи сквозь неизмеримые бездны эфира. Вдруг мои уши уловили новый звук, прекрасно различимый сквозь общий шумовой фон – низкий монотонный вой, доносящийся издалека; жалобный, протяжный, насмешливый зов откуда‑то с северо‑востока.
Но не этот отдаленный вой лишил меня чувств и оставил на моей душе печать страха, от которой мне уже никогда не избавиться; не из‑за него я так кричал и дергался в конвульсиях, что соседям и полиции пришлось выломать дверь. Дело было не в том, что я услышал, а в том, что увидел; ибо в темной, запертой и зашторенной комнате появился луч зловещего красно‑золотистого света из северо‑восточного угла – луч, который не рассеивал тьму вокруг, а подсвечивал только голову спящего, раздваивая видение его лица, так что я увидел светящееся и странно помолодевшее лицо моего друга, такое, каким я помнил его во время наших совместных блужданий по безднам пространства и раскрепощенного времени, когда он преодолел барьер и проник в тайную, самую сокровенную и запретную область ночных кошмаров.
Пока я в изумлении смотрел на это, голова приподнялась, черные, глубоко запавшие влажные глаза в ужасе раскрылись, а на тонких, бледных губах застыл крик, настолько пропитанный страхом, что не мог воплотиться в звуке. В этом мертвенно‑бледном лице, сияющем и молодом, столь хорошо знакомом мне, я видел, что моего друга затопляет могучий, разрушающий мозг страх, не сравнимый ни с чем ни на земле, ни на небе.
Мы оба не произнесли ни слова, тогда как далекий вой нарастал, становясь все ближе и ближе; когда же я проследил за взглядом обезумевших глаз и лишь на миг увидел открывшееся ему – то, от чего шел звук и где начинался проклятый луч, – со мной случился сильнейший припадок эпилепсии, сопровождаемый криками, перебудившими всех соседей и заставившими их вызвать полицию. Я не раз пробовал, но мне не удается описать, что именно мне довелось там увидеть, а на застывшем лице моего несчастного друга, видевшего гораздо больше меня, уже ничто не прочтешь. Но с тех пор я стараюсь больше не поддаваться коварному и ненасытному Гипносу, повелителю снов, а также избегаю ночного неба, безумной жажды познания и философии.
Невозможно разобраться, что же все‑таки случилось в ту ночь, ибо не только моего сознания коснулась ужасная тень, но и все окружающие вдруг стали проявлять забывчивость, более похожую на безумие. В один голос они утверждают, будто у меня вообще не было никакого друга, и только искусство, философия и безумие заполняли мою трагическую жизнь. Той ночью соседи и полиция пытались утешить меня и даже вызвали доктора, который дал что‑то успокоительное, но никто из них не поверил в увиденный мною кошмар. Участь моего несчастного друга не вызвала у них жалости, тогда как обнаруженное на кушетке в углу мастерской привело к восхвалениям, вызвавшим у меня отвращение, и принесло мне ту славу, которую я отвергаю в отчаянии и провожу многие часы, беспомощный и одуревший от лекарств, лысый, седобородый старик, молитвенно взывающий к обожаемому найденному ими предмету.
Они отрицают, что я продал все свои работы, и восторгаются тем безмолвным и окаменевшим, что порождено проклятым лучом. Это все, что осталось от моего друга; друга, который был моим проводником на пути к безумию и катастрофе; изумительная, богоподобная мраморная голова в стиле древнегреческих статуй, молодость которой бессильно повредить время, прекрасное лицо, обрамленное короткой бородой, чуть тронутые улыбкой губы, изгиб бровей гордого олимпийского бога и густые вьющиеся локоны, украшенные венком из полевых маков. Говорят, что моделью для нее послужил я сам в возрасте двадцати пяти лет, но на ее мраморном основании высечено лишь одно имя греческими буквами: ΗΥΠΝΟΣ.
1923
В склепе
Перевод Валерии Бернацкой
На мой взгляд, глупо считать, что с простыми людьми никаких других историй, кроме банальных, случиться не может, а ведь именно так думают многие. Стоит вам упомянуть о некой деревеньке, населенной янки, где гробовщик, недотепа и бедолага, остался по неосторожности в склепе, и читатель непременно будет ждать от вас немудреного анекдота с легким налетом гротеска. Однако в весьма заурядной истории, приключившейся с Джорджем Берчем, которую теперь, после его смерти, я могу поведать читателям, есть нечто, в сравнении с чем даже мрачнейшие из трагедий покажутся жизнерадостными побасенками.
В 1881 году Берч неожиданно закрыл свое дело и сменил профессию, не распространяясь о причинах, побудивших его к этому. Молчал и его врач, старина Дэвис, теперь уже почивший в бозе. Считалось, что болезнь Берча явилась следствием пережитого шока – в результате несчастного случая он оказался заперт в склепе на кладбище Пек‑Уолли, где провел девять часов и выбрался откуда лишь с превеликим трудом. Все это чистая правда, но были в этой истории и другие, более мрачные подробности; как‑то Берч, будучи мертвецки пьян, поведал мне о них. Думаю, он рассказал мне всю правду потому, что я был его врачом, к тому же после смерти Дэвиса его неодолимо тянуло поделиться с кем‑нибудь еще. Ведь он был старый холостяк – ни родных, ни близких.
До 1881 года Берч оставался деревенским гробовщиком, но даже среди людей этой профессии выделялся своей черствостью и примитивностью. Качество его работы оставляло желать лучшего и сегодня никого бы уже не удовлетворило, по крайней мере в городах, но думаю, что и жители Пек‑Уолли содрогнулись бы, узнай они, как бессовестно ловчит этот мастер ритуальных услуг, когда ему заказывают дорогую обивку, невидную на дне гроба, или с каким небрежением укладывает покойников в их последнее пристанище. Нет сомнений, Берч был неряшлив, равнодушен к людскому горю, никуда не годился в профессиональном отношении, и все же, мне кажется, он не был злым человеком. Просто он был от природы груб – туповатый, ленивый, жадный, что и привело впоследствии к несчастью, которого могло бы и не случиться. У него напрочь отсутствовало воображение, которое не позволяет рядовому обывателю, получившему хоть какое‑то воспитание, выходить за общепринятые рамки приличия в своем поведении.
Я не мастер рассказывать истории и поэтому не знаю, с чего начать свое повествование. Может, всего уместнее начать с того холодного декабря 1880 года, когда земля промерзла до такой степени, что могильщики поняли: до весны им не выкопать ни одной могилы. Деревушка, к счастью, была небольшая, умирали не часто, и потому все клиенты Берча могли найти себе временный приют в старом общем склепе. Наш гробовщик от холодной погоды вовсе разленился и, кажется, превзошел в халатности самого себя. Еще никогда не сбывал он таких утлых и нескладных гробов и совсем не обращал внимания на проржавевший засов склепа, дверцей которого он то и дело хлопал с вызывающей небрежностью.
Наконец пришла весна, и для девятерых умолкших навеки заложников зимы, терпеливо ждавших в склепе часа своего упокоения, были выкопаны могилы. Берч, хоть и не любивший хлопот, связанных с погребением мертвецов, все же одним ненастным апрельским днем начал перевозить гробы, но прекратил работу еще до полудня по причине сильного дождя, беспокоившего лошадь. Он успел доставить к месту вечного приюта одного лишь Дариуса Пека, девяностолетнего старца, чья могила была недалеко от склепа. Берч решил, что перевезет остальных завтра, начав с низкорослого Мэтью Феннера, чья могила также была неподалеку, но проканителился целых три дня, вплоть до пятнадцатого – до Страстной пятницы. Лишенный всяких предрассудков, он не побоялся работать в святой день, хотя впоследствии его никакими силами нельзя было заставить чем‑либо в такие дни заниматься. События того вечера, несомненно, очень его изменили.
Итак, пятнадцатого апреля, в пятницу пополудни, Берч впряг лошадь в повозку и направился к склепу, чтобы перевезти гроб с телом Мэтью Феннера. Он не скрывал впоследствии, что был несколько навеселе, хотя тогда еще не пил горькую, как позднее, когда хотел забыться. У него просто немного кружилась голова, отчего он вел себя еще безалабернее обычного, чем раздражал чуткую лошадь. Берч гнал ее к склепу, стегая кнутом, а она ржала, била копытом и мотала головой, как и в тот день, когда им помешал дождь. Было сухо, но дул сильный ветер, и Берч поспешно отпер железную дверь и забрался в склеп, одна сторона которого примыкала к склону холма. Многим было бы не по себе в этом сыром, затхлом помещении, где в беспорядке стояли восемь гробов, но не отличавшегося тонкостью чувств Берча заботило лишь одно – не перепутать гробы и поместить каждого в его могилу. Он еще помнил шумный скандал, который закатили переехавшие в город родственники Ханны Бигсби, когда решили перевезти ее прах на городское кладбище и обнаружили под могильным камнем останки судьи Кепуэлла.
В склепе было темновато, но Берч обладал хорошим зрением и не спутал гроб Асафа Сойера с нужным ему, хотя они почти ничем не отличались. Собственно, вначале гроб этот предназначался для Мэтью Феннера, но получился такой нескладный и шаткий, что Берч, вспомнив, как этот щуплый старичок был добр и щедр к нему, когда пять лет назад Берчу грозило разорение, неожиданно для себя, в приступе какой‑то странной сентиментальности, отставил его в сторону. Для Мэтта он сколотил самый лучший гроб, на какой только был способен, однако, поскупившись, сохранил и отвергнутый, приспособив его для Асафа Сойера, когда тот скончался от лихорадки. Сойер был недобрым человеком, о его дьявольской мстительности и злопамятстве ходили легенды. Поэтому Берч не испытал никаких угрызений совести, сплавив ему эту развалюху, которую сейчас и отпихнул с дороги в поисках гроба Феннера.
Но как только он отыскал его, дверь вдруг с шумом захлопнулась, оставив гробовщика почти в полной темноте. Свет едва пробивался сквозь узкую фрамугу да вентиляционное отверстие над головой, и Берчу пришлось пробираться к двери на ощупь, то и дело останавливаясь и спотыкаясь о гробы. Он долго громыхал во мраке проржавевшими задвижками, бился о железные панели, удивляясь, отчего это дверь стала такой неподатливой. Наконец правда открылась ему, и тогда он отчаянно закричал, но его услышала только лошадь, издав в ответ неодобрительное ржание. Засов, к которому он относился столь небрежно, окончательно заклинило, и незадачливый гробовщик, жертва собственной беспечности, оказался запертым в склепе.
Это событие произошло в полчетвертого пополудни. Берч, по природе человек флегматичный и трезвый, вскорости перестал вопить и принялся искать инструменты, которые, как он помнил, лежали где‑то в углу склепа. Сомнительно, чтобы он в полной мере прочувствовал весь ужас и фатальность ситуации, однако его основательно раздражал сам факт заточения, столь грубо выключивший его из жизни деревни. Дневной распорядок полностью нарушен, одно ясно: если его не выручит какой‑нибудь праздный гуляка, придется провести здесь всю ночь, а может, и больше. Отыскав наконец инструменты и выбрав из них молоток и стамеску, Берч снова пробрался между гробами к двери. Дышать было совершенно нечем, но он не обращал на это внимания, пытаясь справиться с массивным железным засовом. Он отдал бы многое сейчас за фонарь или хотя бы свечу, но за неимением их трудился изо всех сил почти в полной темноте.
Поняв, что с засовом ему не справиться – особенно теми инструментами, которыми он располагал, – Берч огляделся в поисках другого выхода. С одной стороны склеп был врыт в склон холма, и узкая вентиляционная труба проходила через толстый слой земли, что делало абсолютно невозможной попытку выбраться через нее. Однако можно было попытаться расширить узкую фрамугу, расположенную в фасаде строения, прямо над дверью. Берч долго ее разглядывал, прикидывая, как бы до нее добраться. Лестницы в склепе не было, а ниши для гробов, расположенные с трех сторон, которыми, кстати, Берч никогда не пользовался, также были для него бесполезны. Подняться наверх можно было, только составив лестницу из самих гробов, и Берч стал прикидывать, как лучше это сделать. Уже три гроба, поставленные один на другой, давали ему возможность дотянуться до фрамуги, но с четырьмя, считал он, будет удобнее. Все гробы были одного размера, взгромоздить их один на другой не представляло труда, но требовалось покумекать, как поставить все восемь, чтобы «лестница» была поустойчивей. Размышляя обо всем этом, он пожелал себе, чтобы его изделия оказались попрочнее. Однако у него не хватило воображения пожелать также, чтобы они были пустыми.
В конце концов он порешил, что в основание «лестницы» лягут три гроба, установленные параллельно стене, на которые он поставит еще два ряда по два гроба в каждом, а сверху у него будет еще один. Это сооружение позволит без труда взобраться на него, даст устойчивость и нужную высоту. Но потом Берчу показалось, что лучше оставить в основании только два гроба, а один держать в запасе на тот случай, если с четырех ступеней ему будет трудно выбраться наружу. И вот наш узник начал трудиться в темноте, созидая свою миниатюрную вавилонскую башню и обращаясь при этом весьма бесцеремонно с безмолвными останками своих односельчан. От его усилий некоторые гробы уже трещали, и тогда для большей уверенности Берч решил поставить на самый верх прочный гроб Мэтью Феннера. Не доверяя глазам, он попытался отыскать на ощупь и почти сразу же наткнулся на него. Это была великая удача, так как Берч непредусмотрительно запихнул его в третий этаж.
Воздвигнув наконец свою башню, Берч решил дать передышку натруженным рукам и немного посидел на нижней ступени этого мрачного сооружения. Затем, прихватив с собой инструменты, с превеликой осторожностью взгромоздился на самый верх и оказался прямо на уровне фрамуги. Она была со всех сторон выложена камнем, и следовало изрядно потрудиться, чтобы сделать из этой щели достаточно большой лаз. Лошадь при стуке молотка как‑то странно заржала; в ее ржании слышались не то издевка, не то одобрение. Уместно было и то и другое. С одной стороны, стать узником сего ветхого строения – какой убийственный сатирический комментарий к тщете человеческих усилий! С другой стороны, стремление выбраться из западни, несомненно, заслуживало всяческого уважения.
Наступивший вечер застал Берча за работой. Теперь он совсем уже ничего не видел – за облаками померк даже свет луны, но все же воспрянул духом, так как щель значительно увеличилась. Он был уверен, что к полуночи сумеет выбраться, и к этой уверенности не примешивалось никакой суеверной робости. На него никак не влияли ни время, ни место, ни странное общество у него под ногами. Он со стоическим спокойствием отбивал камень за камнем, тихонько поругиваясь, когда осколки попадали ему в лицо, но от души расхохотался, когда один попал в лошадь, уже давно бившую в остервенении копытом у кипариса. Лаз понемногу увеличивался, и Берч время от времени делал попытку в него пролезть – при этом гробы под ним шатались и скрипели. Он уже понял, что ему не придется ставить еще один гроб – щель была на досягаемом уровне.
Только в полночь Берч решил, что теперь‑то уж наверняка пролезет в отверстие. Усталый и вспотевший, он спустился вниз и присел отдохнуть, чтобы набраться сил для последнего рывка. Голодная лошадь непрерывно ржала, и в этом ржании было нечто настолько жуткое, что даже Берчу стало не по себе. Он уже не чувствовал того подъема, который испытал, уверившись в близком спасении, теперь он опасался, что, раздавшись с возрастом в боках, все‑таки не сможет пролезть в дыру. Вновь взбираясь на поскрипывающие гробы, Берч мучительно ощущал собственный вес, а поднимаясь на последний, услышал угрожающий треск, недвусмысленно говоривший, что крышка проломилась. Зря он, видимо, понадеялся на лучшее свое изделие: стоило ему только встать на него, как гнилые доски треснули, и Берч провалился в гроб. Лошадь, испуганная то ли шумом, то ли усилившимся зловонием, издала отчаянный звук, который и ржанием‑то нельзя было назвать, и понеслась куда‑то в ночную тьму, таща за собой громыхающую тележку.
Берч понял, что положение его аховое – теперь дыра была значительно выше его груди, но, собрав все силы, решился на отчаянную попытку. Уцепившись за край фрамуги, он попытался подтянуться, однако что‑то мешало ему, казалось, его крепко держат за ноги. Тут он впервые за все время испытал страх и изо всех сил постарался освободиться от непонятной помехи, но на ноги будто гири навесили. Внезапно он почувствовал резкую боль, как если бы в лодыжку впилось что‑то острое. Берч, несмотря на весь свой ужас, объяснил для себя эту боль вполне естественными причинами, полагая, что у треснувшего гроба обнажились гвозди или расщепленные углы. Он, должно быть, кричал, уж во всяком случае, отчаянно брыкался, почти теряя сознание.
Наконец страшным усилием воли Берч вырвался из западни, протиснулся в щель и рухнул на сырую землю. Он не мог, как выяснилось, идти и пополз, волоча окровавленные ноги и конвульсивно впиваясь ногтями в могильную землю, а выглянувшая из облаков луна освещала эту жуткую картину. Берч полз к домику кладбищенского сторожа, тело у него было ватным, а движения замедленными, как в ночном кошмаре. Никто не гнался за ним, во всяком случае, когда Армингтон, ночной сторож, услышав царапанье, открыл дверь, кроме Берча, за нею никого не было.
Армингтон уложил Берча на свободную кровать и послал своего сына Эдвина за доктором Дэвисом. Больной был в полном сознании, но ничего не объяснял, повторяя только что‑то вроде: «Мои ноги… пусти… один в склепе». Пришедший со своим неизменным саквояжем и ободряющими словами доктор распорядился снять с несчастного верхнюю одежду и башмаки. Его раны (обе лодыжки в области ахиллова сухожилия были зверски истерзаны, как будто из них вырвали по изрядному куску мяса), казалось, озадачили и даже напугали старого врача. Он с волнением расспрашивал больного о случившемся, дрожащими руками постарался побыстрее обработать и забинтовать раны, не в силах глядеть на это жуткое зрелище.
В вопросах, которые Дэвис задавал гробовщику, звучал плохо скрываемый страх, похоже, он хотел выпытать у своего пациента – что было совсем нехарактерно для старого врача – все до мельчайших подробностей о кошмарном ночном приключении. Его особенно интересовало, уверен ли Берч, что на самом верху стоял тот самый гроб, и как он сумел отыскать его в темноте, точно ли это был гроб Феннера и как ему удалось отличить его от того, в котором покоился зловредный Асаф Сойер. И мог ли так внезапно треснуть гроб Феннера? Деревенский врач Дэвис видел, конечно, оба гроба во время похорон и, конечно же, посещал Феннера и Сойера незадолго до их смерти. И помнил свое изумление на похоронах Сойера: как это он поместился в гроб, сделанный по размерам тщедушного Феннера?
Через два часа доктор ушел, посоветовав Берчу говорить всем, что поранил ноги о гвозди и острые углы. Кому придет в голову что‑нибудь другое? Лучше помалкивать и не обращаться к другим врачам. Берч так и сделал, я же со своей стороны, осмотрев после его откровений старые, бледные уже шрамы, согласился, что это был мудрый совет. Берч навсегда остался хромым – связки так полностью и не восстановились, – но, полагаю, самый большой ущерб понесла его душа. Психическое здоровье гробовщика заметно пошатнулось, больно было видеть, как бывший увалень и флегматик вздрагивает при одном лишь упоминании о пятнице, склепе, гробе и подобных вещах. Его напуганная лошадь вернулась‑таки домой, но его разум в прежнем виде не возвратился к нему. Он сменил работу, но так и не обрел покоя. Возможно, его мучил страх, возможно, на этот страх позднее наложилось раскаяние в совершенных грехах. Желая забыться, он пристрастился к спиртному.
Той ночью, оставив Берча, доктор Дэвис, взяв с собой фонарь, направился к склепу. При свете луны он увидел разбросанные осколки камней и изуродованный фасад строения. Дверца склепа легко подалась, едва он дотронулся до нее. Насмотревшийся всего в операционных, доктор смело вошел внутрь и огляделся. Но от тяжелого зловония и открывшегося перед ним зрелища у доктора перехватило дыхание. Он громко закричал, крик перешел в еще более ужасный хрип. В следующее мгновение он уже несся к сторожке и там, забыв все правила профессиональной этики, разбудил пациента и, тряся его, возбужденно и прерывисто зашептал нечто такое, что обожгло уши гробовщика, будто с шипением изрыгаемый яд.
«Это был Асаф! Так я и думал! Я хорошо помню, у него не хватало переднего зуба. Заклинаю, не показывай никому свои раны – там есть эти отметины. Труп почти разложился, но злобное выражение на его лице… на его бывшем лице… видно и сейчас… Ведь это сущий дьявол. Помнишь, как он разорил старого Раймонда, и это через тридцать лет после спора о границе между их участками! Или как безжалостно раздавил он прошлым летом укусившего его щенка! Сущий дьявол, Берч! Он может мстить и из гроба. Спаси меня, Боже, от его мести!
Зачем ты сделал это, Берч? Конечно, он был негодяй, и я не виню тебя за этот бракованный гроб, но все же ты зашел слишком далеко. Экономить, конечно, не грех, но ведь старина Феннер был такого маленького роста!
Этого зрелища я никогда не забуду. Брыкался ты, видать, здорово – гроб Асафа валяется на земле, череп расколот, кости раскиданы. Всякого я насмотрелся, но такого не упомню! Жуткое зрелище! Бог свидетель, ты, Берч, получил по заслугам. Череп заставил меня содрогнуться, но то, что я увидел потом, было во сто крат хуже: содранное с твоих лодыжек мясо лежит в бракованном гробу Мэтта Феннера!»
1925
Неименуемое
Перевод Олега Колесникова
В осенних сумерках мы сидели на запущенном надгробии семнадцатого века на старом аркхемском кладбище и рассуждали о неименуемом. Обратив взгляд на исполинскую иву с почти целиком вросшей в ствол древней могильной плитой, надпись на которой прочесть теперь не представлялось возможным, я стал фантазировать по поводу того, какого типа «питательные» вещества извлекают гигантские корни этого гигантского дерева из земли многовекового кладбища; мой приятель упрекнул меня в том, что я несу вздор, ибо здесь уже более ста лет никого не хоронят, а значит, в почве нет ничего особенного, чем могло бы питаться это дерево, помимо самых обычных веществ. И вообще, добавил он, все эти мои постоянные упоминания о различных «неименуемых» и «не произносимых вслух» вещах – пустой детский лепет, вполне в духе моих ничтожных успехов на ниве литературы. Я слишком увлекаюсь в рассказах всяческими кошмарными видениями и звуками, которые лишают моих персонажей не только мужества и дара речи, но и памяти, в результате чего они не могут внятно поведать о случившемся. Мы познаем все окружающее, заявил он, посредством своих пяти чувств и с помощью интуиции; следовательно, не может существовать таких предметов или явлений, которые не поддаются строгому описанию, основанному либо на достоверных фактах, либо на корректно выстроенных богословских доктринах – в качестве последних предпочтительны догматы конгрегационалистов в любой их модификации, вплоть до трактовки сэром Артуром Конан Дойлем.
С этим другом, Джоэлом Мэнтоном, мы часто вели спокойные, размеренные споры. Он был директором Восточной средней школы, а родился и воспитывался в Бостоне, где и приобрел характерное для жителя Новой Англии самодовольство, отличающееся глухотой ко всем изысканным обертонам жизни. Он был убежден, что если что‑то и имеет реальную эстетическую ценность, так это наш обыденный, повседневный опыт, а следовательно, задача создателя художественного произведения не в том, чтобы возбуждать сильные эмоции увлекательным сюжетом и глубокими переживаниями и страстями, но поддерживать в читателе спокойный интерес и воспитывать вкус к аккуратным, детальным описаниям будничных событий. Особое недовольство вызывала у него моя чрезмерная увлеченность мистическим и необъяснимым; ибо, несравнимо глубже меня веруя в сверхъестественное, он не выносил, когда потустороннее низводили до обыденного, делая его предметом литературного исследования. Ему, логичному, практичному и трезвомыслящему, было трудно понять, что именно в уходе от обыденности и вольном манипулировании образами и представлениями, которые в действительной жизни, как правило, вгоняются нашими ленью и привычкой в хорошо знакомые схемы, можно обрести величайшее наслаждение. Для него все предметы и ощущения имели раз и навсегда заданные свойства и параметры, причины и следствия; и хотя в глубине души он сознавал, что человеческое мышление иногда способно иметь дело с явлениями и ощущениями, не укладывающимися с геометрической строгостью в наши представления и опыт, но все же считал себя вполне компетентным для того, чтобы проводить условную черту и убирать из рассмотрения все, что не может быть познано и испытано среднестатистическим гражданином. А кроме того, он был почти уверен, что не может существовать действительно неименуемое – подобное казалось ему бессмыслицей.
Я прекрасно сознавал всю тщетность построенных на образах и метафизических аргументах в попытках переубедить этого самодовольного ортодоксального обывателя, но в обстановке этого послеобеденного диспута было нечто такое, что побуждало меня выйти за рамки обычных словопрений. Полуразрушенные серые плиты, деревья почтенного возраста, остроконечные крыши старинного городка, прибежища ведьм и колдунов – все это, обступающее кладбище со всех сторон, вдохновило меня встать на защиту своего творчества, и я кинулся в атаку, перейдя границу и вступив на территорию врага. Впрочем, начать контратаку не составило особого труда, поскольку я знал, что Джоэл Мэнтон почтительно относится ко всякого рода бабушкиным сказкам и суевериям, которые в наши дни не воспринимает всерьез ни один сколько‑то образованный человек – таким, например, поверьям, что после смерти человек может появляться в весьма отдаленных местах или что лица стариков, долго глядящих в окна, запечатлеваются в самом стекле. Воспринимать всерьез то, о чем нашептывают деревенские старушки, заявил я, означает допускать посмертное существование неких бестелесных субстанций отдельно от их материальных эквивалентов. Но это означает признавать возможность явлений, не укладывающихся в рамки обычных представлений; ибо если мы допускаем, что видимый или осязаемый образ мертвеца может передаваться в пространстве через половину земного шара и во времени через века, то разве нелепы предположения, что заброшенные дома населены странными разумными существами или что на старых кладбищах скапливается бесплотный разум ушедших поколений? И если душа, во всех предписываемых ей свойствах, не подчиняется законам материального мира, то разве невозможно вообразить, что после физической смерти человека продолжает жить некая чисто духовная сущность, способная принимать такую форму – или отсутствие формы, – которая для наблюдателя окажется вызывающей крайнее отвращение и абсолютно неименуемой? «Здравый смысл», когда рассуждаешь о подобных вещах, дружески заверил я Мэнтона, означает попросту отсутствие воображения и гибкости ума.
Наступали сумерки, но мы не торопились завершать нашу беседу. Мои аргументы для Мэнтона, похоже, оказались недостаточно весомыми, и он продолжал оспаривать их с убежденностью в своей правоте, характерной для профессиональных преподавателей; я же держался пока вполне уверенно на своих позициях и не собирался сдаваться. Сумерки стали сгущаться, вдалеке в окнах замерцали огоньки, но мы уходить не собирались. Сидеть на надгробии оказалось вполне удобно, и моего прозаически настроенного друга нисколько не беспокоили ни глубокая трещина в древней кирпичной кладке прямо у нас за спиной, ни окружающее нас пятно тьмы, образовавшееся потому, что между надгробием, на котором мы расположились, и ближайшими уличными фонарями возвышался полуразрушенный необитаемый дом, построенный еще в семнадцатом веке. В этой непроглядной тьме на запущенном надгробии вблизи заброшенного дома мы продолжали обсуждать «неименуемое», и, когда Мэнтон наконец перестал изрекать язвительные замечания, я рассказал ему об ужасных событиях, действительно имевших место и лежащих в основе того из моих рассказов, который казался ему наиболее нелепым.
Рассказ этот назывался «Окно мансарды» и был опубликован в январском выпуске «Уисперс» за 1922 год. Во многих местах Америки, в особенности на юге и на тихоокеанском побережье, журналы с этим рассказом даже убирали с прилавков, потакая требованиям слабонервных идиотов, и лишь в Новой Англии проявили невозмутимость и только пожимали плечами в ответ на жалобы на мою эксцентричность. Критиковали меня в первую очередь за то, что описанное существо было биологически просто невозможно; оно всего лишь одна из версий расхожих деревенских сказок, которые Коттон Мэзер по причине чрезмерной доверчивости вставил в свои сумбурные «Великие деяния Христовы в Америке», причем происхождение этой небылицы настолько неопределенное, что он не решился указать место, где это произошло. И уж совсем не вписывалось ни в какие рамки то, как я развил и усложнил древний мистический сюжет, проявив себя как бездумного и претенциозного графомана. Мэзер действительно описал появление подобного существа, но кто, кроме дешевого охотника за сенсациями, мог бы поверить, что оно способно вырасти и станет, во плоти и во крови, шастать по ночам и заглядывать в окна домов, а днем прятаться в мансарде заброшенного дома, и будет делать это целое столетие, пока какой‑то прохожий не увидит его в окне мансарды, а потом так и не сможет объяснить, отчего у него поседели волосы? Все это выглядело полнейшим вздором, притом совершенно безвкусным, и мой приятель не упустил возможность согласиться с последним утверждением. Тогда я рассказал ему о прочитанном в дневнике, датированном 1706–1723 годами, обнаруженном мною среди прочих бумаг семейного архива менее чем в миле от того места, где мы в тот момент беседовали. В дневнике описывались необычные шрамы на спине и груди одного из моих предков, и я заверил Мэнтона в подлинности этого документа. А также я рассказал ему о страшных историях, рассказываемых местным населением, передающихся из поколения в поколение, и о том, как вполне реально сошел с ума один паренек, осмелившийся в 1793 году войти в покинутый дом, чтобы посмотреть на некие следы, которые, предполагалось, там должны были быть.
История была жуткой – но какой впечатлительный человек не содрогнется, изучая пуританский период истории Массачусетса? Нам известно крайне мало о том, что скрывалось в глубине, за внешней стороной событий, но по тем отдельным чудовищным проявлениям, когда гной омерзительно прорывался наружу, можно судить о степени разложения. Охота на ведьм – это лишь ужасный луч, высвечивающий, что творилось в смятенных умах людей, но даже она – это лишь пустяк. В жизни отсутствовала красота; не было никакой свободы – мы можем судить об этом по архитектуре, сохранившимся предметам быта, а также по ядовитым проповедям тогдашних духовников. Но под ржавой железной смирительной рубашкой таились невероятные уродства, извращенные пороки и колдовство. Вот когда был, действительно, апофеоз Неименуемого!
В своей демонической 6‑й книге, которую не рекомендуется читать после наступления темноты, Коттон Мэзер, разражаясь анафемой, называет все вещи своими именами. Сурово, словно библейский пророк, немногословно и бесстрастно, как не мог после него излагать уже никто, он поведал о твари, породившей на свет нечто среднее между нею и человеком, нечто с дурным глазом, и о безымянном пьянчуге, повешенном, несмотря на его крики, потому что у него был похожий глаз. На этом история Мэзера кончается, и он не сделал ни малейших намеков на то, что случилось потом. Возможно, он просто не знал, а может, знал, но не осмелился сказать. Другие, кто знал, тоже предпочли сохранить молчание, и потому до сих пор неизвестно, что же заставляло людей приглушать голос до шепота при упоминании о замке на двери, за которой скрывалась лестница на мансарду в доме бездетного, убогого и угрюмого старика, установившего на могиле, которую все обходили стороной, серую плиту без надписи, но сохранившиеся в избытке легенды таковы, что от них у смельчаков стынет самая пылкая кровь.
Обо всем этом я узнал из найденного мною древнего дневника; все осторожные намеки и не предназначенные для посторонних ушей истории о существах с дурным глазом, которых видели в окнах по ночам и на пустынных лесных опушках. Некая тварь напала на моего предка ночью на проселочной дороге и оставила следы рогов на его груди и следы когтей, подобных обезьяньим, на спине; на дорожной пыли удалось найти перемежающиеся четкие отпечатки копыт и чего‑то похожего на лапы обезьяны. Один почтальон рассказывал, что, проезжая верхом через Медоу‑Хилл незадолго до рассвета, при тусклом сиянии луны видел старика, догонявшего и окликавшего какое‑то гадкое существо, убегавшее вприпрыжку, и многие поверили почтальону. Также точно известно, что в 1710 году, после похорон дряхлого бездетного старика, тело которого положили в склеп за его домом, рядом со странной плитой без надписи, в его доме раздавались какие‑то голоса. Дверь на мансарду отпирать не стали, но оставили дом таким, какой он был, – мрачным и заброшенным. Когда же из покинутого дома доносились звуки, прохожие вздрагивали и шепотом успокаивали себя, что, наверное, замок на той двери достаточно прочный. Надежда эта не оправдалась, и случился кошмар в доме приходского священника, всех обитателей которого нашли наутро не просто бездыханными, но разодранными на части. Легенды более поздних лет уже более похожи на байки – полагаю, по той причине, что то существо, скорее всего, скончалось. Но память о нем сохранялась долго – вероятно потому, что истории передавались по секрету.
Пока я рассказывал все это, мой друг Мэнтон сделался малословным, и я понял, что история произвела на него глубокое впечатление. Когда я замолчал, он не рассмеялся, но вполне серьезно поинтересовался о том пареньке, что сошел с ума в 1793 году и стал прототипом главного героя моего рассказа. Я объяснил ему, зачем мальчишка забрался в мрачный, заброшенный дом, который все обходили стороной. Этот момент не мог не заинтересовать моего приятеля, поскольку он верил, что на окнах запечатлеваются лица людей, долго сидевших подле них. Наслушавшись рассказов о существах, появлявшихся в окнах упомянутой мансарды, паренек решил пойти и посмотреть на них и прибежал обратно обезумевший и непрестанно кричащий.
Пока я все это рассказывал, Мэнтон был погружен в глубокую задумчивость, но как только я закончил, к нему тут же вернулось обычное скептическое отношение. Согласившись, ввиду представленных аргументов, что какой‑то необычный монстр действительно существовал, Мэнтон, однако, указал мне, что даже самые болезненные извращения натуры никак нельзя отнести к неименуемому, поскольку они довольно четко описываются средствами современной науки. Восхитившись его логике и настойчивости, я привел еще несколько свидетельств, услышанных мною от стариков. В этих более современных историях с призраками, пояснил я, упоминаются существа столь ужасные и отвратительные, что никак нельзя предположить, чтобы они были природными тварями: кошмарные призраки гигантских размеров и чудовищных очертаний, иногда видимые, иногда только осязаемые, в безлунные ночи как бы плавающие по воздуху, появляющиеся то в старом доме, то возле склепа сзади него, то над могилой, где рядом с плитой без надписи пустило корни молодое деревцо. Правда ли, что они душили и рвали людей на части, как утверждала молва, – не знаю, но, во всяком случае, эти призраки оставляли сильное и неизгладимое впечатление о себе; неспроста старейшие из местных жителей испытывали к ним суеверный страх еще каких‑нибудь два поколения назад, и лишь в последнее время о них почти не вспоминали, что, кстати, и могло послужить причиной их исчезновения. Наконец, если подойти к этой проблеме со стороны эстетической теории и вспомнить, какие гротескные, искаженные формы принимают духовные эманации человеческих существ, то вполне естественно, что вряд ли удается добиться связного и внятного описания в случаях, когда мы имеем дело с такой бесформенной призрачной мерзостью, как дух злобного, уродливого монстра, само существование которого уже было кощунством по отношению к природе. Такая химера, порожденная мертвым мозгом дьявольской помеси зверя и человека, разве не может оказаться во всей своей неприглядной наготе подлинно неименуемым?
Должно быть, уже настала ночь. Мимо на удивление бесшумно пролетела летучая мышь; она коснулась меня крылом и Мэнтона, вероятно, тоже – я не видал его в темноте, но мне показалось, что он взмахнул рукой. Спустя некоторое время он снова заговорил:
– А сам этот дом с окном мансарды сохранился? И там по‑прежнему никто не живет?
– Да, я видел его собственными глазами.
– И ты обнаружил там что‑нибудь? Я имею в виду, в мансарде или еще где‑то…
– В углу между крышей и полом лежали кости. Не исключено, что паренек увидел именно их. Слабонервному, чтобы свихнуться, этого могло оказаться вполне достаточно, ибо если все эти кости принадлежали одному существу, то оно было кошмарным чудовищем, какое может привидеться только в бреду. Я счел своим долгом избавить мир от этих костей, поэтому сходил за мешком и оттащил их к могиле за домом. Там оказалась щель, туда я их и свалил. Не думай, что это была просто причуда – видел бы ты тот череп! На нем были рога сантиметров десять длиной, а лицевые и челюстные кости примерно такие же, как у нас.
Наконец я почувствовал, что Мэнтона, который почти прижался ко мне, пробрала настоящая дрожь! Но его любопытство оказалось сильнее страха.
– А что же окна?
– Все они были без стекол. У одного окна даже выпала рама, а в остальных не осталось ни кусочка стекла. Это были… ну, с такой ромбовидной решеткой из небольших кусков стекла, какие были обычными до 1700 года. Думаю, стекла в них отсутствовали уже лет сто, не меньше. А может, их унес тот паренек?… Об этом предание ничего не говорит.
Мэнтон снова затих и задумался.
– Я хотел бы увидеть этот дом, Картер, – произнес он наконец. – Где он? Есть там стекла или нет, мне интересен сам дом. И та могила, куда ты кинул кости, и другая могила, с плитой без надписи, – во всем этом, должно быть, есть что‑то жуткое.
– Ты видел этот дом сегодня, пока не стемнело.
Некоторая театральность, с которой я произнес последнюю фразу, подействовала на моего приятеля куда сильнее, чем я мог ожидать, – он судорожно отпрянул от меня и удушливо выкрикнул, вложив в этот крик все накопившееся и сдерживаемое до сего момента напряжение. Это был очень странный крик, но самое ужасное заключалось в том, что на него последовал ответ. Словно отзываясь ему эхом, из кромешной тьмы донесся скрип, и я догадался, что это открывается одно из решетчатых окон в проклятом старом доме неподалеку от нас. Более того, поскольку все остальные рамы давным‑давно рассыпались, я понял, что скрип издает жуткая пустая рама того самого окна мансарды.
Затем с той же стороны налетел порыв ледяного затхлого воздуха и сразу же почти рядом со мной раздался пронзительный крик; он исходил из расколотого места упокоения человека и монстра. В следующее мгновение меня свалил удар чудовищной силы, нанесенный невидимым объектом громадных размеров и непонятной природы, и я растянулся на оплетенной корнями почве зловещего кладбища, а из могилы неслась такая адская какофония шумов и сдавленных хрипов, что мое воображение мгновенно заполнило окружающий беспросветный мрак мильтоновскими легионами безобразных демонов. Пронесся леденящий иссушающий вихрь, раздался грохот обваливающихся кирпичей и штукатурки, но прежде чем успел понять, что происходит, я милосердно лишился чувств.
Обладая меньшими габаритами, чем я, Мэнтон оказался более выносливым, и, хотя в итоге он пострадал сильнее меня, очнулись мы почти одновременно. Наши койки стояли бок о бок, и через несколько секунд мы узнали, что находимся в больнице Св. Марии. Сиделки, собравшиеся вокруг нас, поведали нам о том, как сюда мы попали: какой‑то фермер обнаружил нас в полдень на пустыре за Медоу‑Хилл, примерно в миле от старого кладбища, на том самом месте, где когда‑то, говорят, располагалась бойня. У Мэнтона были две серьезные раны на груди и несколько мелких резаных и колотых ран на спине. Я отделался легкими повреждениями, но зато все мое тело оказалось покрыто ссадинами и синяками удивительного происхождения – например, один из них был явно отпечатком копыта. Мэнтон явно больше меня знал о нашем приключении, однако ничего не рассказал озадаченным и заинтригованным врачам до тех пор, пока не выведал у них все подробности о наших ранах. Только после этого он сообщил, что на нас напал разъяренный бык – выдумка, на мой взгляд, неудачная, ибо откуда такой бык мог взяться?
Как только врачи и сиделки покинули нас, я повернулся к приятелю и шепотом, исполненным страхом, спросил:
– О Боже, Мэнтон, что же это было? Эти раны выглядят так… на что оно было похоже?
Я примерно представлял, что он скажет, но был слишком ошеломлен, чтобы ликовать, услышав его ответ.
– Нет, описать это невозможно. Оно было повсюду… какое‑то желе… слизь, не имеющая формы… имеющая тысячи форм, столь кошмарных, что хочется скорее забыть о них. Я видел глаза, а в них – чистый порок! Это была бездна… пучина… воплощение крайней мерзости. Настолько неприличное, что я не могу описать… Картер, это было неименуемое!
1925
Изгой
Перевод Олега Колесникова
Барон всю ночь ворочался в постели;
Гостей подпивших буйный пляс томил
Чертей и ведьм – и в черноту могил
Тащили их во сне к червям голодным.
Джон Китс[10]
Несчастен тот, у кого воспоминания о детстве вызывают лишь страх и печаль. Жалок тот, кто, оглядываясь на прожитую жизнь, видит лишь долгие часы уединения в огромных мрачных залах с тяжелыми портьерами и рядами навевающих тоску древних книг или лишь бесконечные бдения в сумеречных рощах, среди наводящих благоговейный ужас огромных, причудливых, оплетенных лианами деревьев, безмолвно тянущих в вышину искривленные ветви… Такой участью наделили меня щедрые боги – быть одиноким и отвергнутым, сломленным и сдавшимся. Но я отчаянно цепляюсь даже за эти блеклые воспоминания, когда мой рассудок стремится умчаться куда‑то за пределы нашего мира.
Не знаю, где я родился, память хранит воспоминания только об этом замке, бесконечно древнем и безмерно ужасном, с мрачными проходами и галереями, с высокими потолками, на которых глаз может узреть лишь какие‑то тени и паутину. Камни разрушающихся коридоров выглядят так, будто всегда были покрыты мерзкой сыростью, и повсюду здесь этот проклятый запах – будто только что догорел погребальный костер ушедших поколений. Здесь никогда не бывает светло, и потому я иногда зажигаю свечу, чтобы полюбоваться пламенем, а солнечный свет мне видеть не доводилось, поскольку кошмарные деревья, поднявшиеся выше башен, закрывают его. Правда, одна черная башня вздымается выше леса, достигая вершиной открытого неба, но она частично разрушена и подняться по ней почти невозможно, – разве что карабкаться по отвесной стене, цепляясь за камни.
Я провел здесь многие годы, но не знаю, сколько именно, ибо не отмечал хода времени. Наверное, кто‑то заботился обо мне, но я не видел никаких других живых существ помимо крыс, пауков и летучих мышей. Тот, кто меня нянчил, видимо, был ужасающе стар, ибо первое, что приходит мне в голову при мысли о человеческом существе, – некая пародия на меня, нечто перекошенное, ссохшееся и зачахшее, как этот замок. Кости и скелеты, встречавшиеся в каменных склепах глубоко под землей, воспринимались мною как нечто совершенно обыденное. В моем представлении они имели гораздо большее отношение к реальной жизни, чем те существа, о которых я знаю лишь по цветным изображениям в древних книгах. Из этих книг я и знаю все, что мне известно о мире вокруг. У меня не было учителей или наставников; за все эти годы я ни разу не слышал человеческого голоса, даже собственного: хотя я умею читать, мне никогда не приходило в голову делать это вслух. О своем внешнем виде я мог только догадываться – зеркал в замке не было, и я представлял себя похожим на молодых людей, изображенных в книгах. Я ощущал себя молодым, потому что помнил так мало.
Я часто перебирался через ров с гниющей водой к мрачным тихим деревьям, под которыми лежал и грезил о прочитанном в книгах; обычно при этом я представлял себя находящимся в многолюдном солнечном мире, лежащем за бескрайними лесами. Однажды я попытался сбежать, пробравшись через лес, но стоило мне удалиться от замка, как сумерки сгустились, воздух становился все более пропитанным ужасом, и потому я опрометью бросился назад, боясь затеряться в лабиринте мрачного безмолвия.
Так я жил, мечтал и ожидал чего‑то в этом нескончаемом полумраке – сам не зная, чего ожидаю. И наконец, истомленный одиночеством в сумраке, я уже не смог сдерживать страстное стремление к свету и воздел с мольбою руки к той единственной черной полуразрушенной башне, что поднималась над лесом в неведомое небо. Я решился взобраться на эту башню, даже рискуя разбиться; уж лучше увидеть небо и погибнуть, чем существовать, не увидев ни разу дневного света.
В промозглых сумерках я взбирался по древним выщербленным ступеням, пока не достиг того уровня, где они заканчивались, и там, невзирая на опасность, продолжил подъем, используя углубления и выступы на стене. Ужасным и зловещим был этот мертвый, лишенный ступеней каменный цилиндр, черный, полуразрушенный и заброшенный, кажущийся еще более зловещим от бесшумно пролетающих время от времени нетопырей. Но еще более ужасным и зловещим было мое медленное продвижение, ибо сколько я ни лез, тьма над головой не рассеивалась, и озноб начал сжимать меня леденящей хваткой. Я дрожал, терзаясь догадками о том, почему не становится светлее, и не смея поднять глаза. Беспокоясь, что, возможно, уже настала ночь, я то и дело шарил рукой в поисках амбразуры окна, чтобы посмотреть и оценить, как высоко я взобрался.
И наконец, после целой вечности крайне рискованного подъема вслепую над пропастью по вогнутой поверхности, я коснулся головой чего‑то твердого и понял, что достиг крыши, или, по крайней мере, какого‑то перекрытия. Я поднял в темноте руку и, потрогав преграду, убедился, что она каменная и неподвижная. Тогда я стал двигаться по окружности башни, цепляясь за все, за что удавалось ухватиться на склизкой стене, до тех пор пока, подняв руку, не обнаружил, что преграда слегка поддается, и там снова попытался подниматься, упираясь в преграду головой, поскольку обе руки у меня были заняты. Никакого света сверху я не увидел и, уперевшись локтями в горизонтальную поверхность, понял, что мое восхождение еще не закончено, поскольку ощутил каменный пол наблюдательной площадки, большей по диаметру, чем сама башня. Я осторожно закончил пролезать через люк, стараясь не позволить тяжелой крышке упасть обратно, но последнее мне не удалось. Я в изнеможении лежал на каменном полу, с эхом стука от захлопнувшегося люка в ушах, и надеялся, что смогу открыть его снова, когда это понадобится.
Будучи уверенным, что уже поднялся на огромную высоту, выше проклятого леса, я заставил себя подняться на ноги и принялся наощупь искать окно, что‑бы впервые увидеть небо, луну и звезды, о которых прежде только читал. Но повсюду меня ждало разочарование, поскольку вокруг были только широкие полки из мрамора, заставленные ящиками пугающе большого размера. Снова и снова я задавался вопросом, какие же древние тайны скрываются здесь, в вышине, бездну времени отделенные от замка внизу? Затем вдруг мои руки нашарили дверной проем с каменной дверью со странным рельефом. Попытавшись открыть ее, я обнаружил, что она закрыта; но, преодолев крайнюю усталость, вложив в рывок все остатки сил, смог заставить ее открыться. Сразу же после этого безмерный восторг охватил меня, ибо сквозь узорную железную решетку, к которой поднимался короткий пролет каменной лестницы, светила полная луна, которую прежде я видел только во снах и в тех смутных видениях, которые не осмеливаюсь назвать воспоминаниями.
Теперь уже не сомневаясь, что достиг верхушки башни, я бросился вверх по ступенькам; но вдруг луна скрылась за облаком, и в наступившей тьме я замедлил шаги. Было все еще темно, когда я наощупь добрался до решетки. Она оказалась незапертой, но я не решился отворять ее, боясь сорваться и упасть с той головокружительной высоты, на которую поднялся. Затем луна появилась.
Наибольшее потрясение вы испытываете, когда видите что‑то беспредельно неожиданное и до нелепости невероятное. Никогда прежде я не испытывал ужаса, сопоставимого с тем, который испытал, увидев в тот миг совершенно абсурдную картину. Сама по себе она была вполне заурядной и тем самым более ошеломительной, ибо увидел я вот что: вместо головокружительного вида с огромной высоты на верхушки деревьев вокруг меня, на том же уровне, на котором я стоял, простиралась ровная земная поверхность, над которой возвышались мраморные плиты и колонны, стоящие в тени древней каменной церкви, остатки шпиля которой призрачно поблескивали в лунном свете.
Конец ознакомительного фрагмента – скачать книгу легально
[1] Мероэ – древний город, столица Мериоитского царства (2‑я пол. 6 в. до н. э. – 4 в. н. э.) на Среднем Ниле.
[2] Офир – упоминаемая в Библии страна, славившаяся своим золотом, относительно местоположения которой высказываются самые разные мнения: Сомалийское побережье Восточной Африки, Южная Аравия и даже Индия.
[3] Тюхе (Тихе, Тихэ, Тихея, «случайность», то, что выпало по жребию) – в греческой мифологии – богиня случая и удачи. В древнеримской мифологии ей соответствует Фортуна. Тюхе не встречалась в классической мифологии, а появилась только в эпоху эллинизма как сознательное противопоставление древнему представлению о неизменной судьбе. Она символизирует изменчивость мира, его неустойчивость и случайность любого факта личной и общественной жизни.
[4] Граждане, оказывавшие по личной инициативе или по поручению своего полиса гостеприимство и помощь послам или гражданам другого полиса и пользовавшиеся за это в чужом городе рядом привилегий.
[5] Честерфилд Филип Дормер Стенхоп (1694–1773) – граф, английский государственный деятель, дипломат и публицист. Автор наставительных «Писем к сыну» (изд. 1774).
[6] Рочестер Джон Уилмот (1648–1680) – граф, английский поэт, фаворит Карла II.
[7] Гей Джон (1685–1732) – английский поэт и драматург, автор комедии «Опера нищих» (1728). Прайор Мэтью (1664–1721) – английский поэт и дипломат. Автор эпиграмм, баллад, стихотворных пародий на самых веселых римских остроумцев и рифмоплетов.
[8] Перевод Дм. Раевского.
[9] Палинур – рулевой корабля Энея, направлявшегося из Карфагена в Италию. Палинур заснул за рулем, упал за борт и погиб в волнах.
[10] Перевод С. Сухарева.
Библиотека электронных книг "Семь Книг" - admin@7books.ru