
Корабли на суше не живут (Артуро Перес-Реверте)
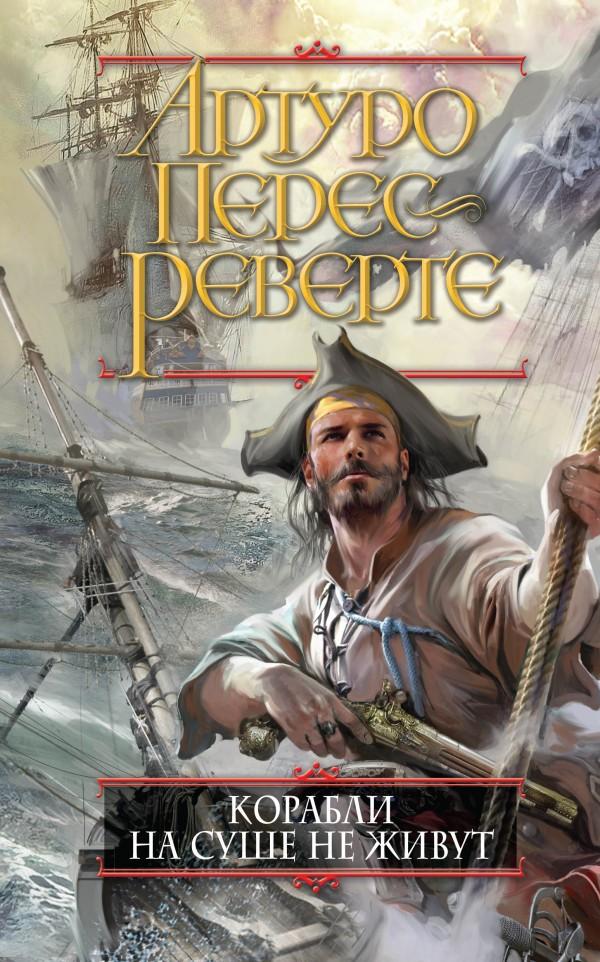
Артуро Перес?Реверте
Корабли на суше не живут
Обаяние тайны. Проза Артуро Переса-Реверте
Пако Санчесу Фариньясу
за осуществившиеся моря,
а также Хесусу Бельмару
1994
Пако?Мореход
Он не знает, кто такой Джозеф Конрад, и провалиться ему на этом самом месте, если его это хоть немного интересует. Служил в торговом флоте, а еще раньше – горнистом на крейсере «Адмирал Серве?ра», то есть во времена, когда команды подавались сигналами горна, иными словами – когда наш генералиссимус еще ходил в капралах. Не так давно бросил курить, а потому немного огрузнел, но сохраняет прежнюю стать и осанку, хотя ему уже за семьдесят. Выдубленное солнцем и ветром лицо, густые седые кудри, голубые глаза. Еще десять лет назад иностранки, которых он катал по акватории картахенского порта, млели, когда в уютном кольце его рук им дозволялось взяться за штурвал. Очень такой мужчинистый был мужчина.
По утрам можно видеть, как этот честный морской наемник, подкрепившись в какой?нибудь портовой забегаловке, ждет клиентов в своей старой, сто раз крашенной лодке, носящей его собственное имя, оно же имя его отца, – а клиентов нет. Помимо тех турий?гуристок – тьфу ты, наоборот, – которых Мореход, подсаживая на борт, хлопает по заду, он доставляет родственников новобранцев на церемонию принятия присяги, а на суда, бросившие якоря на рейде Эскомбрераса, – экипажи танкеров и американских матросов с разбитыми в припортовых притонах Молинете мордами (перепившие янки травят с подветренного борта), а кроме того, в штормовую погодку возит лоцманов. Он со своей посудиной видел все: и как не на шутку расходится море, когда осерчает Господь, и долгое, красное средиземноморское предвечерье, когда вода – как зеркало, и душу твою осеняет вселенский мир, и самого себя ощущаешь крошечной капелькой в вечном море.
Пако собирается на покой, но сейчас вместе с товарищами по веслу и парусу ведет путаную тяжбу с портовыми властями (а власти на то ведь и власти, чтобы ждать от них пакостей и напастей), намеревающимися перенести причал от внутренней гавани, где испокон века швартовали свои лодки, баркасы и катера и нынешние моряки, и отцы их, и деды, куда?то в другое место. Несколько дней назад я выпивал с ними и хоть, как чаще всего это бывает, не вполне уразумел, у кого больше законных прав, однако сердцем и инстинктом принял сторону Пако и его коллег – людей, у которых руки жесткие и мозолистые, лица покрыты шрамами и морщинами, а глаза обожжены солью, людей искренних, достойных и твердых. Так что на юридические основания я, честно говоря, положил. Напиши что?нибудь, сказали они мне, проникшись доверием. Я дал слово, обменяв его на несколько стаканов, и вот теперь слово это держу, хоть разрази меня гром, если понимаю, что? должен защищать и отстаивать.
Так или иначе, ему, Пако?Мореходу, я обязан этой страницей. Рядом с ним за почти тридцать лет я набрался чертовой уймы сведений о людях, о море и о жизни. Однажды во время шторма, серого и убийственного шторма из тех, что время от времени налетают откуда ни возьмись на Mare Nostrum – наше с Пако море, – я сидел на маяке Сан?Педро с ним и с несколькими женщинами в черном и смотрел, как прыгают на пятиметровых волнах маленькие беспомощные рыбачьи лодки, пытаясь найти укрытие у волнореза. Мы издали следили, как эти крошечные утлые скорлупки снуют меж громадами валов в хлопьях пены, едва?едва, на пределе своих слабосильных моторов подвигаясь вперед. Одной лодки недосчитались, а когда погибает рыбак, это значит, что с ним вместе сгинули в пучине сын, муж, брат, зять, деверь. И потому женщины в трауре и дети молча вглядывались в даль, пытаясь определить, кого именно не хватает. И сидевший рядом Мореход с окурком в углу рта покосился на них и, стараясь, чтобы вышло не напоказ, почти смущенно стянул с головы шапку. Из уважения к их горю.
Другое мое вспоминание о Пако связано с Кладбищем Безымянных Кораблей. Однажды он отвез меня на своем катерке к тому месту, где старые корабли, совершившие свой последний переход, лишенные имени и флага, разрезают на куски и продают как металлолом. Там, где в разоре и запустении громоздились ржавые листы обшивки, части надстроек, навсегда погасшие трубы и, словно мертвые киты, выброшенные на берег, высились остовы судов, Пако дал мне первую в жизни сигарету и поднес огоньку от латунной зажигалки, пахнувшей сгоревшим фитилем. Потом закурил сам и, сощурясь, с печалью оглядел мертвые корабли.
– Куда лучше потонуть в открытом море, – покачав головой, сказал он чуть погодя. – Дай бог, чтоб нас с тобой, малец, не сдали в утиль.
Чудо?остров
Было это недели три назад, в одно из тех воскресений, когда средиземноморские прибрежные воды заполняются судами, а эфир (9?й канал УКВ) – разноголосым моряцким гомоном и щебетом, по накалу чувств не уступающим какому?нибудь трогательному сериалу: «Говорит яхта «Марипили», прием… только что обогнули мыс Нао… Мариано, как насчет Ибицы… остров Пердигера прошу на связь… зарезервируйте мне столик на четверых… остался без горючего, мэйдей, мэйдей[1]… терплю бедствие… прошу помощи… теща и детишки травят с наветренного борта… судовая аптечка не справляется…»
Так вот, говорю, было одно из таких воскресений – и задувал восточный левантинец, и сколько?то там корабликов искали приют у некоего островка. А на островке том располагалась какая?то база, и полдесятка совершенно ошалевших от скуки матросов рассматривали в бинокли купальщиц с яхт. Нет, ты глянь?ка на ту, в лилово?розовом бикини. А та и вовсе загорает топлесс. Эх, что за гадская жизнь… Сидишь тут, родину защищаешь и потому вдуть можешь только Клаудии Шиффер – и то не раньше, чем ефрейтор ее обслужит и вернет журнальчик «Интервью»… Опротивела мне эта Клаудия Шиффер, а служить еще восемь месяцев. Занавес.
Но к делу. А дело в том, что вот одно из таких воскресений, и вот один из таких островков, и вот одно из таких суденышек, маленькая яхта, имея на борту толстую даму, ее благоверного и трех?четырех детишек, подобралась слишком близко к берегу. Все семейство нежится на палубе, и тут происходит нежданное явление серой моторной лодки типа «зодиак», а на ней двое: один в морской форме, а второй в рубашке?поло и в бермудах. Чин его определить, стало быть, невозможно, но если судить по седине и по тому, с какими властными ухватками он лично отдает приказы экипажу яхточки, – где?то от капитана первого ранга и выше. Самое малое. Уверенность мою подкрепляет и то обстоятельство, что у самого берега стоит на якоре другая и явно принадлежащая ему яхта, а пассажиры ее вольготно раскинулись на пляже. А право греть пузо на песочке и полоскаться в воде, которые принадлежат военно?морским силам Испании, даруется лишь тем, у кого на обшлагах много золота.
Ну, короче. Этот, который в бермудах, разевает хлебало по адресу загорающего экипажа яхтенки и требует, чтобы они убрались отсюда сию же минуту. А дабы окончательно уяснили, кому принадлежат, а кому не принадлежат эти райские кущи, совершает чрезвычайно мужественный и воинственный маневр, задирая нос своего «зодиака» и проносясь в туче брызг и пены мимо всех тех – нас то есть, – кто с большего или меньшего расстояния наблюдает за этой сценой. После чего с лихим разворотом уносится наслаждаться жизнью на своем личном острове.
Ну, что мне вам сказать? Может быть, подобное происшествие и не заслуживало столь детального описания. Но этот вот финальный ревущий аккорд, этот прощальный фортель, которым хмырь в бермудах позволил нам полюбоваться забесплатно, в буквальном смысле слова пустив по ветру восемьсот тыщ литров казенного бензина для того лишь, чтобы продемонстрировать свою власть, – все это достало меня до самого нутра. И бесконечно жаль, что на яхтенке не оказалось людей поноровистей или погорластей тех, кто поспешил исполнить категорическое требование. Давайте в таком случае вообразим себе возможный диалог. Приказываю уматывать отсюда живо. А ты кто такой, чтоб нам приказывать. Я – коммодор[2] Мартинес де Ухо?и?Рыло. Вот бы не подумал, что коммодоры ходят в таком виде. Требую уважения к военно?морскому флоту. А где тут военно?морской флот, скажи на милость, я вижу всего лишь какого?то хмыря в рубашонке «лакоста» и штанцах до колен. Ну и так далее, в том же роде.
Вышеподписавшемуся кажется, что было бы очень уместно запретить яхтсменам загаживать пустыми жестянками и прочим мусором акваторию и острова, вверенные попечению военно?морского флота. Также мне совершенно безразлично, будут ли скитальцы морей, или сухопутные крысы, или какие угодно представители вооруженных сил пользоваться определенными привилегиями – в воскресенье, например, возить все семейство в конноспортивный клуб или на пляж, предназначенный лишь для командного и начальствующего состава. В обмен на это мы вправе потребовать, чтобы в случае войны они дали изрубить себя в мелкие кусочки и не вздумали увильнуть от этой славной доли. Потому что военные и существуют, чтобы защищать тех, кто платит им жалованье, чтобы выкрасить каску в голубой цвет, помогая бедолагам в Боснии, чтобы охранять испанских макреле? или тунцеловов – пусть они такие же хищники и грабители, как английские или французские рыбаки, но это, как ни крути, свои, наши браконьеры – или чтобы сморгнуть слезу, когда в результате ставшего уже привычным мошенничества спускается наш флаг над Сеутой или Мелильей. Так что по мне – если уж пришла охота купаться, пусть себе купаются, где их душе угодно. Не в купании дело, а в том, что в наши суровые времена я предпочитаю, чтобы флотское фанфаронство обходилось нам подешевле. Такие вот, знаете ли, бывают странные вкусы. Да, и, пожалуйста, устраивая представление, не забывайте представляться, сообщая свое имя, фамилию, должность и звание. И быть по такому случаю при штанах.
1995
Дракон и Полярная звезда
Одна из тех тихих средиземноморских ночей, когда земли не видать, за кормой, поплескивая, фосфоресцирует вода и темный контур мачты с медленно покачивающимися парусами четко выделяется на фоне неба, покрытого мириадами звезд. В такую ночь невольно пожалеешь, что не куришь, потому что так сладко было бы затянуться сигаретой, прислонясь к комингсу у штурвала, – впереди еще три часа вахты, слабо мерцающая стрелка компаса показывает на восток?юго?восток, а вдалеке видны огни сухогруза, который, как и предупреждал недавно радар, пересекал твой путь, а теперь наконец разминулся с тобой, избавив от угрозы столкновения и оставив море, небо, звезды тебе в единоличное пользование.
Одна из тех ночей, когда пять суток, которые ты себялюбиво влачишь по палубе, словно растягиваются на все двадцать, когда все оставленное на суше отодвигается в такую даль, что теряет всякое значение, а ты вдруг с удивлением сознаешь, что уж лет сто как не слышал радиобрехни, не читал газет, не смотрел телевизор, что тебе никто не вещал про политику, про коррупцию, не говорил «видите ли, в чем дело», а жизнь и без этого течет себе да течет, и не происходит ровным счетом ничего, а ты спрашиваешь, какого ж дьявола так ошиблось Человечество? Как же так вышло, что мы все угодили – или нас загнали – в этот злодолбучий капкан, и кем была та сволочь, которая первой на этом нажилась?
Стоит такая вот ночь, и ты спускаешься сварить себе кофе. А потом, держа обеими руками горячую металлическую кружку, возвращаешься в рубку и, прихлебывая, глядишь на корму и видишь над палубой Большую Медведицу и машинально прочерчиваешь воображаемую линию от Мерака к Дубхе и тогда наверху отыщешь Малую Медведицу и Полярную звезду, неизменную на протяжении тысячелетий. И ты готов поверить в бога, когда глядишь на свет этих созвездий, которые чуть заметно вращаются там, в необозримой вышине, под темным и сияющим сводом, раскинутым над медленно покачивающейся мачтой и светлым пятном паруса. Бетельгейзе блестит на плече у гиганта Ориона, а он преследует Тельца. Еще различимы на западе Волосы Вероники, и Альтаир сверкает в созвездии Орла, в это время года летящем вверх. Если напряжешь зрение, разглядишь рядом с ними и Лебедя, что движется направо, покуда внизу проплывает маленький красивый Дельфин. А между двух Медведиц расположился Дракон, которому пять тысяч лет назад, когда Полярная звезда была в нем, поклонялись древние египтяне. Цикл его обращения – 25 800 лет, так что через 22 800 он снова будет обозначать географический Север.
И вот так, стоя на вахте и поглядывая на это невозмутимое небо, которое, судя по всему, посмеивается над очень?очень многим из того, что простерлось внизу, припомнишь вдруг, что свет пролетает 300 000 километров в секунду и что Альтаир, например, на который ты смотришь сейчас, испустил этот свет шестнадцать лет назад, и что, может быть, он уже взорвался в космосе и больше не существует, но ты будешь видеть его еще сколько?то лет. И переводишь взгляд на главную твою, на Полярную звезду, отстоящую от тебя на 470 световых лет, и вдруг спохватываешься, что прокладываешь свой курс и вычисляешь место по свету, который был испущен звездой в начале XVI века и шел к тебе долгих пять веков. Это подобно тому, как из склепа вылез бы призрак и повел тебя в ночи.
И ощутишь особого рода головокружение, внезапно осознав: нет никаких гарантий, что все это над твоей головой еще существует: быть может, в этот самый миг бесконечное множество планет и солнц меняются, гибнут или рождают новые миры. И в безмерности этой Вселенной смешны и жалки какие?то 150 миллионов километров, отделяющие Землю от Солнца (до Плутона вообще рукой подать – всего?то 5,9 миллиона) в нашей убогой Галактике. И подумаешь: вполне возможно, когда через 22 800 лет Дракон заменит на севере Полярную звезду, он отметит нулевую долготу над мертвой планетой, и та, уже лишенная всяких признаков жизни, будет безмолвно кружиться в пустом космосе.
И, глотнув еще кофе, говоришь себе: ну, посмотрим. Столько веков, столько миллиардов лет медленно вращается над нами этот купол, а мы еще кем?то мним себя, и потому лишь, что за ничтожный срок, всего за несколько столетий сумели загадить, отравить, завалить горами мусора, отбросов и разнообразного дерьма нашу крохотную частицу тверди. Не знаю, есть ли на других планетах разумные существа, но если есть, они наверняка смотрят на нас в телескоп и покатываются со смеху.
Морские охотники
Произошло это девять лет назад. Вечерело, и в устье реки Виго, в спокойной красноватой воде неподвижно стоял турбокатер СБО с выключенным двигателем. Мы пили кофе в ожидании, а на мостике наш старший – шерстяная шапка, изборожденное морщинами лицо – курил перед рацией. Еще четыре катера ожидали начала охоты. За границей испанских территориальных вод контрабандисты на двенадцати глиссерах, на которые только что перегрузили с плавбазы табак, ожидали наступления темноты, чтобы войти в реку.
Совсем смерклось, а мы по?прежнему пребывали в темноте, безмолвии и неподвижности. Внезапно раздался звук, похожий на посвист летящего мимо артиллерийского снаряда, что?то вроде зарницы пронеслось рядом с нами, и старший сказал: «Ну, вот и они», и ночь разодралась в клочья лучами прожекторов, ревом моторов, заработавших на полную мощность, эфир ожил и заполнился суматошным гомоном, очень похожим на возбужденные переговоры летчиков в воздушном бою. Охота длилась два долгих часа: преследование на пятидесяти узлах шло между берегом и опасными устричными отмелями, причем контрабандисты внезапно врубали прожектора, чтобы ослепшие таможенники врезались в препятствие. В ту ночь Служба береговой охраны захватила четыре глиссера и взяла двух раненых. С тех пор я влюбился в это ведомство – и уже навсегда.
Я много раз выходил в море с его сотрудниками (как, впрочем, и с людьми, так сказать, с другого берега – бывал то охотником, то дичью) и с операторами ТВ – крутыми ребятами по имени Маркес, Валентин, Хосеми, которые знай себе стоят с «бетакамом» на плече и делают свое дело, умудряясь снимать, когда глиссер несется в ночи на полном ходу и прыгает на волнах. Так что деля курево и удачу (поровну с невезеньем, потому что по?разному бывает), выпив много литров кофе и коньяку (это уже когда сходили на берег), мы с ними подружились на всю жизнь. Есть что вспомнить, навалом было моментов трудных и ситуаций – экстраординарных. Вот однажды, гоняясь за гибралтарским глиссером, вылетели на такое мелководье у берега Атунары, что заглотнули камень со дна, а выплюнули размолотую в пыль лопатку нашей турбины. В другой раз, когда мой кум Хавьер Кольядо, лучший в мире пилот?вертолетчик, шел над самой водой за глиссером, груженным гашишем, которому – глиссеру, натурально, а не гашишу – предварительно полозьями шасси оборвал антенну, чтобы лишить контрабандистов связи, пенный бурун ударил в открытые двери нашей кабины, да так, что мы коснулись полозьями волны и едва не отправились к известной матери.
Это я все к тому, что, наблюдая этих людей в деле, участвуя в их опасных охотах, деля с ними неудачи и победы, я и проникся к ним истинным и глубоким уважением. И вот сейчас открываю газету и читаю там, что, согласно новому закону, который вот?вот будет одобрен, грядет реструктуризация ведомства, и борьба с контрабандой будет передана в оперативное подчинение Гражданской гвардии. А это значит, если я не разучился читать и понимать прочитанное, что личный состав СБО, то есть эти вот люди, немногословные и эффективные профессионалы, потеряют всякую инициативу и сделаются обычными чиновниками под присмотром этой самой гвардии. И это повергает меня в уныние. Ибо нет сомнения – только поймите меня правильно! – что долговязые молодцы будут работать на совесть: они ответственны и тверды и будут забирать все большую власть над своим новым департаментом – до тех пор, пока не разовьют свои дарования и в конце концов не приобретут опыт, который достигается только многими часами бултыхания в море, – тот бесценный опыт, который уже сейчас есть у ребят из СБО. Речь идет о координации, об унификации – и кто же скажет, что это плохо? Однако зная, что почем, то есть представляя себе, каков потолок возможностей у сил и средств Гражданской гвардии, я очень опасаюсь, что на самом деле закон ознаменует гибель Службы, а ведь ей – воздадим кесарю кесарево – мы обязаны самыми громкими победами в борьбе с наркоторговлей и контрабандой. Эту элитную часть давно уже мечтали прибрать к рукам многие силовые структуры. А теперь ее, вместо того чтобы использовать по назначению, то есть там, где она пригодилась бы больше всего, выхолащивают. Спасибо, что пока в переносном смысле.
Ну, вы мне будете рассказывать. Беда в том, что, примериваясь к самым трудным и потому блестящим заданиям, гражданские гвардейцы не идут ни на какие сделки и компромиссы. И потому я очень опасаюсь еще, что под их контролем ребятам из СБО придется солоно. Это ли награда для тех, кто столько раз рисковал своей шкурой, чтобы сделать работу на совесть, скромно и тщательно, тех, чьи более чем впечатляющие успехи по службе позволили не одному судье засветиться на экране в выпусках теленовостей? Впрочем, сам не знаю, чему уж тут так удивляться. Мы живем в стране, где у хороших вассалов, неизменно преданных и столь же неизменно предаваемых, никогда не будет хорошего сеньора[3].
Хоть и англичанин…
Уж так исторически сложилось, что я терпеть не могу англичан. Как бы мне после такого утверждения не пришлось выйти на поединок с моим другом и коллегой Хавьером Мариасом, но мужчина на то и мужчина, чтобы уметь ответить за свои слова на поле чести. Хоть жизнь моя потом и устраивала новые повороты, подкидывала финты и фортели, превращая вышеподписавшегося в джентльмена удачи, все же он – я то есть – воспитан был от младых ногтей как просто джентльмен. Так что волей?неволей придется взяться за рапиру или за саблю (в пистолетах есть какая?то вопиющая вульгарность), когда мой сосед по газетной полосе, англофил до мозга костей, пришлет мне секундантов. Поскольку мы с ним бойцы примерно одного класса и служили в одних и тех же войсках, полагаю, технических сложностей не возникнет. Вот только не знаю, кто будет лейтенантом Кэнди, а кто – лейтенантом Кречмаром, как в этом чудесном фильме «Жизнь и смерть полковника Блимпа»[4], который мы с ним оба так любим.
Но я отвлекся. К делу. А дело в том, что на море и в истории англичанин для нас, средиземноморских туземцев, картахенских уроженцев, всегда был врагом. Ну, вы поняли – Махон, Сан?Висенте, Гибралтар, далее везде. Опять же мне не нравится, когда они уверяют в своих книгах, что при Трафальгаре сражались с французской эскадрой, куда затесался еще и какой?то испанский корабль, который, наверно, просто мимо проходил, или что во время «войны на Полуострове» они съели французишек без соли, а испанские геррильеры были у них только на подхвате. Еще не нравится, как они снимают свои фильмы про пиратов, вычерченные по голливудским лекалам: англичане там всегда элегантные патриоты, испанцы же, как один, похожи на мексиканских бандитов, и непременно у них отрицательный губернатор с хорошенькой племянницей.
Ну, впрочем, одно за ними следует признать – воевать они умеют. Это ни хорошо, ни плохо, это объективный факт. Не скажу про их генералов и политиков и про ее величество королеву тоже не скажу – не знаю, но каждую войну они воспринимают как свое личное дело, вроде футбола. Они свирепы в бою, беспощадны и жестоки, они отвергают «грязную игру» (если только не сами в нее играют), и невесты их машут на прощанье лифчиками, провожая женихов то на Мальвины, то в Залив, то еще к какому?нибудь черту на рога. Полагаю, в основном поэтому они и сумели внушить к себе уважение. Когда я, как принято говорить, освещал войну на Балканах, из всех «голубых касок» только британцы приняли всерьез мою аккредитацию при ООН и провели меня через Витез и Горни?Вакуф, рассыпая удары направо и налево, меж тем как испанцы только извинялись и твердили, что Мадрид приказал им не встревать – ни ради журналистов, ни черта, ни дьявола.
Все вышесказанное было выше сказано исключительно ради того, чтобы прояснить следующее обстоятельство: я намереваюсь рекомендовать вам одну книгу. На самом?то деле, конечно, не одну, а несколько книг, от чтения которых я получил – и впредь надеюсь получать – истинное удовольствие. Речь идет о цикле романов, посвященных британскому флоту и сочиненных Патриком О’Брайаном: в Англии и в США вышло уже около десятка книг этой серии, а в Испании пока опубликованы только две: «Капитан первого ранга» и «Капитан второго ранга». Рекомендовать же хочу по нескольким причинам. Во?первых, потому, что всегда считал, что нет подарка лучше, чем предложить вниманию просвещенной публики еще неведомое ей произведение. Во?вторых, потому, что эти романы написаны как раньше и как всегда романы писались – там есть морские сражения и Средиземное море во времена лорда Нельсона, ураганы и абордажи, щепки, отлетающие от обшивки фрегатов, корсары, доблесть и зверство, капитан Джек Обри и его друг доктор Мэтьюрин, которые с каждой следующей страницей проникают в душу все глубже – да так, что забыть их делается невозможно. И для чистых сердцем читателей они становятся такими же близкими друзьями, как д’Артаньян, Нед Ленд, Эмилио де Рокканера[5], Джим Хокинс, Соколиный Глаз, Шерлок Холмс и доктор Ватсон или Пардайяны[6]. Имена и сюжеты служат открытой дверью для самого доступного на свете приключения – чтобы переживать его, достаточно лишь перелистывать страницы хорошей книги.
Но есть еще и «в?третьих» – третья и самая личная причина. Я обнаружил эти книги совсем недавно и вновь обрел в них удовольствие, на которое уже давно перестал надеяться, – погрузиться в завораживающую стихию пока еще никем тебе не рассказанной истории. Я был счастлив с обоими романами о капитане Джеке Обри и желаю, чтобы это счастье длилось. А поскольку английский у меня, честно говоря, не ахти, а мне хочется, чтобы их прочло как можно больше народу, чтобы им сопутствовал настоящий читательский успех, пусть издательство озаботится переводом и выпуском в свет всего цикла. И чтобы я мог еще долго?долго встречать утро (лязгая зубами от рассветной свежести) на мостике «Софии», гоняясь за вражеским парусом, мелькнувшим под дождем на горизонте, а ветер пусть посвистывает в снастях, а комендоры готовят орудия к бою.
1996
Восемьсот раз в году
Расстояние сокращалось с каждой секундой. Отец, чувствуя, что легкие вот?вот лопнут от напряжения, сделал последнее усилие, чтобы заслонить от преследователей жену с дочкой, мчавшихся рядом. Сто метров… пятьдесят. Бегство было бесполезно, и он знал, что нет ни единого шанса ускользнуть. Он почти слышал, как рев мотора прорезают ликующие крики преследователей, подбадривающих друг друга в этой жестокой травле. Двадцать пять метров. В грохоте безжалостной погони он различал жалобные стоны дочери. Будь все проклято, подумал он и все же из последних сил попытался загородить ее своим телом. Но ничего уже сделать было нельзя, и, кроме того, он был измучен вконец.
Медленно, устало развернулся, готовый броситься на врагов, но в этот миг услышал гром и почувствовал первый удар гарпуна. Ослепленный яростью и болью, неистово рванулся, чтобы найти врага и отплатить ему, но никого не увидел – раздавались только новые раскаты грома, чувствовалось лишь, как снова и снова вонзается остроконечное железо в его плоть. Трос опутал плавники, и вода вокруг сделалась красной от крови, так что он ничего теперь не видел. В отчаянии он слышал повторяющиеся хлопки, но били уже не в него, и прежде чем погрузиться в ничто, он успел еще уловить отчаянный вопль жены. «Может быть, хотя бы дочь сумела уйти», – мелькнуло в его гаснущем сознании. Потом он умер и закачался в крови, а чуть подальше его дочь – трехметровый детеныш – плавала вокруг умирающей матери, толкая ее то плавником, то лбом и спрашивая, почему та не спасет ее от железной рыбины, которая, разрезая красную воду, приближалась с гибельной неумолимостью.
(Конец художественной прозы. Вышло, быть может, несколько мелодраматично, но ведь описано все так, как было на самом деле. Несмотря на то что промысел китов запрещен, японцы и норвежцы продолжают их истреблять, и на ежегодном собрании, состоявшемся в Шотландии недели две назад, дали понять, что на международные требования им, как и прежде, плевать в высочайшей степени. Только в этом году сцена, которую я описал выше, повторилась в водах Атлантики и Тихого океана восемьсот раз.)
А сам я впервые увидел китов в пятидесяти милях южнее мыса Горн. Я был на борту «Баия Буэн Сусесо» – аргентинского сухогруза, впоследствии потопленного британской авиацией во время войны за Мальвины?Фолкленды, – и тот день был полон странных встреч. Утром – с англичанином, который в одиночку на утлом суденышке обогнул мыс Горн, после того как целую неделю болтался в море, а потом у нас по курсу то появлялся, то исчезал маленький белый кит. Днем целый выводок минут пятнадцать держался с нами вровень по левому борту. Сначала я увидел, как серая с белыми подпалинами на хребте громадина с величавой медлительностью скользнула между двумя валами и скрылась из виду. Я остался стоять, разинув рот и вцепившись в планшир, спрашивая себя, вправду ли это было – или мне привиделось. И еще продолжал спрашивать, когда исполинская спина возникла снова, а рядом с ней – другая, и еще одна, а потом огромный хвостовой плавник – точно такой, как на гравюрах?иллюстрациях к «Моби Дику», – вынырнул и вновь исчез в вихре пены.
Я даже и не дернулся за фотоаппаратом – до такой степени страшно мне было хоть на миг выпустить из виду это завораживающее зрелище, так неразрывно связанное с моими любимыми книгами, с моими снами. И стоял в оцепенении до тех пор, пока стая китов – из благоразумия, разумеется, – не сменила курс. И уже очень скоро ее можно было разглядеть только в бинокль, а потом киты, не погружаясь в воду полностью, и вовсе скрылись из виду, медленно удаляясь по направлению к студеным антарктическим широтам.
Это было 18 февраля 1978 года, и я никогда не забуду этот день. Так что у меня, как видите, есть личные причины желать всем норвежским и японским китобоям наскочить на мины, оставшиеся со времен Второй мировой или Войны в Заливе, или на еще какие?нибудь, и отправиться к соответствующей матери. А будь у меня подводная лодка, я бы, уподобившись корветтенкапитану Прину при Скапа?Флоу[7], с восторгом шарахнул их торпедным залпом. Но субмарины нынче дороги. Да и потом, я все же полагаю, что закон, который на страдания невинных жертв обычно смотрит сквозь пальцы, стрельбу торпедами даже по таким подлецам не одобрит.
Красное пластмассовое ведерко
Слабый восточный ветерок пошевеливал флаги расцвечивания на пришвартованных у пирса кораблях и ленточки на глубоководных тралах рыбачьих баркасов. Это был южный порт, а они вдвоем – дед и внук – сидели у ржавого кнехта и слушали, как плещет вода у мола. Рядом сушились сети, валялся пла?вник, стояли, смотрели на море сошедшие на берег отставные моряки, и воздух здесь пах солью и древним густым морем, порты которого видели, как приходят и уходят многие корабли, как начинаются и кончаются многие жизни.
Мне нравятся старые, умудренные жизнью порты – потому, наверно, что в одном таком я появился на свет. Мне нравятся призраки, стоящие меж портальных кранов в тени навесов, нравятся шрамы, оставленные тросами на чугуне причальных тумб. Мне нравится наблюдать за этими людьми, которые проводят здесь целые часы в неподвижности, за людьми, для которых удочка – не более чем предлог, ибо нет ничего важнее в целом мире, чем смотреть на море. Мне нравятся деды, ведущие за руку внуков, и, покуда карапузы о чем?то спрашивают или приветственно машут чайкам, старики щурятся на суда у причалов, на линию горизонта за пределами порта – глядят так, словно ищут в памяти позабытый отзвук: воспоминание ли, объяснение ли чему?то случившемуся давным?давно, слишком давно.
Внуку, наверно, года четыре?пять, и он как завороженный не сводит глаз с красного поплавка на конце лески, привязанной к короткому удилищу. Рядом дед, заложив руки за спину, с отсутствующим видом созерцает море, время от времени переводя взгляд на мальчугана и мягко отодвигая его подальше от края. Мальчика зовут Хуанито. Хуанито, слышу я, не подходи так близко, вот сверзишься в воду, мать голову оторвет.
Я заглянул в красное пластмассовое ведерко, стоявшее у его ног: внутри на три пальца от дна плещется вода, а в ней зевает тощая рыбешка – сарг длиной сантиметров десять. Дед улыбнулся с тем выражением горделивого сообщничества, какое часто появляется на лицах дедов, когда при них смотрят на внуков. Смуглое морщинистое лицо покрыто полуседой щетиной, соломенная шляпа на голове. Мне показалось, он не столько доволен жизнью, сколько ею утомлен. Руки у него были корявые, жесткие, а глаза оживали, лишь когда обращались к мальчугану. Наши взгляды сошлись на нем, а сам он продолжал внимательно следить за поплавком.
– Подрастающее поколение, – сказал мне дед.
Я снова взглянул на представителя поколения. Он был очень коротко острижен, но на затылке торчал непокорный вихор. Резиновые шлепанцы, плавки, футболка с селезнем Даффи. Дед положил ладонь ему на макушку, но мальчуган досадливо дернул головой – ему мешали сосредоточиться на поплавке. Старик улыбнулся, пожал плечами, потом достал сигарету и неторопливо закурил.
– Вот вырастет, – заметил он, – всем даст дрозда.
И снова замер, застыл, забыл обо всем, уставив в море задумчивые глаза, вокруг которых, когда он щурился, появлялись лучики морщинок; а мягкий левантинец спустя полминуты донес до меня запах его черного табака. Я наконец отошел от них, а вскоре увидел издали, как они идут под уже очень низким солнцем, заливавшим порт красноватым светом почти горизонтальных лучей. Дед вел внука за руку и нес его удочку, а тот очень бережно держал красное ведерко.
Да будет так, сказал я себе. Дай бог, чтобы выросший Хуанито давал дрозда, а спуску, наоборот, не давал и был счастлив. Пусть жизнь улыбается ему и кладет ему руку на плечо и заполняет его красное пластмассовое ведерко чудесными рыбинами, пусть никогда не умрет селезень Даффи, пусть всегда будет рядом кто?нибудь, кто скажет: «Отойди немного, Хуанито, а то сверзишься в воду». И, быть может, в один прекрасный день (думал я, глядя, как удаляются дед и внук) он придет в этот самый порт, вспомнит запах черного табака и ведерко, где плескалась рыбка. И вместе с другими тенями, населяющими порт, пошлет ему улыбку и дед. И другие деды, приговаривая: «Вот сверзишься в воду, мать голову оторвет», поведут за руку других внуков с красными пластмассовыми ведерками, полными жизни и надежды.
Морское телебинго
Всем и каждому известно, что метеорология не точная наука, а более или менее обоснованное гадание о том, что может статься. Вот в выпуске новостей выпускают на экран известного златоуста Пако Монтесдеоку, и он заверяет граждан, что в эти выходные они с детишками и тещами могут спокойно отправляться на пляж, а поскольку на карте, перед которой он при этом красуется, нет ни облачка, ты ему веришь, а потом в Маталасканьяс начинается сущий потоп, а точнее говоря – небесный понос. Но что ж поделать – такова жизнь, такова погода, и ни Пако, ни телевидение не виноваты. Изобары, изотермы и холодные атмосферные фронты, мать их, тех фронтов, не скажу что, – ведут себя весьма прихотливо и живут своей жизнью.
Согласимся, что предсказание погоды – дело такое: неточное, относительное, допускающее колебания в широком диапазоне, ляпающее ошибки, которые следует воспринимать снисходительно. Вся загвоздка в том лишь, что вышеподписавшийся моментально теряет всю свою снисходительность, как только сталкивается с новейшим изобретением Национального института метеорологии – сведения о состоянии воды и воздуха в открытом море и в прибрежной полосе сообщают по телефону. У изобретателей хватило цинизма назвать это «Телетьемпо», хотя правильней было бы – «Телебинго» или задорным «Пальцем в небо».
Человек выходит в море по тем же соображениям, по каким кто?то играет в шахматы, а кто?то шляется по девкам, то есть собственного удовольствия ради. А уж когда ты в море, верный прогноз погоды означает как минимум разницу меж приятным времяпрепровождением и… не самым приятным, чтоб не сказать – отвратительным. А как максимум в чрезвычайных обстоятельствах – меж тем, чтобы остаться в живых, и тем, чтобы отдать концы. Однако не забудем, что в Испании в отличие от Франции или Англии яхтинг пребывает в забросе и небрежении. Выходишь утречком на своей посудине половить рыбку или просто поплыть куда глаза глядят, забираешься на пять, десять, пятнадцать миль в открытое море, и кроме 16?го радиоканала ни черту, ни дьяволу ты не нужен. Ибо даже у Национального радио Испании нет службы регулярного оповещения о том, что творится в море и чего от него ждать. И вот болтаешься ты там несколько часов или две недели один?одинешенек, если не считать дорогущей спутниковой факс?системы, и должен оценивать состояние погоды на глазок – устремляя этот последний то в небесные высоты, то на барометр, то в глубины собственной моряцкой интуиции. Единственная альтернатива – набрать номер «Телетьемпо». И вот тогда с полным основанием можешь сказать себе: «Ну, парень, ты попал».
Главная пакость даже не в том, что после соединения с этой службой короткие гудки «занято» или длинные «никто не подходит» стонут в течение ста десяти минут – я засекал время по часам! – что происходит чаще всего ночью. И не в том самое скверное, что тебе сообщают – сила ветра два балла, легкое волнение, а на самом деле – все шесть и качка такая, что не поспеваешь рыб кормить. Ужас наступает, когда приятный, хотя и консервированный женский голос, сообщив о тарифах и услугах, излагает (в записи, само собой) метеопрогноз, сделанный двенадцать или двадцать четыре часа назад: в выходные из?за нехватки сотрудников, разумеется, его записывают суток на двое вперед или около того. Это значит, что средство «годно до двадцати четырех часов третьего дня», но ты?то его принимаешь в пять утра дня четвертого, воюя при этом с левантинцем, дующим со скоростью тридцать узлов и при том – нисколько даже не попутным, а до берега – миля. Это я к примеру говорю.
Вот недавний случай: три недели назад вышеподписавшийся, идя от Агилас к мысу Палос и будучи предуведомлен добрым «Телетьемпо», что ветер северо?восточный, силой три балла, волнение слабое (прогноз действовал якобы до следующего дня), в 9 утра обнаружил, что волнение – сильное, что ветер – юго?восточный, до тридцати семи узлов, то есть силой до восьми баллов. Яхту бросало из стороны в сторону, никак не удавалось стать кормой к ветру, а ветерок меж тем все свежел и свежел. По счастью, до берега было еще пять миль, и ветер попутный, так что я успел юркнуть в Картахену, вместо того чтобы разбиться о скалы. И вот, подгоняемый ударами четырехметровых волн в корму, я и помчался сквозь шторм. Через два часа после того, как я ошвартовался (а скорость ветра в акватории порта достигала сорока двух узлов), влетел в гавань голландский кеч «Амазонка», только что едва не погибший в сильнейшем 9?балльном шторме. После того как я помог ему причалить – голландец плавал в одиночку и семь часов простоял у штурвала, сражаясь за свою шкуру, – я взял телефон и из чистого любопытства набрал 906365371. Было четыре часа дня. Тот же консервированный голос – за целый день так и не сменили запись – убедительно и настойчиво подтвердил, что ветер северо?восточный, волнение три балла. Я повесил трубку и некоторое время наблюдал, как огромные валы прыгают на волнорезе Сан?Пьедро, возносясь выше мачт пришвартованных там фрегатов. Теперь я, кажется, понимаю, что случилось с Непобедимой Армадой – наверняка Филипп Второй звонил в службу «Телетьемпо».
Галера Лепанто
Так вышло, что, оказавшись однажды в Барселоне, вышеподписавшийся дочитал (в очередной раз) до конца «Солдат всегда солдат» Форда Мэдокса Форда. Пав жертвой собственной непростительной непредусмотрительности, другими книгами я не запасся, и потому, измаявшись от скуки и пытаясь убежать от нее и неизбежной ее спутницы – меланхолии, я, как Измаил из «Моби Дика», который решил искать приют в море, двинулся вниз по Рамбле, дошел до Атарасанас и попал в Морской музей.
А вы?то знаете, что такое музей Атарасанас? История (кажется, я уже где?то писал об этом) – это тот единственный ключ, который позволяет постичь настоящее так, как это подобает свободному человеку, а когда вокруг все смутно и неясно, человек обретает силы, способность бороться, кураж и драйв там, где собраны старые камни и вечно неизменные пейзажи, – то есть в убежищах музеев и библиотеки. Они существуют не только для того, чтобы их фотографировали восемьсот тыщ японцев и чтобы плодились бессчетные стада туристов, – нет, это память отцов и дедов и всех тех поколений, которые и формируют нашу память. Иными словами, входя в музей, будь то музей испанский, французский, английский или австрийский, я не в гости прихожу, а к себе домой. Я ищу там собственные свои следы в предметах, которые сумели спастись от кораблекрушения под названием «время». Я – европеец и средиземноморец родом (многообразным и богатым), и потому ни одно из деяний и изделий, нашедших приют в этих чинных залах, не чуждо мне. И, стало быть, ни у кого нет права требовать, чтобы я считал себя посторонним во всяком музее и уж подавно – в морском, ибо нет отчизны великодушнее и радушнее, чем море, как ничто иное сближающее и объединяющее людей.
Тем не менее администрация Атарасанас сделала все возможное, чтобы создать музей дремуче?провинциальный, положив в основу отбора – или отброса? – экспонатов принцип, по которому их богатейшее собрание, способное дать представление о пространстве нашей общей истории со всем, что было в ней хорошего и плохого, – расчетливо и умышленно организовано, а вернее – приспособлено для достижения одной цели: убедить посетителя в том, что существует отдельная морская каталонская история. Вопрос о праве на это самое существование не подлежал бы обсуждению, будь он, с одной стороны, вписан, как ему пристало и подобает, в историю королевства Арагон и его средиземноморской экспансии, а с другой – в несравненно более обширную морскую историю всей Испании, богатую такими славными деяниями, как кругосветные плавания, грызня с Англией, открытие Америки, торговля с Индиями, Трафальгар, борьба с турками и битва при Лепанто.
Однако же нет. Власти, от которых зависит музей, по богатству фондов не имеющий, вероятно, себе равных в Европе, на самом деле заботятся лишь, чтобы пояснительные подписи под витринами были исключительно по?каталонски. Чтобы подчеркивалось каталонское происхождение наемных солдат, доблестно служивших в Византии. Чтобы три четверти пространства занимала свинцово?тягомотная экспозиция старинных фотографий и конторских книг, посвященная таким увлекательным темам, как экспорт сукон и пряж из Таррасы в дельту реки По, или путешествие, предпринятое Жорди Бофаруллем, купцом из Бахо?Льобрегата, в Тунис для закупки тонны фиников, или тому, сколько сардины вылавливалось в месяц каталонскими шхунами, построенными, кстати, на верфях Майорки или Валенсии. И эта захватывающая история преподносится как «апофеоз каталонской коммерции в Средиземноморье», или «высший взлет морской каталонской торговли», или еще как в том же роде. И в морском музее, находящемся в стране, где жили и действовали Хуан Себастьян Элькано, Чуррука, Масарредо[8], Хорхе Хуан, Хуан Австрийский[9], Блас де Лесо, Барсело и многие другие, единственным человеком, чьи личные вещи удостоились экспозиции, оказался генерал Прим[10]. Он, правда, не был моряком, зато происходил из Реуса. И все же самое нестерпимое – это предмет особой гордости музея, королевская галера, на которой при Лепанто держал свой флаг дон Хуан Австрийский, – вырванная из контекста, насильственно отторгнутая от любых и всяких исторических коннотаций, способных так сильно обогатить ее внушительное присутствие и вызвать столько воспоминаний. Среди прочих – и о бедном и безвестном солдате по имени Мигель де Сервантес Сааведра, который на галере этой служил, и сражался, и потерял руку при обстоятельствах, слава которых не померкнет в веках.
А знаете, что я вам еще скажу? Если бы это зависело от вышеподписавшегося, он бы с удовольствием обменял оспариваемые саламанкские архивы на эту старую, милую моему сердцу королевскую галеру – обменял и перевез бы ее в другое место. Куда?нибудь туда, где не осквернят мои воспоминания ни об этом корабле, ни о море, которое мы с ним бороздили.
Воительница радуги
Одна моя знакомая девочка – пожалуй, даже барышня: ей уже двенадцать лет – принимает очень близко к сердцу проблемы экологии. Девочка эта, черноволосая и длинноногая, много времени проводит на свежем воздухе, занимается спортом и во всех смыслах слова весьма и весьма многообещающая. Запоем читает, смотрит хорошие фильмы в кино и по телевизору и постепенно усвоила себе убеждение, что наша планета никогда больше не будет голубой, а наоборот – на всех парах летит к своему бесславному и мучительному концу. И эти соображения заставили нашу барышню вступить на тропу войны: теперь она твердит, что взрослые творят с природой то же, что в романах Диккенса отрицательные опекуны – с наследством бедного сиротки. Так что каждый раз при виде наших взрослых бесчинств праведный гнев вспыхивает в красивых темных глазах моей юной приятельницы, и она поднимает крик до небес.
Умна, мила, миролюбива. Довольно застенчива. Но я не раз видел, как с бешеной решимостью, с отчаянной отвагой камикадзе бросается она на того, кто в ее присутствии обидит животное. И нет такой уличной собачонки, шелудивой кошки, сороки?воровки, увечной ящерицы или любой другой божьей бессловесной твари, о которой бы она не подумала, которой не помогла бы делом или хотя бы добрым словом. Ей было всего четыре года, когда она, оказавшись перед громадным мастифом, на всех наводящим страх, приблизилась к нему вплотную и с полнейшей естественностью сунула ему в пасть руку по самый локоть, осыпая при этом поцелуями, а бедная зверюга в смущении замерла с необыкновенно глупым видом, не зная, что делать, но чувствуя, что репутация кровожадного и плотоядного страшилища пошла прахом. И только раз в жизни (в прошлом году) она взглянула на экран телевизора, где шла трансляция корриды с площади Кито, – дед объяснил ей, что после изнурительной схватки с тореро Энрике Понсе[11] бык будет помилован. Что касается изделий из меха и кожи, ее ненависть к носителям шуб и прочего подобного добра выводит ее на грань смертоубийства. За белька, детеныша тюленя, она не задумываясь отдаст жизнь. О китах уж я и не говорю. Она много читает (от Стивенсона до Джека Лондона со всеми остановками в Сальгари, Дюма, Марриете или Баллантайне[12]), но ее родители и представить себе не могли, что в конце прошлого года ей под силу будет одолеть полную версию «Моби Дика» и мало того – высказываться резко и нелицеприятно против капитана Ахава и всей его команды (узнав о кораблекрушении и коллективной гибели китобоев, она глазом не моргнула, слезинки не уронила), однозначно держа сторону белого своевольного морского млекопитающего. Он не убивает, твердила она, он защищается. Ты совсем ничего не понимаешь, папочка.
Я мог бы рассказывать еще и еще, но, наверно, хватит. Резюмируя, добавлю лишь, что каждое засохшее дерево она рассматривает как проигранное сражение; что замусоренные пляжи приводят ее в ярость; что почтовой бумаге и конвертам она дарует вторую жизнь с помощью некой хитроумной придумки, изобретенной сеньоритой Пепис[13], и они сохнут у нас по всему дому; что отказывается носить одежду знаменитых брендов и что одноклассники – она сейчас в седьмом – влюблены в нее по уши, потому что она одновременно сурова и нежна и не любит экивоков и околичностей.
И она сражается в одиночку, начав несколько рановато, пожалуй, и на свой собственный лад, в мире, где солидарность – в большом дефиците и потому особенно нужна. Недавно родители предложили ей установить связь с какой?нибудь экологической организацией вроде ее обожаемого «Гринписа» – ну, чтобы узнала побольше, горизонты раздвинула пошире, пообщалась с людьми, идущими тем же путем, но более опытными. Предложение приняли с восторгом: было сочинено длинное, стилистически безупречное, красивое письмо, где автор, пребывая в плену иллюзий, вызывалась делать что угодно, просила совета и спрашивала, чем может быть полезна. Месяц она каждое утро ходила к почтовому ящику. И вот наконец пришел ответ: в конверте оказались два печатных бланка – банковское поручение на сумму от 5000 до 10 000 песет в виде ежегодного взноса и призыв найти среди своих друзей новых участников. И более ничего. Ни объяснений, ни словечка ободрения, ни строчки поддержки.
Предоставляю каждому самостоятельно судить о морально?экономических аспектах этой истории и о том, как и почему искреннее движение экологического сопротивления может выродиться в холодный бюрократический механизм по добыванию бабла, глухой к чувствам 12?летней восторженной союзницы. Говорят, отец этой барышни написал коротенькое письмецо в «Гринпис», предлагая ответственным лицам вариант использования этого самого подписного бюллетеня – сначала, разумеется, свернув его в трубочку соответствующих размеров. Что касается малолетней воительницы, она, по моим сведениям, продолжает борьбу в одиночку. Она не сдается, но накрепко усвоила один урок: одиночество лучше дурной компании.
Корсарский патент
Вот он лежит передо мной, напечатанный на хрустящей, добротной и плотной бумаге, превосходно сохранившийся, несмотря на то что пронеслось двести лет. Я только что развернул его, сложенный в девять раз, расправил на столе и все еще смотрю на него, не веря своим глазам. В верхней части – гриф?виньетка с изображением Геркулесовых столпов, девизом Non plus Ultra и королевским гербом, а в левом верхнем углу горделиво красуется название «Королевский Паспорт Корсара для действий в морях обеих Индий». Текст более всего похож на мою неосуществимую мечту: «Сим даруется подателю сего право вступать в боевые действия с применением пушек, камнеметов и прочего оружия с надлежащим припасом, дабы он мог противостоять врагам моей Короны и с этой целью совершал корсарские рейды по морям обеих Индий, сражаясь под испанским флагом против кораблей и судов тех государей, которые находятся со мной в состоянии войны…» Скреплено королевской печатью, дано в Мадриде января Пятого дня в лето от Рождества Христова 1820?е. Внизу листа уже немного выцветшими чернилами выведены две подписи. Одна – Хосе Марии Алоса (если верить энциклопедии, бывшего в ту пору военным и морским министром). Вторая состоит из двух слов: «Я, король» и короткого росчерка. Это подпись Фердинанда VII.
Бумагу подарил мне друг. Его зовут Хулио Ольеро, он пышноус и грузноват, нравом брюзглив и мрачен, а по роду занятий – независимый издатель, выпускающий благодаря своей страсти и неусыпному попечению лучшие книги этой страны. И еще он один из тех, кто редкие и краткие минуты досуга, предоставляемого издательскими докуками, двумя сотнями сигарет и двумя тысячами чашек кофе, которые ежедневно проливаются в пространство между грудью и животом, посвящает ползанию по пыльным полкам букинистических магазинов, по антикварным лавкам и книжным развалам, куда прибой неустанно выносит обломки стольких житейских кораблекрушений. И вот однажды он вернулся из такого похода – как всегда, перепачканный пылью, но ликующий, – потрясая корсарским патентом, который обнаружил под тоннами разнообразных бумаг. А поскольку он не только мой друг и осведомлен о моих идиллических отношениях со всем, что касается моря, но еще и обладает душой широтой со шляпу пикадора, он вот так вот взял и с ходу подарил мне эту реликвию.
– Ты заметил, что для имени получателя и названия корабля оставлены пробелы? – спросил он.
Разумеется, заметил. Я, король, и министр подтверждают и гарантируют, однако этот пробел как нельзя лучше годится, чтобы вписать в него имя того, кто заплатит побольше. Аукцион, его мать. Тендер. Воображение отказывает мне, когда я думаю, сколько золота перепорхнуло в чьи?то загребущие руки, включая и августейшие длани этого зерцала государей, этого ходячего и воплощенного бесстыдства по имени Фердинанд VII, который, шельма, выдавал патенты и прочие бенефиции на предъявителя, так сказать, имея в виду, что его министры, секретари и прочая придворная шелупонь продаст их третьим лицам. Нет, вы только представьте – представьте себе такой диалог: у меня, дона Имярек, есть племянник, забубенная головушка, лихой моряк, которому было бы совсем нелишне побезобразничать у Антильских островов. Вам и мне – по двадцать процентов, его величеству – пять. Восемь. Ладно, шесть. По рукам. Вот, кстати, у меня случайно как раз завалялся свеженький патент. Так что желаю вашему племяннику ветра в корму и добычи в трюм.
Я в восторге. А сейчас, когда выстукиваю эти строки, соседский мальчишка?придурок врубил на полную громкость свой поганый двухкассетник, оглушая пол?Мадрида. И я, обдумывая, не купить ли мне в «Корте Инглес»[14] охотничий карабин с патронами да не превратить ли дом соседа в филиал Пуэрто?Уррако[15], нет?нет да и брошу взгляд на большой лист бумаги, разостланный на столе, на документ, не имеющий срока давности, и, проводя кончиками пальцев по шероховатой пожелтевшей поверхности, кажется, слышу, как шумит ветер в натянутых парусах, как перед рассветом кок по трапу несет чашку кофе в мокрую, кренящуюся от качки рубку, когда ты стремишься зайти с наветренной стороны к тому, за кем так долго гнался. И думаю, как славно было бы послать подальше соседа, и издателей, и земную твердь, вписать собственное имя и имя моего корабля в этот искусительный пробел, оснастить двенадцатиметровую палубу всем необходимым для каперства да позвонить трем?четырем старым друзьям – сплошь в татуировках и шрамах. А потом выбрать безлунную ночку, выскользнуть в открытое море на всех парусах, и пусть засвищет в снастях зюйд?вест. Благо все бумаги в порядке и подпись короля на месте.
1997
Маяк Нао
Когда с кормы, с юго?запада возникает свет маяка, задувает левантинец со скоростью узлов 8–10, и парусник с креном на левый борт скользит во тьме, и в полнейшем безмолвии слышно только, как журчит, стекая с обшивки, вода. Свет – там, где ему и положено быть, там, где ты рассчитал вчера, когда прокладывал курс, прикидывал снос и галсы. И вот с биноклем в одной руке, с хронометром в другой ты стоишь, считаешь проблесковые огни и мысленно улыбаешься. Это маяк на мысе Нао. Потом спускаешься в каюту и на морской карте уточняешь место, прокладываешь новый курс. А когда снова выходишь на палубу, маяк – все там же, и его присутствие во тьме указывает – земля, осторожно, держись подальше, берегись. Доброго пути и удачи во всем, приятель.
Ты столько глядел на карту, готовясь к прибытию или к дрейфу, что в голове у тебя прочно засели рельеф берега, мели, оттенки синевы, обозначающие глубины, градусы долготы и широты. И ты, облокотясь о влажный планшир, стоишь в ожидании рассвета, думаешь о тех людях, которые столетиями плавали, наблюдали, примечали, отмечали все это на карте. Люди моря и морской науки, они медленно, тщательно фиксировали каждый подвох – не фигуральные, а всамделишные подводные камни, – отмечали каждую опасность буйком, каждый маршрут – маяком. Века интуитивных прозрений и тяжких трудов. И вот постепенно, мало?помалу, пройдя моря и земли, человек превратил враждебную природу в место, пригодное для житья, удобное и безопасное. Уничтожил препятствия, выстроил маяки, порты, прорыл каналы, проложил дороги. Осветил тьму огнями, вдохнул жизнь, выиграл битву, хоть и был лишен когтей и клыков, чешуи и меха.
Ты думаешь обо всем этом, пока по правому борту медленно проплывает маяк, думаешь и мысленно благодаришь тех, которые сделали так, что ты смотришь на огонь маяка и – жив, а не разбился в щепки о рифы. И еще не расставшись с этой мыслью, перескакиваешь на другую: вспоминаешь, как долго вчера твой форштевень резал нефтяное пятно – зловеще?податливое, густое пятно шириной примерно в милю – это какой?то бесцеремонный капитан счел уместным промыть танки или опорожнить льяло прямо в открытом море. Или вспоминаешь, как пять дней назад видел рыбацкое суденышко, которое почти что волокло по дну свои авоськи, захватывая в них все живое, вплоть до прилепившихся к камням ракушек. Или, заметив другие огни, потом постепенно определяешь по ним исполинские многопалубные монстры, извергающие тонны нечистот на пляжи и в море. Пейзажи и экология погублены навсегда.
Да будь мы все прокляты, говоришь себе. Человек веками боролся за выживание, и вот теперь он победил и сумел навязать миру свои правила. И стал сильнее всех. Если раньше на то, чтобы обтесать камни или проложить дороги, уходили десятилетия, теперь он динамитом стирает с лица земли все, что считает ненужным, могучими машинами перетряхивает ее самое и заменяет бесплодным бетоном. Все стало просто, слишком просто – дурацкие горы бетона, искусственные берега, автострады, непомерной величины мегаполисы, бесплодные, запущенные пустоши. Теперь мы прокладываем не дороги, а автомагистрали, чтобы прибыть к месту назначения как можно скорей, и выкорчевываем деревья, чтобы торопящиеся недоумки не обломали о них рога. Человеку мало победить Природу, ему еще надо ее унизить. Он разрушает ее, он ее приспосабливает к своим нелепым притязаниям.
Ты думаешь обо всем этом, дрейфуя в десяти милях северо?западнее мыса Нао. Но вот внезапно морская гладь словно вскипает, и, вспарывая поверхность воды, проносится перед носом твоей яхты стая дельфинов – детеныши движутся синхронно со взрослыми, – и на спинах у них играют отблески маячного огня и лунного света. И ты кричишь им: «Желаю удачи!» – и думаешь, что еще не все потеряно и что даже глупости, слепоте и злобе не под силу уничтожить прекрасное. А потом начинает разливаться заря, и ты оказываешься меж двумя светами, не дальше кабельтова от тебя проходит с потушенными огнями другая яхта – на границе моря и неба смутно видится ее силуэт. Поравнявшись с тобой, она трижды моргает фонарем. Ты отвечаешь такими же тремя вспышками, и силуэт встречного удаляется во тьму по направлению к светлой линии, которая все отчетливее вырисовывается на горизонте. Там, где, целые и невредимые, еще резвятся на воле дельфины, там, где люди мечтают о свободе.
Мичман Хорнблауэр
Поздравляю всех, кто любит истории про море, про тридцать узлов, свистящих в снастях, про абордажи и пушечные залпы всем бортом, поздравляю их и себя – нам повезло несказанно! Наконец?то в Испании начали публиковать полное собрание сочине… виноват! приключений капитана британского флота Хорнблауэра. Эту легендарную серию начал в 1937 году Сесил Скотт Форестер, который за два года до этого уже успел завоевать всемирную известность своей «Африканской королевой». Главный герой этих морских романов – Горацио Хорнблауэр, современник Нельсона, воплощенный на киноэкране Грегори Пеком в фильме «Капитан Горацио». И едва ли что может лучше доказать поистине мировую славу этих десяти томов рассказов и романов, нежели слова некоего адмирала времен Второй мировой, сказанные на совещании в Генеральном штабе накануне морского сражения: «Джентльмены, подумаем, что сделал бы на нашем месте Хорнблауэр».
Созданные в крепких традициях исторического английского романа, произведения С. С. Форестера представляют собой более чем весомый вклад в маринистику, продолжая направление Марриета, Стивенсона, Мелвилла и Конрада и достойнейшим образом предшествуя циклу романов о британском флоте, которые с 1970 года создавал Патрик О’Брайан. Без сомнения, книги о приключениях Джека Обри и доктора Мэтьюрина и ярче, и реалистичнее, и лучше написаны. Но мы, читатели, подсевшие на О’Брайана, члены этого дружного и неисчислимого экипажа, бороздившие моря на борту «Софии», «Поликреста» или приснопамятного «Сюрприза», тонувшие вместе с «Леопардом», ходившие на абордаж с Бонденом, Пуллингсом и другими товарищами, дравшиеся на скользкой от крови палубе «Торгуда», – мы, без сомнения, выразим свою живейшую благодарность и за перевод романов Форестера. Для нас, по праву считающих себя испытанными друзьями капитана Обри, встреча с Горацио Хорнблауэром и его товарищами по боям и походам, пусть он много жестче и менее симпатичнее Счастливчика Джека, сулит, вне всяких сомнений, ни с чем не сравнимое удовольствие – окунуться в благодатную атмосферу семьи.
И – две маленьких ложечки дегтя… Во?первых, посредственная полиграфия, которой издательство «Эдаса» портит всю серию или, по крайней мере, ее первый том, «Мичмана Хорнблауэра», следуя (и совершенно правильно делая) внутренней хронологии рассказов. Не в пример приключениям Обри и Мэтьюрина, цикл открывается книгой малого формата, без предуведомления о том, с чем, собственно, встретится читатель, даже без вступительных слов об авторе или о его сочинении. Это совершенно непростительно, особенно если вспомнить, что даже французский двухтомник в бумажной обложке, вышедший в «Омнибусе» в 1995 году, был снабжен предисловием, приложением и иллюстрациями – весьма полезными, а порою и попросту необходимыми.
Вторая моя придирка относится к самой книге, к ее, так сказать, духу. Как часто бывает с английскими историческими романами, испанский читатель сильно удивится, что французы, столкнувшиеся с дисциплиной, выучкой, высоким моральным духом и доблестью англичан, выглядят хоть и не трусами, но туповатыми неумехами, а уж испанские моряки и вовсе малодушны, жестоки, склонны к разброду и шатаниям, ленивы и нечистоплотны. Подобный взгляд на вещи свойствен не одному старине Форестеру – это взгляд характерный, присущий англичанам от начала времен, очень такой типично английский взгляд: достаточно вспомнить приключения веллингтоновского суперсолдата Ричарда Шарпа, созданного Бернардом Корнуэллом, который рассказывает нам, что на Пиренеях войну с Наполеоном выиграли англичане, а чумазые испанцы только путались под ногами – удирали, завидев противника, нежились в сиестах или околачивали, не скажу чем, груши.
Впрочем, все это не очень важно и никак не портит удовольствия от чтения. Даже при таком своеобразном ракурсе романы о славном Хорнблауэре в полной мере заслуживают внимания и прочтения. Просто когда дочитаете до какой?нибудь гнусности насчет вырождающихся иберийских рас, вспомните, как королева Елизавета без устали до… капывается, так скажем, до своей невестки Дианы, вспомните Принца У… э?э?э… шастого, видящего свое житейское предназначение в том, чтобы служить тампаксом Камилле, или нынешнее положение британской империи, или коровье бешенство и всю прочую, мягко говоря, фигню. Вспомните – и, рассмеявшись, спокойно переверните страницу и читайте дальше. Как ни в чем не бывало.
Венецианские пары
Я как?то раньше не замечал, сколько же гомосексуальных пар прогуливается по Венеции. Встречаешь их на мостах, на набережных, в маленьких ресторанчиках. Нет, они вовсе не бросаются в глаза, не выставляют напоказ свои чувства – как раз наоборот: ведут себя скромно, пристойно, прилично, как хорошо воспитанные люди. Когда глядишь на других, очень многое понимаешь, а в данном случае мне ужасно нравится угадывать по лицам, выражающим доверие или сдержанную нежность, которая порой словно плещется вокруг них, сквозит в их неподвижности, в их молчании, – угадывать, говорю, у кого какая роль в этом союзе. Однажды я плыл на катерке?vaporetto, курсирующем между Сан?Марко и Лидо. Над лагуной задувал ледяной ветер, мы, пассажиры, ежились и хохлились от холода, а на скамье спокойно сидела пара – он и он, двое мужчин лет под сорок. Сидели тесно друг к другу, прижавшись плечом к плечу, но не демонстрируя близость, а в поисках тепла. Сидели тихо и молча, глядели на сине?зеленую воду и на пепельное небо. В какой?то момент, когда катерок качнуло, отчего свет и тускло?серая гамма пейзажа внезапно совпали, явив неправдоподобную красоту, я увидел, как эти двое улыбнулись друг другу – быстрой, мимолетной улыбкой, подобной поцелую или ласковому прикосновению.
Мне показалось, что они счастливы. «Похоже, повезло им», – подумал я. Потому что, увидев их в этот студеный день, на борту катерка, мчавшего по лагуне в самый космополитичный и толерантный город на свете, я невольно подумал, за сколько же горьких часов отплатила в этот миг их улыбка. И вообразил, как в нескончаемо тянувшемся отрочестве они искали место для потаенных ласк, блуждая в парках или сидя в кино, пока их сверстники влюблялись, сочиняли стихи, отплясывали в обнимку на университетских вечеринках. Представил себе и гуляние ночами напролет по улицам в надежде повстречать голубого принца того же возраста – и возвращение домой на рассвете в дерьме, в омерзении одиночества. И невозможность сказать человеку, что у него красивые глаза или удивительный голос, потому что в ответ получишь не «спасибо», не улыбку, а в морду. А когда захочется выйти, познакомиться, поговорить, влюбиться и всякое такое прочее, пойдешь не в кафе и не в бар – ты пожизненно приговорен встречать рассвет в местных притонах, среди визгливо?скандальных трансвеститов. А нет – сам обречешь себя на убогие варианты сауны, пип?шоу, журнальчика знакомств, мерзости общественного туалета.
Иногда я думаю, каким везучим или внутренне прочным и цельным должен быть гомосексуал, чтобы достичь сорока и не возненавидеть до мути в глазах это лицемерное общество, рехнувшееся на своем праве судить, рядить, определять, кому с кем ложиться или не ложиться в постель. Завидую душевному равновесию и хладнокровию того, кто умудряется сохранять спокойствие и, не злобясь и не ярясь, живет своей жизнью, а не выскакивает на улицу с намерением оторвать яйца людям, которые активно или пассивно поганили и обгаживали его жизнь, а теперь продолжают делать то же самое с мальчишками четырнадцати?пятнадцати лет, и в наше время ежедневно и полной мерой огребающими то, что некогда огребал он, – ту же тоску, те же пошлые шуточки по телевизору, то же разлитое вокруг презрение, то же одиночество и ту же горечь. Завидую кристальной ясности мыслей и чувств тех, кто вопреки всему остается верен себе, кто не верещит от возмущения, но и не страдает от комплексов. Кто остается прежде всего человеком. Уважаю тех, кто в наше время, когда весь мир – партии, общины и сообщества – бьется за право взыскать исторические долги (у каждой социальной группы они свои), могут внятно и с куда большим правом, нежели все прочие, сформулировать свои претензии и взыскать по счету за столько погубленных отроческих лет, за столько пинков, издевательств и оскорблений, за насмешки и глумление, за обиды и заушательство, полученные безвинно и от людишек, не в интеллектуальном, а в чисто человеческом отношении стоящих много ниже, что никак не оправдывает их низость. Я думал обо всем этом, покуда наш катерок пересекал лагуну: пара сидела неподвижно, близко, плечо в плечо. И прежде чем позабыть о них и вернуться к собственным заботам, я спросил себя – сколько измученных призраков, сколько несчастных неприкаянных душ отдали бы все на свете, включая и жизнь, чтобы оказаться в этот миг на их месте. Чтобы сидеть сейчас на венецианском vaporetto, согреваясь в этот студеный день своей жизни теплом друг друга.
1998
Застиранные жизни
Вознамерившись купить себе новую пару джинсов, чтоб были просторные и крепкие, ты спрашиваешь продавца, к какой же, в сущности, матери запропастились штаны фабрично стиранные, однако сохраняющие свой первозданный темно?синий цвет, – ибо окрест тебя только штаны обесцвеченные до светлой голубизны, штаны линялые, блеклые и скучные, штаны такие, что раза два наденешь, раз пропустишь их через стиральную машину да раз поваляешься в них на палубе – и выбрасывай. А продавец говорит тебе, что, мол, нету таких в наличии. А ты ему – как же так, куда же, к дьяволу, они девались, не понимаю, как же нету, если всегда были и в наличии, и вообще: всегда имелись техасы, или джинсы, или доки, как именуют их отдельные пижоны. Вот такие, как на витрине, но только темно?синие, как им на роду написано в соответствии с их именем – blue jeans. Блю, понимаешь ты? Блюджинс.
Но продавец, как говорится, только киснет со смеху. Да, дядя, это ты не понимаешь, вот именно, что не понимаешь. А потому не понимаешь, что покупаешь из года в год одно и то же, как ты есть заскорузлый ретроград, старый пень, дедуля и рухлядь. В моде сейчас джинсы выцветшие, то есть застиранные до белизны, а штаны той марки и модели, к которым ты привык с незапамятных времен, больше не выпускаются: сам посуди – если они будут темно?синие и как бы нестираные, их никто брать не будет, все очень умные стали и следят за модой.
– Да ты гонишь, Пако!
– Ей?богу.
И тогда я, который лишь полагает о себе, что смотрит, но на самом деле видит только то, что ему интересно, а прочего не замечает, поводит вокруг себя очами и убеждается: да! брат мой (двоюродный) во прилавке не соврал, и граждане обоего пола если носят джинсы, то именно такие, застиранные и голубенькие, а настоящих, синих, я бы даже сказал, кубовых или цвета индиго – нигде не видно. И тогда ты в возмущении говоришь продавцу, что это неправильно – джинсы comme il faut должны от природы быть темными и не за?, а просто выстиранными на фабрике: их удел – стариться постепенно вместе со своим владельцем.
– Эта романтическая концепция одежды, – отвечает мне не лыком шитый продавец, – в настоящее время не востребована.
Через плечо тебе востребованность или в лоб ее тебе – как хочешь. Может, о чем другом я понятия не имею ни малейшего, но о джинсах, коллега, могу написать научный труд «Джинсы и мать их так». Я, милый, в джинсах жизнь проходил от сих до сих. Я джинсы протаскал по земле и по асфальту, по стеклу и обломкам во всех странах, где водятся разные мрази с чем?нибудь огнестрельным. Я их, джинсы то есть, стирал под краном в отелях полумира. Я на коленках и на заду проползал по палубе, я в них мок и чувствовал, как они, высыхая, стягивают мне поясницу и ноги, как дубеют от морской соли и трут в паху. Самые старые из имеющейся у меня полудюжины – ветераны позаслуженней Воина в маске[16], штопаны?латаны?заплатаны в ста местах, стали белесыми от войн, от средиземноморского солнца, от моря и от селитры, а сквозь дырки в карманах выпал бы, если бы не цепочка с карабином, мой морской нож. Именно эту заношенную, залощенную пару я надеваю всякий раз по прибытии в порт, сходя на берег поужинать. И хотя я грязен как свинья и небрит, но волосы свои зачесываю наверх и разделяю почти прямым пробором, надеваю голубую рубашку?поло, тоже стирок видевшую не меньше, чем отельная простыня, белые кроссовки, а поверх всего – бушлат с двумя рядами золотых пуговиц, чудный бушлат, который ношу исключительно в память Лорда Джима[17] и чтобы позлить моих свойственников – настоящих торговых моряков, всамделишных капитанов.
Короче. Мои джинсы – это мои джинсы, потому что я лично снашивал их милю за милей. Не желаю, чтобы гады?производители мешали мне и впредь это делать. Мы живем в такие времена, когда всё на свете – в точности как эти блеклые и бесцветные штаны, – все, и даже память превращается в нечто искусственно состаренное, фальшивое, придуманное дизайнером, превращенное в продукт и соответственным образом упакованное. И живем мы среди фальшивой патины, поддельной бронзы, искусственного меха – и ненатуральных джинсов. Живем как в коконе и так привыкли к удобству, что в готовом виде желали бы приобрести и самое жизнь, прожитую за нас кем?то другим, поданную нам с экрана телевизора или с витрины. Но джинсы, истертые войной и морем, должны быть неприкосновенны. Нужна жизнь, чтобы прожить их и сносить их, и в этом?то вся штука и вся прелесть. Жизнь, видите ли, прежде чем даровать ее нам, никогда не стирают на фабрике.
Учитель грамматики
Кровь ручьями текла по шпигатам. Нас долго гвоздили из пушек, и теперь мои люди, ринувшиеся наконец на абордаж, едва ли были расположены к милосердию или жалости. Не напрасно годами видели они, как горят корабли за Орионом и садится солнце у врат Тангейзера[18]. Фрегат с размочаленными снастями, называвшийся «Месть королевы Анны», покачивался сейчас на небольшой зыби, примерно в миле юго?юго?западнее мыса Палоса, угадывающегося в тумане. Должно быть, на корабле были пассажиры – проститутки или жены британских чиновников: не все ли равно в данном случае? – потому что когда мои люди взялись за работу, со шкафута стали доноситься женские крики.
Я занимался своими делами. Из капитанской каюты вынес два свертка золотых монет, секстант Плата и судовой журнал. Потом заглянул в трюм, желая знать, что же мой корсарский приз вез в Картахену. Груз был неплох, но внимание мое привлекла пухлая связка бумаг, которую я нашел у основания бизань?мачты: это была странная рукопись, состоявшая из очень разнообразных и весьма любопытных текстов – высоколобых, грубых, иконоборческих, занимательных и умных, – принадлежащих неизвестно чьему перу и выпущенных в свет (если верить написанному на обложке) в лето Господне 1997?е, за 927 дней до наступления второго тысячелетия. Немного потекшими от морской воды чернилами на титуле было выведено и название – «Зеркала одной библиотеки» (издательство KR)[19].
Я унес рукопись – мои люди наверняка пустили бы ее на подтирку – и, прочтя ее от корки до корки, ушел на шканцы, к наветренному борту, где никто не помешал бы мне, и стал на вахту: поглядывая время от времени на паруса, принялся размышлять о необыкновенной мудрости и глубокой здравости суждений, содержавшихся в только что прочтенных мною страницах. Потом, еще не стерев сообщнической улыбки, передал рукопись Хосе Пероне, которого мои люди называют «профессором», поскольку он имеет обыкновение именовать себя Учителем Грамматики. Рассказывают, что некогда он в самом деле был доктором чего?то там и преподавал в одном из университетов нашего пресветлого величества, однако житейский отлив уволок его однажды в море, а взойдя на борт, Перона хоть и стал жить по правилам раздела добычи, которыми руководствуется капер, но от денег неизменно отказывался, довольствуясь после абордажа лишь одним из каждых трех изнасилований англичанок и пинтой рома. Профессор или, как он предпочитает, чтобы его называли, Учитель Грамматики – человек довольно своеобразный, малообщительный, в спокойные ночи напивается в одиночку джином «Болс» или читает книги – неимоверное количество книг, – устроившись на носу среди бухт канатов, а когда мы поднимаем боевой флаг и даем первый выстрел из пушки, произносит по?гречески или на латыни нечто странное вроде «Пусть смердят тем, чем окажутся» или что?то в том же духе. Он был гарпунером на «Пекоде», любит Францию, терпеть не может надменный Альбион, презирает пентюхов, которым по недостатку воспитания не дано постичь всей возвышенности самоубийства, способен посреди грома пальбы и треска обшивки философствовать или рассказывать нам о своем знакомом – некоем Небрихе[20], с которым были у него какие?то дела.
Ну, в общем, я отдал манускрипт доктору, или учителю грамматики Хосе Пероне, – пусть делает с ним что хочет. И в этот миг во взгляде его, посланном мне поверх очков, мелькнуло что?то вроде едва уловимой улыбки, одновременно и дружелюбной, и насмешливой – отчего я крепко задумался. И мне – опять же на миг – показалось, как ни абсурдно это звучит, что рукопись не была ему совсем незнакома: более того, выражение лица у него было такое, какое бывает, когда что?то восстанавливаешь или возвращаешь себе. Тут впередсмотрящий крикнул: «Слева по борту – парус!» – и мне пришлось заняться другими делами – приказать прибавить парусов и начать преследование, которое при таких обстоятельствах обещало быть долгим. Потом были другие бои, другие моря, другие трофеи, другие попойки и латинские изречения между пинтами рома. Но всякий раз, как я вспоминаю тот английский фрегат и найденный в трюме манускрипт, мне видится неопределенная и мудрая усмешка доктора и его взгляд из?под очков, где на одном из стекол остался отпечаток пальца, выпачканного английской кровью. И я спрашиваю себя – а уж не он ли в суматохе боя сунул рукопись в трюм? Чтобы я нашел ее там.
На запад
Миллион сто тысяч чертей. Не знаю, как вы, а вышеподписавшемуся много раз случалось напиваться в компании с капитаном Хэддоком[21], и в виски «Лох?Ломонд» нет для меня тайн. Я прыгал с парашютом на Таинственный остров с зеленым флагом Европейского фонда научных исследований, много?много раз переходил границу Сильдавии и Бордюрии, плавал на «Карабуджане», на «Рамоне», на «Спидол Стар» и на «Сириусе», искал сокровища Красного Рэкхема – ну, вы помните, держать все время к западу, – бродил по Луне, покуда Дюпон и Дюпонн с кричаще?яркими волосами выступали клоунами в цирке Ипарко. Когда я закинул за спину свой дорожный мешок, мое первое путешествие было (как у Тинтина) на борту танкера в Страну Черного Золота. И все это так прочно увязалось с моей жизнью, что спустя много лет, когда Жорж Реми, Эрже, умер, мое начальство в газете «Пуэбло» осведомилось, не могу ли я поменять на несколько дней Бейрут на Муленсар, и потом опубликовали на целый разворот мои впечатления о том, как я пришел выразить сочувствие моим старым друзьям и как за столом, заваленным телеграммами с соболезнованиями – от Абдуллы, Алькасара, Серафима Лампиона, Оливейры да Фигейры, – долго разговаривал с осунувшимся и постаревшим Тинтином, прежде чем добросовестно нализаться со старым капитаном Хэддоком под звучавшую с проигрывателя запись Бьянки Кастафиоре – арию Маргариты, нашедшей драгоценности.
Подобно тому, как мир делится на флоберщиков и стендалистов, мы все принадлежим либо к лагерю тинтинофилов, либо к партии астериксолюбов. И мне, поклоннику Матильды де Ламоль, которому Эмма Бовари кажется несносной кривлякой, приятно и отрадно бывает провести часок за приключениями неукротимого галла, но это удовольствие не идет ни в какое сравнение с тем наслаждением, которое я получаю над страницами Тинтина. Помню, выпуск стоил шестьдесят песет, и я добывал искомую сумму всеми правдами и неправдами, копя деньги, полученные на день рождения, на именины и Рождество, словно диккенсовский Скрудж (всех моих «Тинтинов» я покупал себе сам, за исключением самого первого – «Скипетра Оттокара»), чтобы наконец отправиться в картахенский книжный магазин Эскарабахаля, и выйти оттуда с вожделенным альбомом, и, затаив дыхание, наслаждаться прикосновением к твердому картонному переплету, холщовому корешку, и радовать глаз великолепными цветными рисунками на чудесных фронтисписах. А потом в одиночестве свершал неизменный ритуал – перелистывал страницы, вдыхал запах свежей типографской краски и лишь потом погружался в упоительное чтение. С тех волшебных минут прошло почти тридцать пять лет, но и сейчас, открывая «Тинтина», я ощущаю аромат, который до сих пор связан для меня с приключениями и с самой жизнью. Вместе с «Тремя мушкетерами», «Талисманом», «Приключениями Гильермо»[22], «Сидом» и фильмами Джона Форда эти комиксы навсегда отформатировали жесткий диск моего детства.
Сейчас во Франции вышла биография Эрже. Написанная Пьером Ассулином, французом до мозга костей, литературным критиком, автором жизнеописаний Сименона, Канвейлера и Галлимара – человеком с большими усами и не меньшими познаниями, раз и навсегда зараженным вирусом литературы, которую он воспринимает как бескрайнее, гостеприимное пространство, где место найдется всем, кроме идиотов и подлецов. Со мной он неизменно был великодушен и приветлив, и в издаваемом им журнале «Лир» я вижу больше открытости, сердечности и симпатии, лишенной недомолвок и потаенных комплексов, чем у большинства известных мне испанских литературных критиков. Так что пользуюсь случаем и законным предлогом рекомендовать читателям эту подробную – 426 страниц в испанском издании – биографию Эрже, это скрупулезное исследование на базе частных архивов и сотен воспоминаний, воссоздающее механизм и процесс появления персонажей и двадцати трех историй серии. Это, помимо прочего, еще и завораживающе интересный рассказ о самом авторе – о Жорже Реми, который начинал журналистом, увлекался Китаем, обвинялся в сотрудничестве с нацистами, стяжал себе мировую известность и продолжал работать до последних дней жизни. Гениальный и противоречивый Эрже сумел создать собственный вымышленный мир со своими историей и географией, наделить его обществом со своими правилами и обычаями, населить эту чудесную вселенную незабываемыми персонажами – для вящего удовольствия читателей от 7 до 77 лет. Клянусь усами Плекси?Гласа. Аминь.
Ни кораблей, ни чести
«Подлежит немедленному исполнению», – гласил строгий официальный приказ. Потом, разумеется, все умоют руки, никто ни за что не ответит, как спокон веку происходит и до скончания века будет происходить в этой несчастной стране, – никто, ни лицемерное и немощное правительство, ни генералы и адмиралы, воды в рот набравшие, чтобы не испортить себе карьеру, ни брехливо?демагогическая пресса, которая месяцами горячила умы и подстрекала политиков принять решения, в которые те сами не верили. Потом, когда вдовы и сироты спросят, отчего произошла эта нелепая бойня, все отвернутся или начнут изрекать банальные благоглупости об отчизне, чести и священной хоругви. Испании, за много лет допустившей в отношении своих заморских колоний все ошибки, просчеты и промахи, какие только можно себе представить, оставалось лишь четко обозначить точное место окончательной катастрофы. И место это в конце концов было найдено и определено – Сантьяго?де?Куба. 2 июля 1898 года деревянные испанские корабли, наглухо запертые в гавани мощной броненосной североамериканской эскадрой, лишенные боеприпасов и угля, получили приказ любой ценой прорваться в открытое море. Остров был обречен, и блокированный испанский флот мог попасть в руки противнику. И потому, отвергнув вариант взорвать корабли, а экипажи отправить воевать на суше, стратеги из Мадрида и из Гаваны отдали флоту приказ выйти из гавани и принять бой, хоть и сознавали, что обрекают своих моряков на гибель.
Ибо силы были чудовищно неравные: три крейсера («Инфанта Мария?Тереза», «Адмирал Окендо», «Бискайя») имели очень слабую броневую защиту, один («Кристобаль Колон») с присущей испанцам – тогда и всегда – непродуманной скоропалительностью решений был отправлен из Кадиса так поспешно, что на нем не успели установить тяжелую артиллерию, а два современных легких эсминца («Фурор» и «Плутон») были более чем уязвимы для огня американской эскадры, где под командованием адмирала Сэмпсона находились четыре мощных броненосца («Индиана», «Орегон», «Айова», «Техас»), два крейсера броненосных («Бруклин», «Нью?Йорк») и один легкий («Глостер»), не считая вспомогательных судов и транспортов. Следует учесть, что четырем вышеназванным кораблям, защищенным броневыми листами почти полуметровой толщины и вооруженным орудиями калибра 330, 305 и 203 мм (общее количество стволов тяжелой артиллерии составляло 52 единицы), противостояли шесть крупных испанских кораблей с орудиями, максимальный калибр которых не превышал 280 мм. Таким образом, для американских кораблей это больше напоминало стрельбу по мишеням, нежели артиллерийскую дуэль, и испанский адмирал Паскуаль Сервера, сознавая это, пытался отговорить правительство от его безумной затеи. Однако в Мадриде в то время бушевал патриотический восторг, чтобы не сказать – угар: ведь за столиками кофеен войну так легко вести и выигрывать. Посему адмиралу напомнили слова дона Касто Мендеса Нуньеса, сказанные при бомбардировке Кальяо[23]: «Лучше потерять корабли, но сохранить честь, нежели наоборот».
Адмирал Сервера и командиры его кораблей все были профессионалы, видали виды, а потому иллюзий не строили. Знали, что победить не смогут, и в ночь перед выходом из гавани, на последнем военном совете, простились друг с другом. Знали, что идут на самоубийство, но приказы не обсуждаются. И потому им ничего не оставалось, как развести пары и сниматься с якоря. В подобных обстоятельствах возможна была лишь одна двойная тактика – выйти из порта самым полным ходом, прорвав блокаду орудийным огнем, и попытаться скрыться, уповая лишь на то, что застигнутые врасплох американцы не успеют поднять давление в котлах. Если же вырваться не удастся – подойти на предельно близкую дистанцию и вступить в бой, стараясь пальбой в упор компенсировать недостаток дальнобойности и крупных калибров. Перед тем как сняться с якоря, старый адмирал, не сомневавшийся в исходе этой безумной авантюры, тщательно собрал все полученные приказы и вместе с копиями собственных возражений и протестов вручил их архиепископу Сантьяго. Удастся ли Сервере уцелеть во всем этом или нет – он не желал, чтобы в Мадриде пятнали его честь и порочили его имя. В конце концов, дон Паскуаль был испанцем, а следовательно, знал, что когда все пойдет к дьяволу, когда газеты поднимут заполошный вой, а министры и адмиралы, как всегда, начнут переваливать ответственность друг на друга, в Мадриде примутся искать козла отпущения и думать, кому придется платить за разбитую… о, если бы посуду! – эскадру. Именно так все и произошло, но заботливо сбереженные документы помогли ему сохранить и лицо, и карьеру, оправдавшись перед военным трибуналом, перед которым предстал по возвращении из плена.
И вот утром этого злосчастного 3 июля, при хорошей погоде и штилевом море, флагман испанской эскадры крейсер «Инфанта Мария?Тереза» поднял флаг и двинулся вперед, а прочие корабли салютовали тому, кто пошел на смерть первым. Заняв свои места по боевому расписанию, бедные матросы и солдаты морской пехоты, верные присяге и долгу, не ведавшие, какой степени драматизма достигла ситуация, но смертельно соскучившиеся сидеть в блокаде, в самом деле рвались в бой, хотя теперь уже начинали понимать, что? их ждет. Воцарившуюся на борту крейсера тишину с полным правом можно было назвать мертвой. В 9:30 «Тереза» (командир – капитан 1?го ранга Конкас) обогнула рифы Диаманте и вышла в открытое море под взглядами огромной толпы, которая собралась на стенах фортов Морро и Сокапа понаблюдать за сражением. Адмирал Сервера стоял на мостике, комендоры замерли у своих незащищенных броней, открытых для вражеского огня орудий. Замысел состоял в том, что флагман вызовет на себя огонь неприятеля, меж тем как остальные крейсера и эсминцы попытают счастья и попробуют уйти вдоль берега – примерно так, как убегают по галерее тира. И, возвещая начало сражения, артиллеристы «Терезы» дали залп второй батареей бортовых орудий.
Ближе всех оказался крейсер «Бруклин», и Конкас приказал идти прямо на него с намерением протаранить американца. Однако тот увернулся, переложил рули и сперва ударил кормовой башней, а потом обрушил на «Терезу» всю мощь своей артиллерии. Под этим шквалом испанский флагман, убедившись, что дальнобойные орудия американцев не дадут ему приблизиться, развернулся на запад с намерением уйти вдоль берегового уреза как можно дальше. Трагедия разыгралась незамедлительно: испанские корабли стремились увеличить дистанцию и двигались параллельно побережью, американская же эскадра в открытом море в свое удовольствие расстреливала их издали.
Их – потому что целей стало уже две. Во исполнение полученных приказов (комендоры лишь скрежетали зубами у своих бесполезных орудий, кочегары в адовом пекле машинного отделения лопату за лопатой швыряли уголь в топки, и, надо заметить, несмотря на смертельную угрозу, ни один не покинул вахту во время боя, офицеры, полные безнадежной решимости, оставались на мостиках) испанские корабли один за другим покидали гавань: через десять минут после «Терезы» в открытом море оказалась «Бискайя», и американские крейсера перенесли часть огня на нее. К этому времени палуба «Терезы» была уже завалена трупами, надстройки охвачены пламенем, трубы разбиты, все, кто находился на мостике, убиты или ранены, а крейсер терял ход. Конкаса спустили в лазарет, и непосредственное командование кораблем принял на себя адмирал Сервера, тоже уже раненный: он приказал взять право на борт, чтобы, выбросившись на берег, избежать плена. В 10:15, после того как «Тереза» прошла пять миль к западу, приказ, несмотря на ураганный огонь противника, был исполнен.
Что касается «Бискайи», она, воспользовавшись тем, что американцы сосредоточили огонь на флагмане, полным ходом бросилась на запад – как и было приказано, – чтобы прорвать кольцо и оторваться от неприятельской эскадры как можно дальше, однако скверное состояние машин и «грязные воды» помешали ей развить нужную скорость: вскоре все на борту поняли, что судьбу не обманешь. Ибо американские броненосные крейсера, оставив агонизирующую «Терезу», перенесли огонь на новую цель.
Но уже появился третий герой действа. Зрителям на суше, в ужасе следившим за этой бойней, было отлично видно, как испанские корабли бестрепетно продолжают выходить из гавани, словно не замечая, что творится на внешнем рейде. Теперь настал черед «Кристобаля Колона». Слабо вооруженный корабль, который мог рассчитывать только на мощь своих машин, под огнем американцев пошел в кильватере «Бискайи», удалявшейся вдоль берега.
Огонь прекратился, и показалось, что все кончено. Но тут внезапно наблюдатели, не веря своим глазам, увидели, что между фортами Морро и Сокапа появился еще один испанский крейсер – тоже с поднятым на грот?стеньге государственным флагом. Это был «Окендо»; с момента выхода и его судьба была предрешена: под непрестанным убийственным огнем крейсеров «Орегон» и «Айова» он обогнул Диаманте, с удивительным хладнокровием лавируя меж высоких столбов воды, взметенных разрывами крупнокалиберных американских снарядов, и демонстрируя безупречную выучку, достойную занесения в анналы испанского военно?морского флота. Сознавая, что обречен, крейсер вел ответный огонь, но артиллеристы в бессильной ярости видели, что их снаряды лишь царапают броню. В отчаянном усилии прибавил ходу, выжимая из машин все, что они могли дать, прошел почти вплотную к уже застрявшей на мелководье «Терезе» и, полуразбитый взрывами, иссеченный осколками, с горящим левым бортом, ведя огонь из единственного уцелевшего орудия (потом замолчало и оно), со снесенными трубами, со ста двадцатью шестью убитыми членами экипажа (включая и самого командира крейсера Ласагу, и обоих его помощников, и троих старших офицеров), на полном ходу вылетел на скалы в миле западнее своего флагмана.
Береговая полоса меж тем уже являла собой страшное зрелище – два застрявших на мели, объятых пламенем крейсера, сотни окровавленных моряков, пытавшихся вплавь добраться до суши, раненые, распростертые на берегу и на скалах, – а меж тем на выходе из гавани возникли один за другим еще два серых силуэта: бухту покидали последние корабли испанской эскадры, эсминцы «Фурор» и «Плутон», которые имели приказ сопровождать крейсера и под прикрытием их огня, пользуясь своей быстроходностью, ускользнуть, поскольку не с их хрупкими корпусами и слабым вооружением было противостоять американским броненосцам – одного меткого залпа главным калибром хватило бы, чтобы переломить эсминцы пополам. Неизвестно, по какой причине они запоздали с выходом и тем самым оказались под огнем неприятеля, лишившись всякой надежды на спасение, но так или иначе по выходе остались одни и теперь, жалкие и уязвимые, в грохоте разрывов и свисте бомб отважно двигались вперед самым полным ходом, пока обоих не разнесли в щепки малые корабли американцев и скорострельная артиллерия «Индианы». Командир «Фурора» (капитан 1?го ранга Вильяамиль) был убит на ходовом мостике, а корабль затонул. «Плутон» (командир – капитан?лейтенант Васкес) выбросился на берег: оба эсминца были от носа до кормы размолочены неприятельским огнем, а каждый третий член экипажа – погиб на боевом посту.
Два испанских крейсера еще оставались на плаву и сохраняли ход, но за ними гналась целая свора неприятельских кораблей. На «Бискайю», продолжавшую свое безнадежное плавание к западу, были нацелены почти все орудия американской эскадры. На небольшом расстоянии от флагмана шел «Кристобаль Колон», и оба крейсера, подобно тому, как это делали недавно их товарищи, пытались идти вдоль берегового уреза, чтобы избежать огня противника. Процент попаданий у испанских артиллеристов был выше, но их орудия по?прежнему не могли нанести существенный ущерб врагу, закованному в броню. Зато его губительный огонь убивал и калечил испанцев на боевых постах, поджигал все, что могло гореть, разносил орудийные башни и крушил надстройки. Все было предрешено. К беспощадной травле, которую вели «Бруклин», «Техас», «Айова» и «Орегон», подоспел и оказавшийся дальше других от места боя и оттого запоздавший флагман «Нью?Йорк». «Колон», который, хоть и не нес на борту тяжелой артиллерии, был самым быстроходным в испанской эскадре, продолжал удаляться, и его экипаж в тоске и тревоге смотрел, как несчастная «Бискайя» сначала поравнялась с их кораблем, а потом осталась позади – крейсер, несмотря на самоотверженные усилия кочегаров, работавших как каторжные, не мог развить нужной скорости и вскоре оказался брошен на произвол судьбы под шквальным огнем всей американской артиллерии. Тем не менее, сражаясь с мужеством отчаяния, он героически отбивался до конца. Когда же его командир (капитан 1?го ранга Эулате) понял, что продолжать бой невозможно – четверо офицеров убито, на корабле бушует пожар, снарядные подъемники выведены из строя и продолжать стрельбу можно будет лишь еще несколько минут, – он приказал круто переложить рули влево, намереваясь вплотную подойти к ближайшему «Бруклину», протаранить его и вместе с ним уйти на дно. Однако сосредоточенный огонь с «Орегона» и «Айовы» не дал осуществить этот замысел, заставив «Бискайю» лечь на прежний курс, а в 11:30 – выброситься на мель милях в пятнадцати западнее Сантьяго, в Асеррадеросе. Крейсер горел, но флаг так и не спустил.
Оставшись один, «Кристобаль Колон» под командованием капитана 1?го ранга Диаса Мореу, двигавшийся параллельно береговой линии, отмеченной, как вехами, горящими испанскими кораблями, самым полным ходом прошел на шесть миль мористее, все еще надеясь оторваться от преследователей, по которым он вел бесполезный огонь средним и малым калибром. И оказался единственным из всей испанской эскадры, кому в этот день почти удалось осуществить задуманное. Но день был роковым для всех, и когда крейсер уже считал себя вне опасности, на мостик поднялся старший механик и доложил командиру, что качественный уголь кончился, а тот, на котором корабль идет сейчас, снизил скорость до трех узлов. Помертвев, Мореу убедился, что и в самом деле машины сбавляли обороты и уйти от преследования американской эскадры, которая стремительно сокращала расстояние, не удавалось. Броненосцы открыли огонь с дальней дистанции, а «Колон», лишенный кормовых орудийных башен, мог бить только средним и малым калибром, подойдя к противнику почти вплотную, что лишало его пространства для маневра и превращало в мишень. Как позднее признавался сам адмирал Сэмпсон на торжестве по случаю одержанной победы, испанский корабль, останься он в открытом море, попал бы в плен – броненосец «Орегон» уже мчался ему наперерез. Поскольку на «Колоне» не было спасательных шлюпок, Мореу, открыв кингстоны и затопив корабль, погубил бы все пятьсот человек своего экипажа. Поэтому испанец совершил маневр, чтобы разминуться с «Орегоном», и на полном ходу ринулся к берегу. Пройдя 48 миль, он спустил флаг и пустил свой корабль ко дну.
На этом все было кончено, и флаг испанской короны перестал развеваться над морем, принадлежавшем ей четыре столетия. Американцы прекратили огонь, потому что стрелять больше было не в кого. Часы показывали 13:30. Хотя на всем протяжении четырехчасового боя испанские артиллеристы били часто и метко – «Тереза» и «Бискайя» поразили «Бруклин» 41 раз, – у американцев, защищенных броней и огнем дальнобойных орудий, всего один человек был убит, двое ранено и девять контужено, так что для них это сражение не сильно отличалось от учебных стрельб. А из эскадры адмирала Серверы остались на дне морском, на горящих палубах кораблей и на залитом кровью берегу 323 убитых и 151 раненый, то есть каждый четвертый моряк.
День был воскресный. В тот самый час, когда выжившие испанцы поднимались в плен на борт американских кораблей, корчились на берегу или пробивались через сельву, пытаясь дойти до Сантьяго и воевать на суше, в Мадриде ослепительно сияло солнце, и граждане, включая нескольких членов правительства, развлекались боем быков. Как пишет Франкос Родригес: «При большом стечении публики состоялось две корриды: одна на арене в Мадриде, другая – в Карабанчеле. Обе прошли очень удачно».
Спустя годы Мигель де Унамуно напишет: «Когда в Испании принимаются толковать о делах чести, человека, к чести чувствительного, непременно проймет дрожь».
Завтрак с коньяком
Некто вошел в бар и спросил рюмку коньяку – да, вот так вот, просто, без затей, – хотя не было еще восьми, зато день выходной. Этот некто был приземист, тощ, смугл, облачен в белую рубашку – чистую и отглаженную, – а влажные черные волосы, все еще густые и лишь слегка тронутые сединой, аккуратнейшим образом зачесаны назад. Выглядел он лет на пятьдесят с чем?то. На левом предплечье имелась у него зеленоватая татуировка, почти стершаяся от времени, от солнца и морской воды.
Есть персонажи, которые нравятся мне с первого взгляда, и он был одним из них. Как я уже сказал, час был ранний, рассветный, я бы даже сказал, час, когда царит безветрие, а красноватый солнечный диск только еще поднимается над водой. Дело происходило в рыбачьем поселке – из тех, где в наличии есть причал, баркасы и старые дома с большими зарешеченными окнами почти у самой земли; такой поселок, где в знойные летние вечера почтенного возраста дамы и старики в нижних сорочках сидят у дверей, наблюдают течение жизни.
Открыт был только этот бар. Не какой?нибудь кафетерий с претензиями невесть на что, а классическая портовая забегаловка с рассохшейся щелястой стойкой, пластиковыми стульями, с развешанными по стенам фотографиями футбольных команд и образом Пречистой Девы дель Кармен между бутылками с коньяком «Фундадор». Местечко это явно сохранилось с прежних времен, когда в портах бары были такими, как Господь заповедал, и сидели там портовые, естественно, грузчики с огрубелыми ручищами, моряки, рыбаки и усталые курящие женщины, которые к мужчинам обращались на «ты».
Тощий, аккуратно причесанный субъект выпил коньяк не моргнув глазом. Прочую клиентуру составляли дремавший за столиком забулдыга и трое небритых молодцов, которые, по виду судя, всю ночь ловили да мало что поймали. У всех, несмотря на ранний час, рядом с чашками кофе стояли рюмочки коньяка. И я сказал себе: вот видишь, этим и в голову не придет начать день с морковного сока, или заварить себе травяного чаю, или сгонять на угол за горячими круассанами. Они – из тех, кого ханжи с места в карьер назовут алкоголиками: дескать, глянь, чего они себе позволяют в такую рань… и т. д. Примерно так же, как в кафе на трассе заруливает дальнобойщик и, не говоря худого слова, хлопает стакан – «Сколько с меня, Мариано?» – а потом опять за руль, и плевать ему на всех и на то, что люди скажут. Ибо есть профессии, где не допустимы цирлих?манирлих. И есть такая тяжкая костоломная работа, что сам Иисус Христос не выдержит без затейливой божбы, не стерпит, чтоб каждые три минуты не помянуть собственное имя всуе – ох, и в каком еще суе, – если не согреет нутро чем?нибудь подходящим. Вроде того бодрящего, в основном состоящего из водки напитка, что употребляют шахтеры, или вот угощения рыбаков, где кофе со сгущенным молоком – всего лишь повод налить коньяку на три пальца от дна и выпить махом, прежде чем на заре опять идти в море.
Тощий посетитель заказал еще один «большой коньяк» и тотчас получил желаемое. Закурил, затянулся и, поднося рюмку к губам, выпустил дым. Лицо у него было твердо очерченное, с морщинистой, словно выдубленной кожей, какая бывает у людей по?настоящему неуступчивых и суровых. Судя по тому, чем от него веяло, клиент недавно вымылся и побрился. Я спросил себя, что он делает на улице в такую рань да еще в выходной день, но по его манере облокачиваться на стойку, пить крупными глотками и по тому, что курил он крепкие «Дукадос», понял, что этот дядя привык подниматься спозаранку всю жизнь и каждый день – неважно, в будни или в праздники. И для него это – рутина, естественная привычка, а две пропущенные одна за другой рюмки – лишь продолжение тех сотен и тысяч, помогавших ему твердо стоять на ногах, встречая новый день и все, что тот нес с собой.
Я было подумал, не угостить ли его, с тем чтобы разговорить и расспросить, но отказался от своей идеи: имеющийся опыт подсказывал мне, что ничего не выйдет из нашего разговора – субъект с татуировкой на предплечье явно относился к тем, кто до семи вечера не произнесет подряд и трех слов. Он неторопливо тянул коньяк, но остатки все же допил одним глотком, опрокинув рюмку, а голову – запрокинув. Потом расплатился, не спрашивая, сколько должен, и вообще ни слова не сказав, и медленно направился к молу. Солнце уже поднялось повыше и, слепя глаза, играло на тихой воде, меж пришвартованных баркасов, грудой наваленных парусов и разноцветных ленточек на глубоководных тралах. Я сощурился от солнечного блеска и еще какое?то время видел бредущий в никуда силуэт.
Призраки «Сандерленда»
Во второй половине дня воды Параны кажутся грязными, несут лихорадку и тину, а корабли, стоящие на якорях посреди реки носом к течению, зажигают огни. Отсюда из?за столика перед старым баром «Сандерленд» мне видно, как с берега и заброшенных причалов медленно поднимаются по склону утомленные призраки мертвых моряков, которые никогда не покинут это место. Проржавевшие корпуса их пароходов и баркасов вот уж больше века гниют в других водах или на дне реки, среди песчаных дюн, не отмеченных ни на какой карте, а у моряков нет другого занятия и другого оправдания своему существованию, нежели приходить каждый вечер в «Сандерленд», как прежде приходили, выпивать первую кружку пива, поплескивающего в слабых от малярии руках, тогда как третья или четвертая уймет наконец дрожь. Где?то слышится аккордеон, выводящий танго, и голос человека, тоже давно уже мертвого, жалуется, что мир движется, но то, что прежде было его губами, больше никого не целует. А моряки, безмолвно говорящие на языках дальних стран и украшенные экзотическими татуировками, молча пьют рядом с женщинами, которые улыбаются и ждут.
У меня сохранилась старая, еще начала века фотография этого заведения: на вывеске, намалеванной под навесом крыши, рядом со словами «бар?ресторан» значилось имя Северино Гала, испанца, открывшего первый кегельбан, закусочную и магазин в ту пору, когда добирались сюда верхом или в дилижансе по дорогам и тропам, а в такие дни, как сегодня, скажем, жители жгли большие костры. На снимке стоят его друзья – в канотье, без пиджаков, в одних жилетах поверх белых сорочек, а женщины, чьи смутные тени наблюдают сейчас за мной из полутьмы, еще живы, молоды, красивы, в юбках до щиколоток и с кувшинами пива в руках. Северино Гал любил друзей, автомобили и объятия, и на стенах заведения, у дверей, которые некогда вели в private room[24], а сейчас, открываясь в пустоту, – в никуда, пожелтевшие фотографии – скрещенные на груди руки, насмешливая улыбка – вызывают его алчущий дух.
Как водится, не обошлось в этой истории и без пожара. В 1989?м «Сандерленд» сгорел полностью, как и должно было случиться при исполнении странных обрядов, чья магическая сила заключается в верности самим себе и тому, что они означают. Но иные мечты отказываются умирать или, быть может, есть люди, которые отказываются предавать какие?то мечты. Так или иначе, в 1992 году двое аргентинцев – итальянского происхождения и испанского – купили заведение и отстроили его кирпичик за кирпичиком. И теперь усталый путник может присесть за столиком на берегу реки или внутри ресторанчика, пропитанного ароматами испанского пучеро, аргентинской пикады и итальянской пасты, заставленного витринами со старинными кувшинами и бутылками фабрики «Пухоль & Суньоль», минеральной водой «Кристаль», предназначенной для дам, или у стойки, где в былые дни сиживали опасные удальцы из квартала Рефинериас, заказать аперитив «Лусера», салат с куриными желудочками, стейк или пирог – и перемешать настоящее с воспоминаниями о друзьях, о возлюбленных, о призраках былого, пока Фито Паэс колотит по клавишам рояля, а в воздухе – истаивает дым последней сигары, выкуренной Освальдо Сориано перед смертью, и звучит теплый насмешливый голос «Негра» Фонтанарросы[25], который расскажет тебе последние байки Росарио. Еще можно изучить расписание поездов, уже много лет как не выходящих с вокзала «Кордоба», или листки, где указаны даты прибытия пароходов, которые не прибудут никогда, потому что сейчас лежат на дне далеких морей. В подарок можно получить оловянного солдатика, вооруженного шпагой и кинжалом, тщательно и терпеливо раскрашенного Рейнальдо Сьетекасе[26], а можно остановиться перед древним календарем и вымарать из него, если есть охота, день, когда сгинула любовь, предал друг, изменила мечта. Можно медленно и торжественно вытащить из обложки вчетверо сложенную фотокопию документа – свидетельства о рождении Эрнесто Гевары де ла Серны, известного также как Че, появившегося на свет здесь, в Росарио, 14 июня 1928 года. Можно расправить этот листок на столе, положить его рядом со старой фотографией «Сандерленда», еще раз взглянуть на реку и чокнуться со всеми призраками, которые в этот предвечерний час населяют тишину.
Справа по борту – ребенок
Только попытайтесь вообразить себе эту сцену в стиле стародавних комиксов: город, придвинувший свои постройки и службы к самому берегу, воскресное семейство с восемью?десятью детишками на борту – тут тебе и сыновья, и малолетние племянники в спасательных жилетах и кругах?поплавках, а также бабушка и деверь?шурин, и черепаха. И вот вся эта компания, доверху загрузив собой кораблик, заводит мотор и – пуф?пуф?пуф – отваливает от причала и держит курс на горизонт, за семь морей. А через полчаса другое судно обнаруживает в открытом море малолетнего мальчугана, который качается на воде в своем надувном жилете, но с закрытыми глазами и как бы без признаков жизни. Ну, все, как полагается, кричат: «Человек за бортом, стоп машина!», ложатся в дрейф. Вылавливают мальчугана, и он, весь сморщенный, как замоченный турецкий горох, рассказывает, что свалился за борт и оказался посреди моря?океана в полном одиночестве. К счастью, нынешние детишки – народ ученый, смотрят кабельное телевидение, так что и этот карапуз, проявив немалую смекалку, вспомнил и применил к себе всю науку выживания, поскольку был в невинности своей убежден, что за ним вернутся и его спасут, как в кино это бывает. И благодаря этой святой убежденности не ударился в панику, сохранил самообладание, закрыл глазки, замер и стал надеяться, что папа?мама успеют раньше, чем прозвучит слово «конец».
У спасителей глаза полезли на лоб. Никто не мог поверить, как ни силился, что бывают такие безответственные и легкомысленные родители. Запросили по радио, по 9?му каналу, не плывут ли тут поблизости олухи царя небесного, хватившиеся мальчика? И, к неописуемому изумлению, вскоре получили утвердительный ответ. Утвердительный – это еще очень мягко сказано, ибо легко представить себе степень паники, растерянности и сумятицы, поднявшейся на борту, когда, получив такое извещение, родители принялись пересчитывать отпрысков и убедились, что – да, в самом деле, Манолито?то и нету.
Ну что, вы скажете – смахивает на рождественскую сказку? А вот и нет: это истинное происшествие, имевшее место недели три тому назад в прибрежном левантийском городке, названия которого не даю, потому что оно очень уж смешное, всего лишь одно из многих: каждые выходные раздаются призывы о помощи по самым разным поводам и прежде всего – когда мореплаватели с маху сядут всем килем на скалистую мель при выходе из бухты. Прелести и пикану моей истории придает то обстоятельство, что такое происходит сплошь и рядом на испанском побережье. Когда плаваешь летом или в любой погожий день недели с включенным радио, кажется, будто слушаешь какую?то юмористическую передачу, но юмор, впрочем, порой граничит с трагедией: в эфире (причем на рабочей частоте) заказывают паэлью на половину третьего, жалуются, что течение тащит так, что скоро они превратятся в буревестников, сообщают, что вышли без капли горючего, не имея ни малейшего представления о законе Архимеда, толпятся в районе промысла, плавая наподобие мусора, перепутываясь якорями, сталкиваясь бортами, как при абордаже, наскакивая друг на друга и друг друга понося последними словами, врубают лихую музыку в час сиесты, поднимают по тревоге вертолеты спасателей или катера береговой охраны, потому что какой?то пень вышел в море, не проверив уровень масла или бензина… Ну, короче, мы и море умудрились превратить в средоточие всего дерьма, какое только есть на белом свете.
Менеджеры яхт?клубов и издатели специализированных журналов жалуются, что в Испании падает интерес к спортивному мореплаванию, что испанцы отворачиваются от моря, что существует глупейший предрассудок, будто иметь судно и плавать – это всего лишь вопрос денег, меж тем как всякий, кто любит рыбную ловлю или просто яхтинг, может позволить себе кораблик, и обойдется это не дороже, чем летний сезон в Бенидорме. Так или иначе, мне мало дела до забот, обуревающих менеджеров и издателей, и я бы предпочел, чтобы они помалкивали, потому что их стараниями на каждого настоящего моряка появляется десять «чайников», выходящих в море только по субботам и воскресеньям. И вместо пятидесяти яхт на месте промысла будет пять тысяч, и море будет заполнено и заполонено как пляж, и исчезнут одинокие зимние выходные, когда человек, склонный к мизантропии (и вообще сволочь), может пройти двести миль, и хорошо если встретит хоть один парус – такого же, как он сам, человеконенавистника, как правило, голландца или англичанина – представителей только этих наций встречаешь в любую погоду и в любое время года. Потому что в наши дни, при всем падении интереса, на которое так много плачутся, приходится каждый раз забираться все дальше в море и проводить там все больше времени, чтобы получить возможность побыть в мире, молчании и покое, читая или глядя на тихое, приветливое море – или борясь с ним не на жизнь, а на смерть, взяв рифы и матерясь, – и знать, что ни один сигнал бедствия от воскресных мореплавателей или назойливый треск водного мотоцикла не потревожат твоего слуха.
Морские волки
Мечта у них – выйти на пенсию, чтобы можно было заниматься рыбной ловлей, как только захочется. В морских делах они разбираются несравненно лучше так называемых знатоков, одетых с иголочки – дизайнерской иголочки – и пыжащихся в перерывах между регатами. У тех, про кого я говорю, нет денег на дизайнеров, как и на многое другое. У большинства – скромное суденышко с подвесным мотором, мощи которого едва хватает, чтобы маневрировать в открытом море, когда налетевший юго?восточный ветер или левантинец вдруг застопорят тебе ход или Атлантика скажет: «Ну, здравствуй, давно не видались». Возраст у них разный, но чаще всего им от сорока с крепким гаком до пятидесяти, а делятся они на два самых распространенных типа: тощий, жилистый, прокаленный солнцем или толстобрюхий флегматик (в последнем случае непременно усатый). Зовут их Пако, Маноло, Хинес и прочее, в том же незамысловатом роде. И всю неделю сидят они у себя в мастерской, в лавке, в конторе, сидят и мечтают, что вот придет суббота, и они, рано?рано на заре поднявшись или вообще не ложась, упакуют какие?нибудь немудрящие припасы в судки или корзинку (ныне ее с успехом заменяют пластиковые контейнеры «Тапперуэр») и – пуф?пуф?пуф! – отправятся в море. Иным до того невтерпеж, что выходят и в будние дни, под вечер или спозаранку, забрасывают леску с крючками на выходе из бухты или стоят с удочкой на молу или волнорезе, чтобы когда проснется и начнет готовить завтрак детям их благоверная Мария, появиться в дверях, присесть к столу, выпить кофе да и отправиться на работу, предварительно сунув в холодильник дораду или морского окуня на ужин.
Терпеть не могу убивать живых существ просто так, удовольствия ради – в том числе и рыб. Лет двадцать как не пользовался уже ружьем для подводной охоты, а рыбу ловлю только такую, которую можно сейчас же съесть. Однако признаю, что рыбаки – это высшая раса среди двуногих хищников. Не знаю, как поживают и чем дышат те, кто предпочитает реки и пресноводные водоемы, но с людьми, ловящими в море, общаюсь всю жизнь. С младых ногтей, можно сказать, восхищался этими мужчинами – примечательно, что женщин в этом регистре почти не бывает, – способными часами неподвижно стоять на волнорезе с удочкой в руках, устремив взор в никуда. Ночами, когда я плыву почти впритир к берегу, в свете маяка или портовых фонарей замечаю их костерки, иногда даже – посверкивающие во мраке раскаленные угольки их сигарет, а порою, когда ярко светит луна или за спиной у них разливается тусклое сияние, вижу лес их удочек. Самое же сильное впечатление производят на меня те, кто выходит в море на двухметровых лодочках: ты встречаешь их далеко от берега и видишь, как безлунной ночью, часа этак в три подолгу стоит такой рыбак на якоре, покачиваясь на легкой зыби, и только торопливо посигналит фонарем, заметив почти у себя над головой красный и зеленый огни на носу твоего судна. А иногда слышишь по 9?му каналу их переговоры – кодированные, представьте себе, чтобы не навести соперников на места хорошего клева: «Как оно? Да ни черта у меня… двух мальков поймал… мелочь всякая… ты знаешь, где я, только еще поглубже» и т. д. А утром видишь, как они – небритые, с засалившейся от бессонной ночи кожей – раздают всем сестрам по серьгам, вручают свою добычу на воскресную похлебку Лоле, или Пепе, или Марухе, жестоко соперничающим по части рыбной кулинарии. Но не преминут остановиться (я сам как?то видел) перед роскошной трехпалубной супер?яхтой, ошвартованной в лучшей части порта, чтобы осудительно покачать головой и заметить приятелю: «С такого борта снасть не забросишь».
Каждый из них прошел в жизни свое «Господи, спаси и помилуй!.. Чтоб я хоть раз еще сел на что?нибудь плавучее…» Однако все идет по?прежнему. Учат внуков забрасывать удочку, бродят по волнорезу, поглядывая искоса, велик ли улов у других, обсуждают, где лучше клюет, и случаи из жизни. Погоду предсказывают лучше, чем по телевизору. Ревниво хранят секреты, которые не поверят и лучшему другу: вот мель, где подцепили на крючок двух морских угрей, вон у тех скал в залив заходят морские окуни, а с этого места, если повезет, можно выследить и поймать гуасу. Смотрят на море: мечта их там, а не на суше, не на земле, на которой они всего лишь отбывают житейскую повинность. И в глубине души им совершенно безразлично (пусть они и божатся, что это не так), будет улов или нет, и лучшее тому доказательство – в том, что с рыбой или без рыбы они продолжают выходить в море. Может быть, и сами точно не знают, чего ищут, да и зачем ищут – тоже не скажут. Не исключено, что ответ они чуют в собственном одиночестве, в безмолвии, когда часами напролет с удочкой в руке чуть покачиваются на мелкой зыби в своей лодочке. Когда береговая линия – темная линия жизни – в полумиле.
До второго приплытия
Уже трое моих читателей, не сговариваясь, рассказали мне это, уверяя, что – апокриф, но я готов дать голову на отсечение: им хотелось бы, чтобы история была подлинной, как сама жизнь. А история до такой степени упоительная, прямо скажем, и настолько наша, нынешне?испанская, что было бы просто откровенным жлобством не поделиться ею с вами. Так что я ее передаю так, как услышал, разве что имена изменил. За что, как говорится, купил, за то и продаю.
В 96?м году, гласит хроника, проводились соревнования по гребле: одна команда состояла из сотрудников испанского предприятия, другая – японского. Сразу после старта японцы налегли, напряглись, всё, как говорится, отдали и, устроив соперникам полнейший банзай, пришли к финишу на час раньше, чем те. Произошел большой скандал, и когда дирекция испанской конторы велела произвести расследование, выяснилось следующее: «…Победу японской команде принесла незамысловатая тактическая хитрость: у них был один начальник и десять гребцов, тогда как в нашей – один гребец и десять начальников. Приняты надлежащие меры».
В 97?м году состоялись новые состязания, и японцы опять одержали верх – с первого, можно сказать, удара веслами. Испанцы же, хоть и были облачены в футболки «лото» и кроссовки «найк», а гребли углепластиковыми веслами, что обошлось фирме в круглую сумму, пришли к финишу – если верить показаниям хронометра «Брайтлинг» с GPS и параболой – на два с половиной часа позже. Снова собралось начальство, стало разбираться, для каковой цели создало специальный департамент, и спустя два месяца пришло к таким вот выводам: «…Японская команда, реализуя откровенно и явно консервативную тактику, сохранила свою традиционную структуру – один начальник и десять гребцов, тогда как испанская команда, которая сумела извлечь уроки из прошлогоднего поражения, применила новаторские методы и образовала более современную и открытую, динамичную структуру, включающую в себя одного руководителя, одного советника руководителя, трех представителей профсоюзов (доказавших обязательность своего пребывания на борту), пятерых заведующих секциями и одного сотрудника ППУФ («подразделение, производящее усилия физические»), то есть гребца. Удалось установить, что именно последний оказался не вполне компетентен».
И в свете такой судьбоносной информации фирма создает еще один департамент и нацеливает его исключительно на подготовку следующей регаты. Более того – заключает договор с PR?агентством для должного освещения в печати и прочего. И в 98?м году гребцы из Страны восходящего солнца пролетели стрелой – два?раз! два?раз! – и успели даже задержаться, чтобы сделать снимки и поесть жареной рыбки, а к финишу прибыли так скоро, что испанская команда – лодка и экипировка были поручены на этот раз отделу по развитию и внедрению новых технологий – оказалась на месте уже через четыре часа. Четыре долгих часа разницы. Это до такой степени не лезло ни в какие ворота, что теперь уже берет дело в свои руки самый главный и генеральный и созывает совещание на самом высшем уровне, и в итоге спустя три месяца выходит такое коммюнике:
«В нынешнем году японская команда по?прежнему состояла из начальника и десяти гребцов. Испанская команда, проведя внешний аудит и специальные консультации с германской компанией «Штурм унд Дранг», выбрала для себя самую передовую и высокоэффективную структуру, а именно – начальник, три начальника отделов, показавших наивысшую производительность, два аудитора Артура Андерсена, три наблюдателя, под присягой пообещавшие не спускать глаз с весел, и один гребец, по решению вышестоящих инстанций лишенный всех премий и бонусов за непростительные провалы в прошлом.
Что же касается следующей регаты, – говорилось в коммюнике, – наша комиссия рекомендует пригласить гребца со стороны, заключив с ним контракт, поскольку у штатного гребца уже на двадцать пятой морской миле наблюдался заметный упадок сил, всепоглощающая вялость, которая подтверждалась словами, произносимыми сквозь зубы между взмахами весла: «сами попробуйте» или «мать твою… на весла посади, козел», и у финиша достигла степени полнейшего безразличия».
1999
Уругвайские пираты
Чу, не вражьи ли то барабаны?! Навострите уши, о братья мои – о вы, которые, подобно вышеподписавшемуся, шли на «Испаньоле» к острову сокровищ, били китов с борта «Пекода» или дрались в орудийном громе и треске обшивки на «Сюрпризе». Это объявление адресовано исключительно мореплавателям или тем, кто считает, что открыть книгу – то же самое, что отворить дверь в жизнь, полную приключений, а потому те, кому неизвестны масонские знаки посвященных, благоволят перелистнуть несколько страниц, а нас оставить в покое и в своем кругу – со скелетами в сундуке мертвеца и бутылкой рому.
Еще хочу предупредить, что обычно не использую эти колонки, дабы рекомендовать книги чаще, нежели раз в год по обещанию либо после дождичка в четверг, если же все?таки делаю это, то – подчеркиваю – отдавая дань уважения какому?либо приятелю и, стало быть, ослепнув от восхищения. Из этого следует, что ждать от меня можно чего угодно, только не объективности суждений. Но на этот раз я собираюсь поговорить о романе, который сочинен человеком, мне едва знакомым, и вышел наконец в Испании, что я считаю отраднейшей новостью и в высшей степени справедливым деянием. Называется он «Охота». Автора же, 66?летнего уругвайца, зовут Алехандро Патернайн.
Книга попала ко мне в 1996 году – и совершенно случайно. Я был в Монтевидео и искал тот отель, откуда британский шпион наблюдал, как «Граф Шпее» выходит в море, чтобы принять участие в сражении при Рио?де?ла?Плата, и тут, повторяю, случайно обнаружил «Охоту». Автор был мне незнаком, потому что Патернайн никогда не издавался в Испании, но роман захватил меня с самого же начала – первая треть XIX века, корсары, классические морские преследования, плавания и приключения… Всему этому нашлось место на этих страницах, к тому же исключительно хорошо написанных. Так что я расстарался, отыскал автора (к этому времени я уже знал, что он преподает литературу и что у него есть еще три романа), поговорил с ним по телефону и сказал: старина, это круто! Сейчас уже не сочиняют таких романов, и мне бы хотелось получить его автограф. Я купил пять или шесть экземпляров, раздарил их друзьям и на какое?то время забыл об этом.
Но один экземпляр попал в хорошие руки, и Амайя Элескано, моя издательница и приятельница, выпустила роман у нас. «Охота» вышла и разошлась по книжным магазинам с репродукцией картины маслом на переплете – прекрасная шхуна летит на всех парусах на фоне синего моря и синего неба в белых облачках пушечных выстрелов. А внутри – клянусь вам той пулей, что выпустил Мэттью Модайн в Джину Дэвис в «Острове Головорезов»[27], – внутри, говорю, превосходный, совершенно особенный роман, не имеющий подобий в современной испаноязычной литературе. Повествует о плаваниях и сражениях корсарской шхуны, принимавшей участие в кампании 1819–1821 гг., то есть в период португальского вторжения. На таких легких и дерзких кораблях моряки из США и других стран под трехцветным флагом отстаивали независимость Уругвая, заложив основы его военно?морских сил. И не случайно 15 ноября отмечается день рождения национального флота – именно в этот день в 1817 году Артигас, вождь ориенталистов, подписал корсарский патент, выданный Джону Мёрфи, капитану «Фортуны».
Как читатель сам увидит – более того, проживет, – театр военных действий этой длинной и тяжкой кампании не ограничивался только омывающими Уругвай водами. Он простирался через моря и океаны до самого Средиземноморья, где происходили поединки и целые сражения, причем удача склонялась то к одной, то к другой стороне. Роман посвящен одному из таких драматических эпизодов – долгой и неумолимой погоне и единоборству португальского брига «Эшпириту Санту» под командованием капитана Бриту с корсарской шхуной капитана Блэкбурна.
Я так и не познакомился лично с Алехандро Патернайном, который, приближаясь к семидесяти, стал живым классиком. Но в этих строках я благодарю его не только за то, что он предоставил мне возможность насладиться прекрасным морским романом. Нет, огромная его заслуга в том, что он переносит читателя на палубу этих кораблей, дает услышать свист ветра в снастях, ощутить во рту солоноватый вкус моря, вдохнуть пьянящий аромат приключения. «Охота», достойная стоять в одном ряду с лучшими произведениями о море, принадлежащими перу Патрика О’Брайана, С. С. Форестера и Александра Кента, – это суровая и незабываемая сага. Она возвращает нас в те времена, когда люди особой породы еще бороздили моря в поисках славы или богатства.
Продолжаем топить корабли
В витринке, между костью кита с острова Десепсьон и двумя бронзовыми гвоздями, некогда вбитыми в обшивку линейного корабля, бывшего при Трафальгаре, стоит модель «Галатеи». Я собрал этот красивый парусник лет тридцать назад – корпус выкрашен в зеленый и белый, снасти сделаны из навощенных нитей, паруса затемнены спитым чаем. Потом я сделал еще много других и куда более сложных, но ни одна из них, включая «Баунти», сопровождавшую из застекленного шкафчика все мое детство, не вызывает у меня такой нежности. Может быть, потому, что это был мой первый макет, и потому, что медленная и тщательная сборка корабля – примерно то же самое, что плавание на нем.
И вот сейчас приятель рассказал мне, что другая, настоящая «Галатея», которая сначала была английским чайным клипером, потом подняла итальянский флаг, а еще потом стала учебным парусником испанского военно?морского флота (до тех пор, пока ее не заменил «Хуан Себастьян Элькано») – так вот, некий фонд приобрел ее и отреставрировал. И на сто четвертом году жизни она вновь оказалась на плаву – теперь она превращена в музей, место проведения конференций и в развлекательный детский центр. Я сначала не поверил своим ушам. В самом деле – необыкновенное происшествие. Испанский корабль спасен от гибели в гнили и ржави, от позорной смерти, на которую мы здесь обрекаем все, что имеет отношение к памяти. Должно быть, министр надрался, сказал я себе, и позабыл продать парусник по цене металлолома. Но вскоре передо мной предстала обычная реальность – фонд оказался шотландским, а находился, соответственно, в Глазго. И на восстановление «Галатеи» собрали добровольные пожертвования тамошние граждане после того, как корабль, гнивший у заброшенного севильского причала, министерство обороны продало за одиннадцать миллионов песет. И вот еще что стоит учесть: «Галатея» – это всего лишь кусок Истории и реликвия, которые ни к какому месту, вернее, до одного места Хавьеру Солане (уж не знаю, кто он сейчас, но уж в какую?то высокую должность вцепился как клещ) – в бытность того генеральным секретарем НАТО ему не удалось привезти премьер? и просто министров даже в Косово и тому подобные места, где можно было бы запечатлеться на фото, засветиться в выпусках теленовостей и в репортажах CNN, а не на газетных страницах в разделе «Культура», которые никто не читает и на которых не желает появляться по этой самой причине даже министр этой самой культуры.
В нижеследующем мне признаваться, прямо скажу, неловко, потому, прежде всего, что это дает моему другу и завзятому англофилу Хавьеру Мариасу отличный материал для глума. Но все же – в иные дни мне жалко, что я не англичанин. Особенно когда вспоминаю, какая судьба могла бы ждать другую реликвию – старинное здание учебных казарм в Картахене, великолепное здание XVIII века с собственным причалом: оно до сих пор принадлежит военно?морскому флоту и могло бы стать прекрасным помещением для музея, тем паче если разместить часть экспозиции – библиотеку, скажем, – на каком?нибудь паруснике, чье бытие таким образом было бы продлено. По крайней мере, нам бы того хотелось. Однако устроить такое место, где можно было бы говорить о Трафальгаре и о Сармьенто де Гамбоа[28] и о фортах Кальяо или о шебеках Барсело, – это пусть англичане делают. Ну, или французы. Здесь, у нас, везде, за исключением превосходного Морского музея в Мадриде, который настоятельно рекомендую посетить, да еще нескольких и очень немногих, происходит то же, что в барселонском комплексе Атарасанас, где напоказ выставлены неоспоримо?героические деяния каталонского флота и в дальние чуланы спрятано все остальное. И я очень опасаюсь, что судьба и этого старинного прекрасного здания окажется в руках городских властей, а уж они?то расстараются превратить его в пластиково?доходное муниципальное предприятие или – что вероятней – передадут его в частные руки как торговый центр с гамбургерами и мультиплексами. Оно и практичней, и выгодней.
Однако возвращаясь к истории с «Галатеей», заклинаю вас – не думайте, будто все достоинство было потеряно в этом эпизоде. Вовсе нет! Рассказывают, что когда шотландцы, вбухав 650 килофунтов на реставрацию парусника, заикнулись о том, что хотели бы еще приобрести и деревянную резную статую у бушприта, в ответ они выслушали патриотическую отповедь: «Получите, когда Гибралтар вернете!» Ну вот вам и пожалуйста. Морская Испания, чтоб ее. В министерстве обороны, в главкомате ВМФ, как видно, по?прежнему выше ценят деревянные статуи без корабля, чем корабли без чести.
Догнать и уничтожить
Сейчас, когда солнце уже высоко, неприятельский парус виден отчетливее. Узнать врага нетрудно – двухмачтовый кеч, которому ветер?левантинец со скоростью восемь?десять узлов позволяет нестись на всех парусах с креном на левый борт. Сильная и неприятная утренняя зыбь улеглась, так что можно рассмотреть его корпус. В бинокль удается различить и флаг – красный, «Юнион Джек». Англичанин. Сердце мое бьется учащенно: с той минуты, как на рассвете мы заметили парус, кравшийся по краю залива Табарка, где мы стояли на якорях в засаде, с потушенными огнями и слившись с темной береговой линией, я наитием понял – англичанин! В будние дни и в это время года большая часть парусников, которые огибают с юга мыс Палос и по ночам не заходят в порты или на якорные стоянки, – это иностранцы: голландцы, один?другой француз. И англичане. А меня с моей командой всегда особенно тянет поохотиться на англичан.
Наш кораблик очень быстроходен. Это не суматошная гоночная яхта, на ней нет парусов для соревнований, а того, кто хотя бы произнесет слово «спинакер»[29] на борту, протащат под килем, потому что он претенциозен, неудобен и убийственно опасен. Это – крепкое высокобортное судно со стремительными обводами, шлюп, по типу напоминающий куттер, с выставленной вперед, как нож, фок?мачтой, а вместо громоздкого парусного вооружения имеется старый добрый классический грот с тремя рифами. Экипаж мой, не щеголяющий в дизайнерской обуви, не носящий штанов до колен и рубашек?поло с логотипами, составляют две крепкие девушки в линялых джинсах, с ножом в заднем кармане, с исцарапанными коленками и костяшками, с бицепсами, накачанными лебедкой. Они опасны на суше, мстительны в травле, неумолимо жестоки на абордаже.
И так вот, постепенно, кабельтов за кабельтовом мы нагоняем добычу. Посвежевший ост?зюйд?ост бьет под углом градусов в пятнадцать в нос и позволяет держать теперь шесть с половиной узлов. Немного потравив шкоты, увеличили скорость на пол?узла. Корабль, почуяв свободу, мчится так, что пена вскипает вдоль всего правого борта, и добыча все ближе. Все в напряжении от носа до кормы, и женский голос произносит: «Он наш!»
Однако не все так просто, черт возьми. Английский пес забирает круче к ветру, и теперь мы оказываемся к берегу ближе, чем он. Я с тревогой смотрю на лот – одиннадцать, девять, восемь морских саженей. Добыча – в кабельтове слева по носу, но – вот ведь незадача – перед носом этим вырастает, увеличиваясь с каждым мигом, красноватая точка мыса Роиг. Шесть саженей. Я опасаюсь, что придется уйти мористее и потерять темп, как и того, что англичанин развернется, зайдет с наветренной стороны и ударит по нам залпом всего правого борта, застав нас если не врасплох, то на середине маневра, а потом безнаказанно укроется в каком?нибудь маленьком порту. Но вот внезапно ветер опять усиливается, мы отклоняемся на пять градусов, получаем свободу маневра и, оставляя мыс Роиг по левому борту, на трех саженях глубины, на семи с половиной узлах скорости мчим по морю, и за кормой остается прямой белый след. Вот теперь этот гад точно не уйдет, говорю я себе. Он в полукабельтове от нас и рвется к берегу, под защиту его фортов. Выждав немного, приказываю готовить к залпу батарею правого борта. Сейчас мы его отправим к Нельсону и мамаше его.
«К повороту!» – кричу я, отключая автопилот и хватая штурвал. Моя вышколенная команда, вспоенная ромом, повитая порохом, бросается к другому борту, когда, подставив нос ветру, мы приближаемся к добыче. Я уже ощущаю запах горящих фитилей и вижу, как англичанин подставляет борт под прицел моих пушек. «Мэджик Карпет», читаю я буквы на носу, Лондон. И, проворно спустив фальшивый французский флаг, поднимаю настоящий – испанский, режу англичанина с кормы, заходя перпендикулярно его курсу, и с дистанции в пятнадцать метров даю залп, который смерчем проносится по палубе, сбивает расщепленную бизань?мачту и превращает в мелкий фарш добропорядочную пожилую краснолицую чету, ошеломленно взирающую на меня: у нее в руках книга, у него в зубах мирно попыхивающая трубка. Вероятно, оба спрашивают, какого дьявола надо от них этому надоедале. Им, бедным?несчастным, невдомек, что после шестичасовой погони я только что отправил обоих на дно морское.
2000
Чести себе не снискав…
Ну, вот он. 45 000 беспредельно уверенных в себе тонн водоизмещения отправляются в свое первое плавание. Он непотопляем – или, по крайней мере, в этом уверили пароходные агенты две тысячи пассажиров, взошедших на борт. Он безопасен, как танцплощадка, хороший ресторан или отель класса «люкс» на твердой земле. Может быть, поэтому в команде «Титаника» предпочтение отдано поварам, официантам и метрдотелям, а не поднаторевшим в своем деле морякам. Это была плавучая резиденция, стремительная и неуязвимая, а поведение капитана, как и на всех судах такого типа, больше подобало директору какого?нибудь санатория для миллионеров, чем судоводителю в открытом море.
В трагедии этого несчастного судна не было ни героизма, ни величия, ни доброты, ни благородства. Зато в немыслимом изобилии представлены были спесь, глупость и некомпетентность. Кто?то заметил, что бедолаги?оркестранты должны были бы не захлебываться на палубе, продолжая исполнять «Ближе, Господь, к Тебе»[30] или нечто подобное, а рассесться по спасательным шлюпкам, чтобы приблизиться к Господу по иному, менее неудобному случаю. С другой стороны, эвакуация с гибнущего судна была организована из рук вон скверно, а вернее – не организована вовсе. Капитан Эдвард Дж. Смит в ту ночь, 14 апреля 1912 года, вел себя скорее как управляющий отелем, а не как моряк с 34?летним стажем: он принимал у себя на борту президента судостроительной компании и владельца верфи, где строили «Титаник», и потому лишь через двадцать пять минут приказал радисту подать первый сигнал SOS.
И позднее для сотен пассажиров, которые барахтались в ледяной воде, эти двадцать пять минут стали роковой чертой между жизнью и смертью. Вдобавок, чтобы не вызвать панику, капитан Смит не сразу отдал приказ покинуть судно, а когда все же отдал, то столь нерешительно, что многие пассажиры не сумели осознать всю степень опасности и неторопливо собирались на палубах, меж тем как внизу, в машинном отделении, кочегары уже тонули как крысы.
Более того – когда корпус «Титаника» уже на четверть ушел под воду и крен на правый борт достиг пяти градусов, одни пассажиры садились в спасательные шлюпки, другие все еще прогуливались по палубам или спали у себя в каютах, пребывая в полнейшем неведении относительно происходящего, а третьи и вовсе не желали покидать судно, чувствуя себя на борту в большей безопасности. Да и вместить эти шлюпки могли только половину из 2206 человек, находившихся на «Титанике». Печальный парадокс – пассажиры третьего класса, первыми осознавшие опасность, поскольку находились на нижних палубах и на твиндеке, оказались вообще без средств к спасению: множество мужчин, женщин и детей погибло потому лишь, что матросы, исполняя приказ, не пропускали их на палубу первого класса. А она погрузилась последней, и кроме того, там еще были места в шлюпках. И потом, когда поднялась паника и началось повальное «спасайся кто может», когда все, что могло плавать, было спущено на воду, а все остальное ушло на дно вместе с 1503 пассажирами, в этих самых шлюпках оставалось 500 свободных мест.
Однако ошибки совершались не только в промежуток времени между тем моментом, когда «Титаник» пропорол правый борт об айсберг, получив стометровую пробоину, и тем, когда в 2:10 корма лайнера окончательно скрылась в ледяных водах Северной Атлантики. Самую серьезную ошибку – и не техническую, а концептуальную – допустили еще при зачатии исполинского лайнера. Джозеф Конрад, который был моряком задолго до того, как сменил капитанский мостик на письменный стол романиста, очень точно сформулировал, что он думает по этому поводу. Чего ждать, горько вопрошал он, если для удовольствия и потехи тысячи богатых постояльцев, у которых денег больше, чем можно потратить, собирают из тонких стальных листов плавучий отель, декорируют и отделывают его в стиле, представляющем собой смесь Древнего Египта и Людовика Пятнадцатого, а потом отправляют эти 45 000 тонн на скорости двадцать один узел по морю, где встречаются айсберги? Ответ на вопрос Конрада дает история крупных кораблекрушений, показывая, до какой степени высокомерие и тщеславие человеческие, которые неизменно выступают в союзе с глупостью и проистекающими от нее ошибками, ослепляют, как сказано в Коране, того, кого Всевышний хочет погубить.
В той же статье, опубликованной в «Инглиш Ревью» всего месяц спустя после трагедии, польско?британский писатель сравнивает катастрофу «Титаника» с гибелью «Доуро» – этот пароход был меньше, чем гигант компании «Уайт Стар», но имел то же соотношение команды и пассажиров. На «Доуро» был опытный капитан и вышколенная команда – его никак нельзя было счесть плавучим отелем, где к шести сотням официантов и прочей обслуги зачем?то добавили старшего механика, капитана и кочегаров. В полночь, находясь в опасных восточных широтах, он столкнулся с другим пароходом. На плаву «Доуро» оставался двадцать минут. И за это время успел спустить шлюпки, куда благодаря грамотным, профессиональным действиям капитана и экипажа, не потерявшим ни спокойствия, ни человечности, и были рассажены все пассажиры за исключением одной?единственной женщины, которая отказалась покинуть судно. Вслед за тем время, что называется, вышло, и вся команда от капитана до метрдотеля (кроме третьего помощника капитана, руководившего эвакуацией, и матросов – по двое на шлюпку) пошла ко дну вместе с «Доуро», выполнив свой долг и безропотно приняв свой удел. Потому что это был пароход, завершает свой комментарий Конрад, пароход, а не плавучий «Гранд?Отель», вышедший в море без спасательных шлюпок, без должного количества обученных моряков, но зато с четырьмястами бедолагами?официантами.
Я прочел эту статью еще в ранней молодости, в ту пору, когда сообщения о кораблекрушениях навсегда впечатывались в память людей, любящих море. Может быть, поэтому «Титаник» никогда не был мне симпатичен. И глядя на фотографию, где этот неуклюжий морской гигант выходит в свой первый и последний рейс, я думаю, что в эту самую минуту Случай со свойственным ему затейливо?трагическим чувством юмора прокладывал на собственной морской карте дрейф айсберга на юго?юго?восток, наметив точку рандеву точно на 41°46’ северной широты и 50°14’ западной долготы. Еще я недавно узнал, что компания «РМС Титаник Инк.», созданная для коммерческого использования остатков лайнера, отказалась от попыток поднять со дна обломок корпуса (по этому поводу затевалось специальное и бешено дорогое шоу, ведущими которого должны были стать актер Бёрт Рейнолдс и астронавт Базз Олдрин). Одобряю – подобно морякам, убитым в бою или утонувшим в кораблекрушении, старые добрые корабли, некогда бороздившие моря, как Бог заповедал, должны мирно спать на дне морском, поскольку честно заслужили себе вечный покой. Что же касается самого «Титаника», то он и восемьдесят четыре года спустя после своей гибели являет собой то же самое, что и в то недолгое время, когда был на плаву, а именно – жалкое зрелище.
Эти английские псы
Хавьер Мариас когда?то подарил мне замечательный оригинал гравюры, напечатанной в 1801 году. На ней изображен водонос, отгоняющий назойливых собак, а подпись гласит: «Проклятые английские псы». А сегодняшней заметке такое название я дал в том числе и потому, что получил недавно письмо от возмущенного читателя: он клокотал от возмущения, поскольку, когда Пиночета отправили в Чили, избавив от правосудия и законного возмездия одного из величайших мерзавцев нашего времени, Маргарет Тэтчер не нашла ничего лучше, чем подарить дону Аугусто гравюру, запечатлевшую гибель Великой Армады, или Трафальгар, или еще что?то в этом роде. Намекая, что англичане, как всегда это было, в очередной раз побили испанцев. И так далее. Тетушка Маргарет воспользовалась случаем выразить Пиночету свою сословную и идеологическую солидарность и благодарность за историю с Фолклендами?Мальвинами, когда он способствовал тому, чтобы профессиональные, отлично оснащенные британские войска безнаказанно истребили армию несчастных аргентинских юнцов, отправленных на убой безответственными правительственными шишками во главе с глупым и вечно пьяным генералом.
И в таком вот контексте, весьма язвительном по отношению к железной леди, принадлежащей к особям, которых лучше бы с самого что ни на есть начала держать в заспиртованном виде, этот самый читатель взывает к нашей исторической памяти и требует отмщения. Отхлестать беспощадно этих козлов, требует он у меня, не уточняя, ограничивается ли это определение одним лишь доном Аугусто или же мне надлежит толковать его расширительно и отнести ко всем сынам Белобрысого Альбиона. И вот я, пребывая в сомнениях по этому поводу и желая, чтобы мои действия рассматривались не как патриотический порыв, но исключительно как гигиеническая процедура по освежению памяти, принимаюсь за дело и выкладываю два?три забавных анекдота.
Вот, например. Какое?то время назад я рассказывал вам, что Патрик О’Брайан, который с миром покоится и вяжет морские узлы одесную Господа нашего, на дух не переносил испанцев, и в изумительных романах, где действует Джек Обри, мы неизменно оказываемся чумазым отребьем, жестоким и трусливым. И нас постоянно сравнивают с Нельсоном, кладезем британских и зерцалом англосаксонских добродетелей, национальной гордостью, непобедимым воином и т. д. И потому я скажу моему милому читателю и корреспонденту, если этот факт как?нибудь сможет унять его патриотический зуд, что Тэтчер, между нами говоря, попала пальцем в небо. Да, ее соотечественники доставляли нам на море гораздо больше неприятностей, чем хотелось бы. Но между этим и непобедимостью – пропасть. А поскольку, как мне сдается, ни один ответственный испанский политик не знает этого – некий министр тут намедни высказался насчет нашего поражения при Лепанто, – а знает, так не помнит, а помнит, так не отваживается сказать (если, конечно, это не правые идиоты, которые полагают Историю своим исключительным достоянием), то пользуюсь прекрасным случаем напомнить, что в середине XVIII века, когда наглые англичане уже хозяйничали в морях, испанский моряк Хуан Хосе Наварро с двенадцатью кораблями и стальными, надо полагать, яйцами прорвал фронт британской эскадры, блокировавшей Тулон, и огнем проложил себе дорогу среди тридцати двух английских кораблей: потери с обеих сторон составили почти поровну тысячу человек. Не стоит забывать, что за воздвигнутую на Трафальгарской площади колонну Великобритания заплатила жизнью непобедимого адмирала Нельсона, одиннадцатью кораблями, выведенными из строя, и тысячью четырьмястами убитых в бою, куда испанцы, на свою беду, были посланы французами. Что касается самого непобедимого Нельсона, то все англичане знают, что у него не было правой руки, но дружно (это касается даже историков) избегают упоминать, что руку эту он потерял в 1797 году, когда в надменном сознании своего превосходства, столь присущем офицерам королевского флота, пытался высадить полуторатысячный десант на Санта?Крус?де?Тенерифе, где оборону держала презренная испанская шваль, – однако высокомерным бритам пришлось капитулировать перед островитянами, поджарившими их заживо, положившими триста человек, а самого сэра Горацио Нельсона, который сошел на берег с двумя руками, вернувшими на его флагман с одной. Что с них взять? Грязные туземцы.
Так что, друг?читатель, полистай учебник истории, вышедший до наступления эры тестовых таблиц, – и насладись сладостным возмездием. На протяжении веков хватило оплеух для всех, и у каждого, включая непобедимого Нельсона, за спиной славы столько же, сколько позора и провалов. Вся разница в том, что англичане стараются забывать о своих катастрофах или представлять их славными кавалерийскими атаками – вроде той сумасшедшей авантюры под Балаклавой[31], – хотя, когда японцы вздули их под Рождество 1941 года в Сингапуре, никакой новый Теннисон стишков не насочинял… А мы, испанцы, такие олухи и такие каины, что стыдимся своих подвигов или пользуемся ими, чтобы нагадить соседу.
Конец ознакомительного фрагмента — скачать книгу легально
[1] Mayday – международный сигнал бедствия в радиотелефонной (голосовой) связи, аналогичный сигналу SOS в радиотелеграфной связи. Фраза представляет собой приблизительную английскую транскрипцию французского m’aidez – сокращенный вариант фразы venez m’aider («помогите мне»). – Здесь и далее прим. переводчика.
[2] Коммодор – воинское звание в ряде иностранных ВМС, предшествующее званию контр?адмирала.
[3] Аллюзия на героический эпос «Песнь о моем Сиде» (Cantar de mio Cid, XII–XIII вв.): «Чтоб хорошим быть вассалом, надобен сеньор хороший».
[4] «Жизнь и смерть полковника Блимпа» (The Life and Death of Colonel Blimp, 1943) – английская романтическая военная драма Майкла Пауэлла и Эмерика Прессбергера; в ходе сюжета главный герой Клайв Уинн?Кэнди (Роджер Ливси) дерется на дуэли с германским офицером Тео Кречмаром?Шулдорффом (Антон Уолбрук), после чего они становятся друзьями, а затем возлюбленная Кэнди выходит замуж за Кречмара.
[5] Эмилио де Рокканера – герой приключенческого романа «Черный корсар» (Il corsaro nero, 1898) итальянского писателя Эмилио Сальгари (1862–1911).
[6] «Пардайяны» (Les Pardaillan, 1905–1918) – десятитомная приключенческая сага французского писателя Мишеля Зевако (1860–1918).
[7] Гюнтер Прин (1908–1941) – немецкий подводник времен Второй мировой войны, один из самых эффективных подводников Кригсмарине; получил прозвище «Бык Скапа?Флоу» после того, как его лодка U?47 проникла на рейд британского флота в гавани Скапа?Флоу и потопила линкор «Ройал Оук».
[8] Хуан Себастьян Элькано (ок. 1487–1526) – испанский мореплаватель, участник кругосветной экспедиции Магеллана и командующий экспедицией после смерти последнего, капитан корабля «Виктория». Косме Дамиан де Чуррука?и?Элорса (1761–1805) – испанский морской офицер, участник осады Гибралтара (1781), экспедиции к Магелланову проливу (1788) и т. д., погиб в Трафальгарском сражении (1805). Хосе де Масарредо Саласар (1745–1812) – генерал?лейтенант Королевской Армады, считался лучшим испанским моряком своей эпохи; историки полагают, что если бы объединенным флотом командовал Масарредо, Испания могла бы избежать поражения при Трафальгаре и Сан?Висенте.
[9] Хуан Австрийский (1576–1578) – испанский морской полководец, командующий испанским флотом в битве при Лепанто.
[10] Жоан Прим?и?Пратс (1814–1870) – испанский генерал, участник войны с Марокко (1859–1860), англо?франко?испанской интервенции в Мексику (1861–1867) и т. д., в 1868 г. организовал военный мятеж среди моряков, занял Кадис, Картахену, Барселону, а затем и Мадрид, в 1869–1870 гг. был президентом совета министров Испании и погиб в результате покушения республиканцев.
[11] Энрике Понсе (р. 1971) – испанский матадор, первый тореро, удостоенный за свое мастерство Золотой медали в области искусства и звания академика Королевской академии наук и благородных искусств Кордовы.
[12] Фредерик Марриет (1792–1848) – английский писатель, моряк, автор приключенческих морских романов и один из основоположников этого жанра. Роберт Баллантайн (1825–1894) – викторианский шотландский писатель, автор приключенческих книг для юношества.
[13] Сеньорита Пепис – популярные с 1960?х годов и по сей день игрушки для девочек: что?то вроде ателье, парикмахерской и спа?салона для кукол, учит делать прическу, макияж, плести кружева, вышивать и делать украшения.
[14] El Corte Ingl?s – сеть испанских торговых центров.
[15] 26 августа 1990 г. в Пуэрто?Уррако (провинция Бадахос) в результате конфликта с соседями братья Антонио и Эмилио Искьердо открыли стрельбу, убив девять и ранив около пятнадцати человек. Суд приговорил их к 684 годам тюрьмы.
[16] Воин в маске – персонаж популярных испанских комиксов, созданный Мануэлем Гаго Гарсией в 1943 г.
[17] Лорд Джим – заглавный герой романа Джозефа Конрада (Lord Jim, 1900).
[18] Цитата из культового фильма британского режиссера Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» (Blade Runner, 1982) по мотивам романа Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электрических овцах?» (Do Androids Dream of Electric Sheep?, 1968).
[19] «Зеркала одной библиотеки» (Espejos de una biblioteca, 1997) – книга профессора Мурсийского университета Хосе Пероны Санчеса (1950–2009), специалиста по исторической грамматике.
[20] Элио Антонио де Небриха (Антонио Мартинес де Кала?и?Харана?дель?Охо, 1441–1522) – испанский филолог, историк, педагог, грамматист и поэт.
[21] Капитан Арчибальд Хэддо к – персонаж серии комиксов «Приключения Тинтина» бельгийского художника Эрже (Жорж Проспер Реми, 1907–1983), капитан дальнего плавания, лучший друг главного героя Тинтина. Здесь и далее в тексте фигурируют персонажи и реалии вселенной Эрже.
[22] «Талисман» (The Talisman, 1825) – исторический роман Вальтера Скотта, посвященный событиям Третьего крестового похода. «Приключения Гильермо» – испанская версия детских рассказов Just William (1922–1970) о школьнике Уильяме Брауне, принадлежащих перу Ричмел Кромптон Лэмбёрн (1890–1969).
[23] Имеется в виду эпизод т. н. Первой Тихоокеанской войны, где Испания сражалась с Перу и Чили, к которым позднее присоединились Боливия и Эквадор.
[24] Зд.: кабинет (англ.).
[25] Родольфо «Фито» Паэс Авалос (р. 1963) – аргентинский рок?пианист, автор?исполнитель и кинорежиссер. Освальдо Сориано (1943–1997) – аргентинский журналист и писатель. Роберто Фонтанарроса (1944–2007) по прозвищу Негр – известный аргентинский карикатурист и писатель. Все трое – уроженцы Росарио.
[26] Рейнальдо Луис Сьетекасе (р. 1961) – аргентинский журналист, тоже уроженец Росарио.
[27] «Остров Головорезов» (Cutthroat Island, 1995) – приключенческая комедия кинорежиссера Ренни Харлина о поисках пиратских сокровищ; Джина Дэвис сыграла в ней дочь пирата, а Мэттью Модайн – ее подельника, жулика Уильяма Шоу.
[28] Педро Сармьенто де Гамбоа (1532–1592) – испанский мореплаватель, писатель, ученый и гуманист, исследователь чилийского побережья, автор труда по истории инков.
[29] Спинакер – выпуклый легкий парус, на яхте используется как дополнительный, по принципу действия сходен с парашютом.
[30] «Ближе, Господь, к Тебе» (Nearer, My God, to Thee, 1841) – христианский гимн английской поэтессы Сары Флауэр Адамс; по рассказам спасшихся пассажиров, его играл оркестр, когда «Титаник» уже погружался в воду.
[31] Имеется в виду безрассудная «атака легкой кавалерии», эпизод Крымской войны, которому Альфред Теннисон (1809–1892) посвятил одноименное стихотворение (The Charge of the Light Brigade, 1854).
Библиотека электронных книг "Семь Книг" - admin@7books.ru