
Краденое солнце | Александр Мелихов
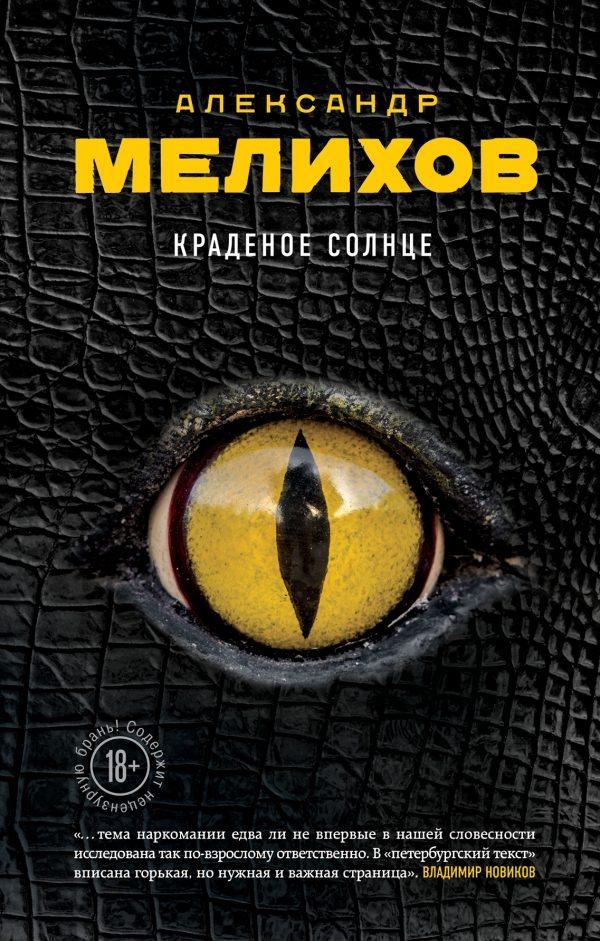
Александр Мелихов
Краденое солнце
Чудесная семья: родители и двое сыновей. Жизнь, подобная идиллии: чистая, добрая, словно наполненная солнцем. И вдруг – беда: младший становится наркоманом.
Многих коснулось это горе. Сначала – поиски ответов на вопросы: когда это случилось? кто виноват? за что это мне? что делать? Потом – попытка понять: тот ли это славный ребенок, любимец матери и отца, или совершенно незнакомый человек, кукла, зомби? А следом – выбор решения: как прекратить невыносимый кошмар? дать погибнуть пропащему или сгинуть всем вместе?
Какие бы муки ни переживал наркоман, более жестокие мучения ожидают тех, кто принимает его страдания близко к сердцу. От их лица написано «Краденое солнце» (новая редакция «Чумы» А.Мелихова) – один из самых горьких романов начала ХХI века.
У Вити не было оснований очень уж обожать свое прошлое — обожать до такой степени, чтобы сквозь желтеющую муть давнишней-пре-давнишней заскорузлой фотографии (солнце сквозь повисший в воздухе пепел) мучительно или мечтательно вглядываться в неразличимые лица одноклассников, с трудом отыскивая в них себя — востроносенького, горестного, еще не прикрытого от мира даже очками, — кому было задуматься, отчего мальчуган постоянно щурится — ясно, чтобы поменьше видеть. А что разглядишь в полузабытом — это смотря чью уверенность возьмешь с собой в экскурсоводы: Витя с пеленок испытывал робость и почтение перед людьми, которые твердо знают, как оно есть на самом деле.
Сам-то Витя не мог бы с твердой уверенностью сказать, каков на самом деле даже и родной его отец. Когда-то во тьме времен в дверях возникало что-то очень большое и доброе — ты летишь к нему со всех ног, и оно возносит тебя в вышину. Потом папа сделался культурным дяденькой в подтяжках, который, чем бы ты ни занимался, обязательно буркнет: «Делом бы лучше занялся». Дяденька этот и впрямь целыми днями и даже в выходные занимался делом в таинственных гремучих пространствах «Авроры», но, судя по всему, большой радости это ему не приносило, так что агитировал он личным примером не слишком удачно. Теперь же отец вроде бы превратился в небольшого целеустремленного пенсионера с прилизанными редкими висками, явно из простых, до страсти захваченного собственным здоровьем — постоянно раскладывал пасьянсы из анализов всевозможных жидкостей, сосредоточенно, словно ученый-экспериментатор, наносил на миллиметровку новые уголки ломаной линии своего кровяного давления, тщетно пытавшейся подобраться к верхней границе нормы, — это увлечение позволяло отцу забыть, что его бессовестно ограбили, отняв у него — нет, не те сто восемьдесят четыре рубля, которые лежали у него на сберкнижке (как блокадник, он и пенсию получал приличную), а заводы, пашни, газеты, пароходы. Каким-то причудливым образом еще в годы перестройки он умозаключил, что если Сталин тиран и садист, то и его жизнь прошла напрасно, и теперь искал забвения в анализе анализов да в нескончаемой перестройке белого кухонного гарнитура Пенелопы: заезжая навестить стариков, Витя иногда обнаруживал гарнитур во всем белом больничном сиянии бесчисленных ящичков (мать тоже любила больничный стиль, не делая различий между красотой и гигиеной), но в следующий раз уже снова скалился один гарнитурный скелет, а вся красота опять разложена на части по нумерованным тетрадным листочкам, тоже, в свою очередь, разложенным по напудренному деревянной пыльцой линолеуму, а отец вновь что-то к чему-то подгоняет надфилем, ежеминутно прикладывая к подгоняемому вытертую до кинжальной ясности стальную линейку.
Когда-то Витя твердо считал отца чрезвычайно образованным человеком, инженером, но еще задолго до того, как он случайно наткнулся в комоде на отцовский диплом об окончании техникума, в гостях у Сашки Бабкина ему открылось, какие бывают настоящие инженеры — и костюм с инженерским ромбиком (у отца такого не было) намного заграничнее, и обращение как бы на равных, но с юморком: что скажете, молодой человек?.. Однако стоило матери в очередной раз упомянуть, что папа у него инженер, как он немедленно снова обращался в инженера — в шляпе, в пальто, тогда как немаркое облачение других обитателей поселка им. Бебеля, на миг отвернувшись, уже невозможно было вспомнить — «одежда», и больше ничего. При этом дома «инженер» был очень почетным титулом, зато на улице, среди юной рабочей поросли он немедленно превращался во что-то начальнически-постыдное, что необходимо было искупать особой оборван-ностью и бесшабашностью. А поди искупи, когда мать так неукоснительно стоит на страже чистоты и дисциплины!..
Короче говоря, на все можно посмотреть и так и этак — обладай Витя склонностью к философствованиям, он бы, пожалуй, даже заключил, что мысль обобщенная есть ложь, но Витя к философствованиям не был склонен, и, больше того, автор на всякий случай спешит предупредить, что все наиболее вычурные образы в дальнейшем, равно как и предшествующем, принадлежат ему, а вовсе не герою. Герою, например, даже не приходило в голову сравнить свою мать с пиа-нистом-виртуозом, когда она своими до скрипа промытыми пальчиками пробегала по стопе отглаженных полотенец (сплющенных глажкой вафельных — вспученные китайско-махровые и дурак бы пересчитал) и сразу знала, сколько в ней штук: с младенчества не могший надивиться на это чудо, Витя каждый раз еще глубже постигал, почему именно маму у нее на работе назначили старшей. Старшая медсестра… Витя и во взрослости немного побаивался командных бряцаний в материном голосе, внушала ему некоторую робость и ее манера смотреть, будто приглядываясь, а потом вдруг взять твою голову в маленькие сильные ладони и быстро повернуть сначала влево, потом вправо — проверить уши. И руки в одно мгновение осмотреть снизу-сверху, успев еще и молниеносно охватить состояние ногтей. (Мама немного путала любовь и гигиену.)
Командные нотки — они при нынешних ее коротко, по-военному стриженных стальных сединах только отчетливее позвякивали в материном голосе милицейскими подковками на лестнице. Но теперь Витя заметил: с этими же командными бряцаниями она всегда поддакивала собеседнику, лишь заостряя его слова непримиримостью. Скажем, начнут при ней ругать правительство — да, конечно, ворье, понахапали, о народе не думают; начнут ругать народ — тоже правильно: лодырь на лодыре, алкаш на алкаше, а все им кто-то другой виноват! Так и какова же его мать на самом деле?..
Начнешь доверять памяти — обязательно вспомнишь, чего и не было. Одно из самых первых Витиных воспоминаний в глазах стоит, как двоюродный брат Юрка, тоже еще трехлетний бутуз, сидя на сосредоточенных корточках, пытается гвоздем выковырять глаз у котенка. Видеть это Витя точно не мог, его тогда почти что и на свете еще не было, он только слышал, как мама кому-то рассказывала, четко разводя руками: «А он сидит и выковыривает котенку глаз!..» — и так с тех пор и жил с этой картинкой под веками. Заметим попутно, что в глубине души Витя понимал Юрку: глаза у котят, да и у кошек тоже, сияют до нестерпимости завлекательно. Разумеется, Витя и помыслить не мог, чтобы попытаться добыть из котенка его драгоценный глаз, но к собственным своим глазам Витя перед зеркалом приглядывался, приглядывался… И что-то его тянуло подобраться поближе к безумному и непоправимому: в уголке глаза, у переносицы есть такой розовенький треугольничек, нежный, как Витина же изнанка губы, — так Витя в позднем дошкольном возрасте иногда покалывал его булавкой, треугольничек.
Это было настолько странно, что Витя и за эту картинку не мог бы уверенно поручиться. Вот ходить по потолку и стенам он, похоже, действительно ходил: приставишь зеркало ко лбу козырьком и, в зависимости от его наклона, крашеные половицы превращаются то в потолок, по которому вышагивают твои собственные ступни, то в стену, по которой те же ступни спокойно спускаются вниз. А когда поворачиваешься, начинает кружиться и пол, сделавшийся стеной, хотя без зеркала совершенно очевидно, что кружишься ты сам, а пол стоит на месте, — все в мире зависит от того, в какое зеркало его разглядывать.
Вообще, вдумываться — верный способ потерять последнее, в чем ты еще был уверен. Можно годы и годы общаться с людьми, любить их, ценить, радоваться, когда им хорошо, сострадать, когда им плохо, скрывать досаду, когда они очень уж достанут, — и все будет катиться своим чередом. Но чуть задумаешься, каковы они на самом деле, какого отношения к себе они заслуживают по справедливости… Тут-то и сделаешься игрушкой тех счастливцев, кому точно известно, кто такие все твои знакомые и как ты с ними должен себя вести. По этой причине Витя хотя и почитал, но бессознательно сторонился уверенных людей. А поди-ка сыщи, кто бы ни в чем не был уверен!..
Тот же Юрка. Взять объективно — вроде как даже и неудачник: сидел по два года в каждом классе, пока Витя его не догнал, а потом уже все списывал у Вити. Затем еще два года отсидел в тюрьме за то, что взял за лицо участкового, явившегося при исполнении служебных обязанностей выяснить, на каком основании Юрка позволил себе выбить передний зуб склочному соседу, желавшему хотя бы и такой ценой обрести тишину после двадцати трех часов по местному времени. Теперь Юрка работает на стройке, зимой и летом расхаживает в переливающемся тренировочном костюме; когда говорит, заметна серьезная недостача в зубах — целых три зуба за зуб соседа, хоть и с отсрочкой, потребовала с него судьба: Юрка вез в электричке приобретенную на очень выгодных условиях подержанную гитару (он так ловко обменивал и делил после разводов квартиру за квартирой, что теперь оказался шестым коммунальщиком в городе Луга), общительный парняга из соседнего веселого купе попросил инструмент на пару песен, но попросил недостаточно вежливо: заранее протянул руку. «Не протягивай руки, а то протянешь ноги», — сделал ему внушение Юрка, очень щепетильный в таких вопросах. Оскорбленный гитарист выбрался к Юрке: «Ну-ка, встань!» — «Если я встану, то ты ляжешь». В школе когда-то Юрка был здоровый, как дикий кабан, могучими мотаниями корпуса раскидывал повисших на нем шавок, но лет в пятнадцать остановился, и довольно многие, воспользовавшись этим, его переросли. Однако Юрка так и до сих пор себя понимал — как могучего кабана.
— И вдруг он разворачивается и хуячит… Извини, Аня, — обезоруженно разводит он руками, обращаясь к Витиной жене (Юрка большой джентльмен, а в своей трехцветной бороде водяного — прямо писатель патриотического направления), — но тут по-другому не скажешь.
И так это у него аппетитно получается, что не захочешь, а поверишь — не в зубах счастье. И не в том, что нос подсвернут набок, словно Юрка прижал его пальцем, чтобы высморкаться, а нос почему-то так и застыл.
Человек твердо стоит на ногах — это ясно видишь, когда Юрка умело ухватывает на электричку билет без очереди, и еще яснее — когда со знанием дела, со знанием имен и международных соглашений костерит министров и депутатов: не остается ни малейшего сомнения, что это не Юрка, а Ельцин и Чубайс неудачники.
Что существовало вне всякого сомнения — так это поселок им. Бебеля. Ибо он и поныне существует, поглощенный, но так до конца и не переваренный новостройками, которые, и обветшав, остались «новыми», поскольку так и не выучились что-либо говорить человеческому сердцу помимо того, что вот это — жилые дома. Можно хоть сейчас спуститься в метро, доехать до конечной станции, затем проходными сталинскими дворами добраться до трамвайной эстакады, набраться стойкости дотерпеть до нужного номера (прежнего, только сам вагон совершенно другой и снаружи и внутри — лакированные реечные скамьи вдоль стен сменились дерматиновыми креслами, и двери складываются-раскладываются, а не отъезжают-возвращаются со стуком гильотины) и потом долго-долго греметь и мотаться, греметь и мотаться над сиротливыми железнодорожными путями, мимо каких-то ангаров и пакгаузов, мимо стареющих, но не мудреющих новостроек, одетых в бетонную скуку героических когда-то, а ныне стертых машинальностью имен маршалов и сержантов, среди бывших зарослей, превратившихся в пустыри, среди бывших пустырей, обращенных в чахлые скверы, и так до гордой некогда пятитрубной «Авроры», теперь не то ЗАО, не то АОЗТ, заслоненной все теми же бетонными ящиками, не иначе как в издевку окрещенными «кораблями», а там уже — сердце начинает наддавать и наддавать — пора вглядываться в неразличимые остановки и так все же и не распознать, которая из них тебе нужна, какими именно «кораблями» затерта Витина малая, уж такая малая родина — приходится спрашивать у поредевших пассажиров: «Простите, пожалуйста, на Комин-терновскую где выходить?»
Имя центральной улицы поселка Бебеля сохранилось, но все наружные приметы поглощены бетоном, и даже до оторопи грязная, еле живая речушка — и та упрятана в бетонную трубу, так и похоронена безымянной (кто вспомнит — да кто и прежде помнил! — что Сашка Бабкин называл ее таинственным Потомаком). Но, как ни странно, кто-то каким-то чудом знает, где Вите следует сходить.
«Ты пытайся зачерпнуть силу в мире своего детства, — по-доброму советовала ему Аня. — Вот я, когда становится совсем невыносимо, стараюсь вспоминать, как я была хорошей девочкой, читала серьезные книги и верила, что если я буду хорошей, то и мир мне ответит добром». — «Но ведь теперь-то ты знаешь, что это неправда?..» — осторожно спросил Витя, и она покорно пожала плечами: «Что же делать, все равно без этой веры жить нельзя».
Однако мир Витиного детства представлялся заслуживающим доверия лишь до тех пор, пока был маленьким, вернее, обозримым. И все в этом мире было свое. Нет, не только свои мудрецы и свои храбрецы, но и своя Великая Отечественная война: здесь каждый мог показать, где стояли наши пушки, а где немецкие, а вот на тех бескрайних огородах неведомого Совхоза погиб Витин дядя (здесь взяли, здесь и погиб), ответственность за имя которого Витя до сих пор ощущает на своих плечах. Даже немцы здесь были свои — сначала старавшиеся размолотить в кирпичную крошку поселок своего земляка Бебеля, а потом так же старательно восстанавливавшие размолоченное, и Витя усматривал особо воспитующую умышленность в том, что на фронтонах желтых двухэтажек, растопырившихся трехоконными трехгранными выступами да плоскими балконами, на которых не мог уместиться даже ребенок, но которые все же необходимо было подпереть кудрявыми пилястрами, — что на этих фронтонах пленных немцев заставляли отливать серпы и молоты вместо, конечно же, тайно вожделеемой ими свастики.
Теперь-то Витя, разумеется, понимал, до какой степени жалки эти поползновения на архитектурные излишества, но они, в отличие от новостроек, все-таки, что-то, как-никак пытаются изобразить, а стремление что-то изображать и есть то главное, что отличает человека от ящера, а здание от ящика, — так, скорее всего, высказался бы Витя, обладай он склонностью к философствованиям. Занавеси, склоненные знамена и в гипсовой своей ободранности хранят гордое терпенье, подкова изобилия, как и во времена дефицита, по-прежнему охватывает пружинную дверь в гастроном густым сплетением колосьев, тыквочек, груш, яблок, винограда, чье пребывание на прилавках ближнего захолустья даже и не предполагалось, — но вся эта гипсовая роскошь и торжественность напоминали человеку, что помимо мира тусклых реальностей существует еще и пышный мир мечты — от него-то и отказались благоустроенные спальные районы. Если человек живет для того, чтобы спать — ясное дело, ему покажется чистой нелепостью величавая арка меж двухэтажками, открывающая почтительному взору густошерстый пустырь (ныне растоптанный бетонными коробами), вскипающий ядреными репейниками и могучими лопухами в тогдашний человеческий Витин рост, а за ними бескрайняя, до сказочного Залива, вечно волнуемая ветром зеленеющая нива прибрежных тростников, которые Сашка Бабкин впоследствии называл сельвой (а пустырь — пампасами). Ночью сквозь арку на полуосвещенный двор взирала бескрайняя тьма, но, впервые решившись ступить за ворота своего мироздания, Витя обомлел перед необъятностью света, такой же, оказалось, устрашающей, как и необъятность тьмы. Безграничность — вот что страшнее всего. Кажется, уже тогда он начал приглядываться к смерти — из безмерностей безмерности.
А рискнув со временем углубиться в эти будущие пампасы, Витя был повергнут в немое изумление, до чего их невероятно много — этих лопухов, репейников, крапивы и прочего всяческого бурьяна: он ВЕЗДЕ. Вообще, самые впечатляющие потрясения Витя переживал в ту пору, когда просто поражался, ничего ни на что еще не употребляя. Это потом оказалось, что из репьев, впивающихся друг в дружку, можно плести уютные мохнатые корзиночки, но можно этими цепучими бомбочками и просто кидаться, помирая со смеху, если которая-нибудь кому-нибудь прицепится на неприличное место; это потом оказалось, что юную крапиву можно есть, а злой, задеревеневшей — пугать друг друга; это потом оказалось, что лопухами можно зачем-то прикрываться от солнца или обмахиваться, как опахалами, играя в султанов, — все эти удовольствия были ничто в сравнении с тем замиранием сердца от всеобщего упорства и необъятности этих мясистых трав, которые перли ВСЮДУ, не разбирая дорог и площадей, не беспокоясь, нужны они или не нужны кому-нибудь здесь, наверху.
Конец ознакомительного фрагмента — скачать книгу
Библиотека электронных книг "Семь Книг" - admin@7books.ru