
Любимая игрушка Создателя | Инна Бачинская
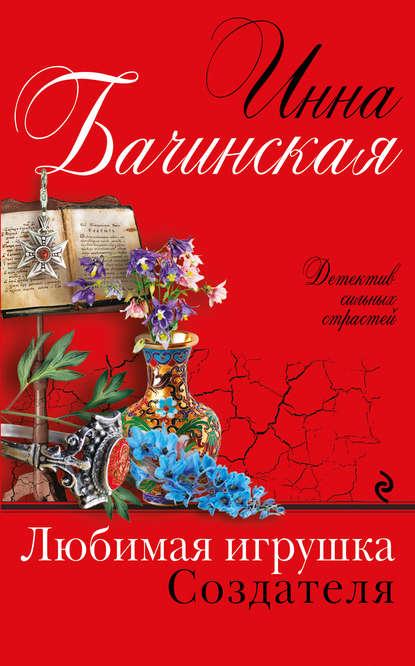
Инна Юрьевна Бачинская
Любимая игрушка Создателя
Детектив сильных страстей. Романы И. Бачинской
* * *
Ни один человек никогда не был самим собой целиком и полностью; каждый тем не менее стремится к этому, один глухо, другой отчетливей, каждый как может. Каждый несет с собой до конца оставшееся от его рождения, слизь и яичную скорлупу некоей первобытности. Иной так и не становится человеком… Но каждый – это бросок природы в сторону человека.
Герман Гессе. Демиан
Действующие лица и события романа вымышлены, и сходство их с реальными лицами и событиями случайно и непреднамеренно.
Автор
Пролог
Весна в том памятном году выдалась ранняя. Лед на реках вскрылся уже в начале февраля. В начале марта ожили деревья, а в апреле зацвели сады, и столбик термометра взлетел кверху и заколебался между двадцатью пятью и тридцатью по Цельсию.
Почему памятный? И кому? Памятный человечеству, разумеется, извините за громогласность и сомнительность утверждения, потому как кто же может судить, находясь в непосредственной близости от события, что останется в памяти, а что нет, и, главное, кто судьи?
Но тем не менее, тем не менее… Главное, ожидаемое с нетерпением событие года – намеченная на апрель пресс‑конференция одиозной личности, международного террориста и плейбоя Йоханна Фрауэнхофера, обвиняемого в умыкании и физическом устранении ряда известных политиков и бизнесменов, торговле оружием, наркотиками и людьми. Был он также замешан в ряде шпионских скандалов.
Йоханн Фрауэнхофер дает пресс‑конференцию не по собственной воле, а по требованию международной общественности, ряда неправительственных организаций и Международного союза журналистов, будучи подсудимым Гаагского трибунала. Хотя не факт, что человек этот упустит возможность покрасоваться перед камерами, оттягиваясь за годы неизвестности и подполья.
Подлинное имя этого человека не известно никому, равно как и биография. Никто не знает, в какой стране он родился, когда, кем были его родители. Никто не имеет понятия, какую он посещал школу, верит ли в Бога, женат ли. Никому не известен даже его подлинный возраст. Судя по фотографиям, ему около пятидесяти. Йоханн Фрауэнхофер, улыбаясь, смотрит в объектив с первых страниц газет: подняв руки, приветствует читателей и заодно демонстрирует наручники. Светлоглазый блондин с загорелым лицом любителя гольфа. С чувством юмора. Оптимист. Чувствуется, что верит в свою звезду. Невольно вызывает симпатии читателей и зрителей, с нетерпением ожидающих зрелища, вместо ожидаемых отвращения и страха. Что напоминает бесконечную классическую голливудскую сагу – хороший преступник против плохого полицейского.
Преступления Йоханна Фрауэнхофера не подлежат юрисдикции Гаагского трибунала, но какой еще суд может похвастаться кристальной чистотой рядов и неподкупностью судий? И мастерством прокурора? Существовало вполне обоснованное опасение, что связи Йоханна тянутся ко многим международным фигурам, которые сейчас чувствуют себя довольно неуютно и могут предпринять попытки подкупа судейских, а также не остановятся перед физическим устранением подсудимого.
Для проведения исторической конференции была выбрана столица небольшой европейской страны, и резвые акробаты‑журналисты со всех уголков планеты уже примчались на точку, расселились по многочисленным гостиницам и стали борзо наговаривать на магнитофоны километры пленки, нагнетая обстановку, со смаком предвкушая разрушения репутации публичных людей, замешанных в скандальных связях с фигурантом, гадая на кофейной гуще, кто есть кто, и вешая на подсудимого все политические убийства за последнее десятилетие.
А также заключали пари с коллегами о шансах террориста дожить до суда.
Мир замер перед очередным политическим суперскандалом. Права на показ пресс‑конференции купили две ведущие международные телекомпании, два хищных мировых гиганта, две акулы, к которым, как рыбы‑прилипалы, прилепились компании поменьше. Избранный город был наводнен полицией и агентами секретных служб не только Европы, но и обеих Америк. Никто не знал толком, где в данный момент находится Йоханн Фрауэнхофер – в гаагской ли тюрьме или уже здесь, отдыхает в местной. Кто‑то пустил слух, ссылаясь на самые достоверные источники там (конспиративный шепот и приподнятая многозначительно бровь), что его поселили в отеле «Континенталь» под неусыпной охраной, и ретивая братия массмедиа немедленно поскакала к отелю и взяла его в осаду…
Часть первая
Умение читать знаки
Глава 1
Свидетель
Старик был неопрятен и болтлив. Годы одиночества превратили его в отшельника. Он устал от молчания. Он давился мясом, роняя на грудь крошки, жадно заталкивал в рот куски хлеба, запивал чаем. Руки его заметно дрожали. Взгляд из‑под косматых бровей был дик. Он перескакивал с темы на тему и заикался от возбуждения. Лицо покрылось красными пятнами. Он опьянел не только от водки, но и от присутствия благодарного слушателя. Отводил душу, выплескивая всю накопившуюся там муть. Гость слушал не перебивая и почти не задавал вопросов. Старика не нужно было понукать, со злобной радостью он выкрикивал случайному человеку свои обиды, претензии, разочарования. На государство, местные власти, соседей – алкоголиков и наркоманов. Впервые за долгие годы у него появился слушатель, и он весь отдался пиршеству плоти и духа.
– Кинули! Кинули нас всех! Мы жизни ложили, в огонь и воду, а теперь пенсия курам на смех! А эти… выродки! – кричал он сиплым шепотом, и непрожеванные куски падали изо рта. – Ты попробуй давай, послужи, режимный объект, закрытая зона, вы такого в жизни и не нюхали, я с тех пор спать перестал, не поверишь! Лежу ночью, вспоминаю, заснуть не могу, сердце так и ноет, так и ноет, как на беду. И не хочу, а вспоминаю, прости господи! Отродье, а не люди. Нелюдь! Они же тебя выворачивали наизнанку, как поганую шкуру, влазили в душу, они же все про тебя знали. Все!
Он мучительно закашлялся. Гость подтолкнул стакан с водкой. Старик выпил залпом, благодарно кивнул.
– Было кое‑что, я не писал в анкете, – сказал доверительно. – Сам понимаешь, секретный объект, оборонка, там это строго… – Старик смотрит на незнакомца выпученными глазами, конспиративно придвигается лицом к его лицу, пугаясь собственной смелости, но остановиться уже не может. – Так эта паршивка Мария уставилась однажды своими черными глазищами, аж, поверишь, мороз по коже, руки сложила за спиной, ногу за ногу завернула, стоит передо мной, как сейчас помню, и спрашивает: «А где твой брат, Сторож?» Меня как варом обдало – ни одна живая душа не знала, что у меня был сводный брат, ушел с немцами. Я‑то и не видел ни разу этого самого брата, да и фамилия была другая. Это сейчас можно что ни попадя и по телевизору, и по радио, и совершенно секретное, а тогда анкета – самое ценное, что у человека было за душой. Жизнь зависела от анкеты, работа, все! Жизнь зависела. А больше ничего и не было.
Ну и говорит она мне, эта паршивка Мария, – а где твой брат, Сторож? Сторож – это я, там имен не было, а только номера и клички. Я так и обомлел весь, а сам глазом повел – нет ли кого рядом. А она, эта сучка малая, нелюдь, почуяла, говорит, не бойся, Сторож, я никому не скажу! И руку положила мне на рукав, и в глаза смотрит своими зенками, а меня такой страх взял, не передать. Ну, я руку выпростал, сделал вид, что ничего не понял, отвечаю, иди в класс, Мария, иди уроки делай, нечего тебе тут без дела болтаться…
Старик молчит недолго, смотрит в стол, словно вызывая в памяти прошлое. Гость тоже молчит. Старик продолжает:
– Они при деле были с утра до вечера, то уроки с Учителем, то в лаборатории, на них все время опыты ставили как на зверях. Звери и были бездушные. Хоть и без души, а запросто человеку в душу влазили. И Хозяйка их боялась до дрожи, иногда перекинемся парой слов – там с этим тоже строго было. Боялась и ушла бы, да уходить тоже боялась, да и деньги немалые. И паек. Ничего не скажу, грех жаловаться. Платили по‑божески, со счетов не скинешь. Говорила, аж в ногах слабость, как зыркнет кто из них. Даже, когда просто рядом, говорит, аж плохо делается, руки‑ноги отнимаются. Как сказала она про это, тут меня сразу как долбанет по башке – а ведь правда! Неможется мне, когда они рядом, хотя на здоровье никогда не жаловался. Слабость наваливает и такая тоска смертная, хоть волком вой. И в глаза им не смотрю, говорит Хозяйка, а ну как сглазят! Хорошая была женщина…
Старик задумывается. Гость снова наливает водку в нечистый граненый стакан. Старик благодарно смотрит на него. Он еще больше опьянел, красные пятна на покрытых мхом серых щеках превратились в малиновые. Он опрокидывает стакан, крякает довольно. Занюхивает хлебом, сует в рот кусок мяса.
– А ты из какой же газеты будешь? А то сейчас развелось их как поганок. Желтая пресса, в руки брать противно. Никто не следит, никому не надо. Я много чего знаю, много чего! Про такое и говорить страшно, – последние слова он шепчет. – И не говорят про это никогда, ни гугу, про все можно – и про политиков, и про… коррупцию, и всякие разоблачения, а про это – молчок, как и не было.
Он прикладывает корявый палец к губам, выразительно смотрит на гостя. Ему приятно, что тот слушает внимательно, с уважением, не то что… – Не пришло время, – шепчет он, – и никогда не придет. Есть такие государственные секреты, про которые знают… кому надо, раз‑два и обчелся. Это все, что в телевизоре, это так, мелочовка, фуфло. Про наш объект никто и никогда… Ты первый!
Речь его становится все менее связной, он теряет мысль и повторяется. Гость – молодой человек в темном плаще, который он так и не снял, внимательно слушает. Старику, подозрительному и недоверчивому, уже кажется, что они старые добрые друзья, он кладет руку на плечо молодого человека… как его? Старик бессмысленно смотрит на гостя, вспоминая, как того зовут. Память ни к черту. Сказал, из газеты, показал удостоверение… Страшно! Тогда было страшно, сейчас тоже страшно. Что за жизнь проклятая! А он говорит – вы на своих плечах, не жалея живота, видел, говорит, материалы, теперь разыскиваю участников, веду журналистское расследование. А только где ж он мог видеть те материалы? Поди, запечатаны глубоко в секретных архивах без срока давности.
– Их четверо было в нашем корпусе, выродков, – говорит он. – Трое мальцов и девка. Хозяйка говорила, вроде как были еще корпуса, но я не видел, врать не буду. Она рассказывала, подслушала – Учитель докладывал Главному, что вроде как поразительных результатов достигли в науках, в математике и в других. А ведь им было лет по пять, ну, по шесть от силы, не больше. И вроде как родные были. Братья и сестра. И еще говорила, что Главный вроде как отец им. Уж не знаю, как и что у них там было, а только, может, и правда. Уж очень похожи были на него, а между собой – просто не отличить. Копия. А с другой стороны, какой отец на такое пойдет? Их же каждый день водили на опыты, проводами опутывали, записывали, изучали. Я ночью проверял спальни – они кричали во сне и дергались, как от боли, аж оторопь брала. Постою на пороге, постою да и пойду себе. Дверь закрою, чтобы не слышать, чай из термоса налью, перекушу. Так ночь и проходит.
А днем полегше было, люди приходили. Хозяйка, хорошая женщина, у нас с ней вроде как отношения намечались, да страшно было, этого вроде как нельзя было. Никаких личных отношений…
А один, уже и не помню который, они ж все одинаковые были, говорит однажды: «Сторож, замри!» И смотрит, лыбится, выродок, глаза страшные, а я не могу ни рукой шевельнуть, ни ногой, тяжесть такая навалилась, не передать. Тяжесть и тоска смертная, ну, все, думаю, кранты. Сейчас паралик хватит, и готов. А он смотрит так жадно, аж рот раскрыл, интересно гаденышу, что здоровый мужик… а я здоровый был, в теле, не то что сейчас… что здоровый мужик чуть не сомлел от такого шибздика. Потом засмеялся и говорит: «Отомри!» И побежал прочь. А я, как мешок, свалился на пол. Не сказал никому, побоялся, подумал, что могут списать, а деньги хорошие платили. Ну и терпел. Старался в глаза им не смотреть, а в сторону, даже когда говорил или спрашивали чего. Они в глаза, а я мимо…
Мне на жизнь не хватает, пенсия никакая, а недавно в телевизоре увидел, был у нас такой, отвечал за секретность, все с папочкой ходил, во все углы заглядывал, шарил. Выспрашивал, кто да что, не видел ли, не слышал ли, может, чего заметил. А я вроде как не понимаю, чего он добивается. Себе дороже. Никак нет, говорю, все в порядке. А теперь по телику выступает, до генерала дослужился, а такой же бледный и глаза белые, и вроде как совсем не переменился. Почетный пенсионер. Я ему письмо отписал, так, мол, и так, живу не ахти, вспоминаю общие годы совместной службы, жду ответа. Да думаю, не ответит, не по чину, что я против него…
…Наш объект режимный был. Охрана, колючая проволока, на территорию мышь не проскочит. Их выпускали в сад каждый день и зимой, и летом. Мария рылась в земле, выкапывала жуков, сидела, рассматривала, говорила сама с собой. Мальчишки собирались вместе, голова к голове, шептались о чем‑то, вроде как прятались. Учитель поглядывал, но не вмешивался. Что‑то писал в тетрадке. А однажды я видел, как один из них, не знаю который – я их не различал, – поднял руки кверху, пальцы растопырил, как когти, и вдруг смотрю – камень из земли выпрастывается, поднимается в воздух и висит там, а потом падает назад. Тяжелый, так и шмякнулся! Я глаза протер, а потом зырк на Учителя, видел ли, а того аж перекосило – видел, конечно, видел! Тетрадка на коленях лежит, ручка на землю упала, застыл как неживой, шевельнуться боится. Я отвернулся – не дай бог увидит, что я заметил.
Старик надолго замолкает. Он устал, возбуждение угасло. Ему хочется прилечь. Гость снова наливает водки. Старик мотает головой – хватит! Колеблется, потом все‑таки опрокидывает стакан, утирается рукой. Сидит, повесив голову, забыв о госте.
– Что было потом? – спрашивает журналист.
Старик поднимает голову и бессмысленно смотрит на молодого человека. Пожимает плечами.
– Не помню, – бормочет. – Меня потом уволили в запас. Главный помер прямо в лаборатории, Учитель ушел то ли по своей воле, то ли нет… Не знаю. Всякое болтали. Хозяйка тоже ушла, даже не попрощалась. Так и не видел больше никого. Да и не хотелось, скажу тебе. Если честно, себе дороже. Ты первый, кому рассказал…
– А дети?
– Дети? – Старик смотрит на журналиста бессмысленным взглядом. – Дети… Один помер, с утра увели в лабораторию и больше не вернулся. Хозяйка говорила, что сердце не выдержало. А потом и Главный помер, через два или три дня следом. Хозяйка говорила, неспроста это. И этот, с папочкой, безвылазно сидел, выспрашивал, записывал на магнитофон, маленький такой, как коробок от спичек.
– Как его фамилия?
– Кого? – не понимает старик. – Кого?
– С папочкой.
– А… этот. – Старик жует губами. – Этот… генерал Колобов… вроде. Или как‑то похоже. У меня записано. Персональный пенсионер…
– А что ж в них было такого страшного?
– Да нелюди ж! Их же в лаборатории сделали, опыты ставили! Вроде как все при них, на других детей похожи, а только не люди, а дьявольское отродье, все про тебя знали, ничего не утаить. И подчинить могли, и заставить делать, чего не хочешь, и забыть, и глаз замылить. И похожи друг с другом, как с конвейера, не отличишь. Хозяйка подслушала, вроде, как разведчиков готовили, новую расу для идеологического фронта.
Они сидели молча, не глядя друг на друга. Молодой человек рылся в карманах плаща.
– Ты, парень, иди себе, – произнес вдруг старик, не поднимая головы. – Устал я чего‑то, неможется. Не привык гостей принимать. Да и не знаю больше ничего. Я, вообще, мало что знаю. И подзабыл уже все. Ты там будешь писать в своей газете, не говори, от кого узнал. И фамилии моей не называй. Мало ли чего. Мне неприятностей не надо. Иди. – Старик тяжело поднялся, первым пошел к дверям, волоча ноги. Журналист пошел за ним. Уже в прихожей старик спросил неожиданно: – А какой же будет день сегодня? – Услышав ответ, удивился, пожевал губами. – А мы ж вроде как на завтра с тобой договаривались… На семь вечера. А пришел сегодня. А я и забыл совсем… ничего не помню. Эх, старость! За гостинцы спасибо, а только больше не приходи, не надо.
Он согнулся, возясь с замками. Из‑под старой клетчатой рубашки торчали острые лопатки. Молодой человек протянул руку, дотронулся пальцами до тощей шеи старика. Сдавил.
Потом переступил через безвольно упавшее тело, открыл дверь и вышел на лестничную площадку. Постоял секунду‑другую, прислушиваясь, и легко побежал вниз по лестнице…
Глава 2
Дежавю
Должность ведущего программиста в крупной фирме по техническому обеспечению банков, приличная зарплата, снисходительный шеф – что еще нужно для счастья молодому человеку, не обремененному семьей? А если добавить, что жена шефа, прекрасная Диана, часто навещает этого молодого человека в его однокомнатной холостяцкой квартире, то жизнь явно удалась! А если добавить к этому, что Диана молода, красива, влюблена, то… сами понимаете! Сравнительно молода.
Знакомые и друзья считали вполне небезосновательно, что Андрей Калмыков любимчик судьбы. И что самое интересное – никто не завидовал, а наоборот, все были уверены, что так и надо, держали его за славного парня, надежного и своего в доску. Всякий раз, когда о нем заходила речь в компании, кто‑нибудь непременно вспоминал, как Андрей навещал его в больнице, как он два часа в магазине копался в компьютерах, выбирая самый‑самый для сынишки знакомого, а однажды целую ночь просидел с кинорежиссером Славиком Дробкиным, мизантропом и неврастеником, который в приступе депрессии собирался покончить жизнь самоубийством. Неизвестно, что именно он говорил Славику в ту ночь, а только депрессию у того как рукой сняло, он даже женился вскоре, хотя всегда был женоненавистником, а новые его киноленты поражали безудержным оптимизмом и верой в человека.
Прекрасная Диана… Или Дива, кому как нравится. Ей подходит и то и другое. Диана‑охотница. Ослепительная Дива. Она готовила ему нехитрую еду – жарила картошку и здоровенные отбивные, ей нравилось смотреть, как он ест. Особенно после секса. Она расхаживала по его кухне нагишом, накладывала полные тарелки, открывала баночки с маслинами, доставала из шкафа перец, резала хлеб, не разрешая себе помочь. Совала ему в рот куски повкуснее и говорила, говорила…
– Господи, – говорила она, – какое удовольствие смотреть на голодного мужика, у которого нет язвы, которому чихать на холестерин и диету, который жрет так же жадно, как и трахается!
– Сядь! – отвечал он с набитым ртом. – Ты меня смущаешь. Я стесняюсь. У меня пропадает аппетит!
– Заткнись! – говорила она счастливо, впихивая ему в рот очередной кусок. – Говорить буду я, а ты кушай, набирайся сил. Ты мне нужен сильный, мужественный и красивый. Не торопись, у нас впереди целая ночь. Я сегодня у подруги, у нее депрессия, и всякое может случиться. Папочка не против, классный мужик! Мне повезло.
– Нам обоим повезло, – говорит он. – Тебе особенно. Хотел бы и я такого мужа…
– Зачем тебе такой муж, если у тебя есть я? Если у тебя есть мы оба? Папочка о тебе очень высокого мнения, говорит, славный малый, работает за троих. А если бы он знал, что ты и после работы вкалываешь не покладая рук, то есть не рук, конечно, но и рук тоже… и вообще. Представляешь?
– Тебе не стыдно?
– А тебе? Трахать жену шефа? Ты меня хоть любишь? Это единственное, что могло бы тебя оправдать. Против любви не попрешь.
– Люблю, – отвечал он искренне. – Хочешь, я сделаю тебе предложение?
– Наконец‑то! Хочу!
– Выходи за меня замуж!
– А попросить у папика моей руки слабо? Прийти к нему и так прямо и заявить, что трахаю, мол, вашу Диву, а? И хочу, как честный человек, жениться на ней.
– Запросто! А если он согласится?
– Тогда придется жениться, никуда не денешься. Будем жить здесь, места у тебя много. Согласен? Жаль только, гаража нет, а с другой стороны, на хрен нам тачка? Общественный транспорт и рай в шалаше.
– Ты же знаешь, что согласен! А машина у меня есть.
– За это я тебя и люблю! – Диана берет его голову в ладони и целует его лицо – глаза, нос, щеки. Поцелуи сыплются градом. Он пытается поймать ее губы, но она уворачивается. – И откуда ты только взялся, чудо мое? Вскружил голову бедной немолодой женщине… Сравнительно немолодой, – поправляет себя, – в самом соку. Свалился с какой‑нибудь неизвестной планеты, не иначе. А что – в тебе есть что‑то потустороннее, я давно замечаю. А мы, женщины, слабый пол, тайна нас влечет, летим, как бабочки на огонь…
– Ты моя бабочка‑красавица! – Он привлекает ее к себе на колени.
– И умница?
– Самая умная бабочка на свете!
– То‑то. Все схватываешь. А скажи я папочке, что я бабочка, да еще и самая умная на свете, он бы решил, что мне пора к психиатру.
– Ты необыкновенная, Дива, – говорит он искренне. – Я таких не встречал.
– А кого ты вообще встречал? – возражает она. – У тебя все еще впереди.
– У нас! Ты красивая, умная и добрая. – Он зарывает лицо в ее легкие светлые волосы и говорит: – Как ты вкусно пахнешь!
Он представляет себе, как Дива приходит в один прекрасный день, или вечер, или ночь, открывает дверь своим ключом и говорит с порога: «Я насовсем! Принимаешь?»
Он даже не ревнует ее к мужу. Каждое свидание с Дивой – незаслуженное чудо, и наличие мужа – вроде дани за это чудо.
На экране телевизора – ведущий вечерних новостей Коля Павликов, старинный приятель Андрея Калмыкова, известный в городе как Черный Самиздат – прозвище, запущенное им, Андреем, за Колькину способность во всем видеть одну чернуху и предсказывать буквально на завтра эпидемию чумы, покушение на первых лиц в городе, разборки кланов со стрельбой и жертвами, повышение цен на все подряд и теракт на очистных сооружениях, в результате чего город зальет… сами понимаете чем. Звук был выключен, Коля разевал рот, как большая озабоченная рыба, хмурил брови, смотрел проникновенно и печально честными выпуклыми глазами. Что опять стряслось? Андрей включил звук.
– Ушел из жизни замечательный человек, – сказал Коля Павликов проникновенно. – Умный, честный, принципиальный политик, яркая личность, прекрасный друг и соратник, которого будет не хватать всем нам. Его уход величайшая несправедливость и незаживающая рана на теле партии. Мы пригласили в студию первого заместителя Валерия Зотова господина… Прошу вас…
Со скорбным лицом Коля поворачивается к немолодому человеку, сидящему рядом. Лицо у того слегка растерянное, узел галстука слишком туг, щеки багровы. Коля наливает из бутылки минеральной воды, протягивает гостю. Звук льющейся воды неожиданно громок. Андрей вздрагивает, трет виски. Звук льющейся воды, пузырьки газа в стакане… Он чувствует резкую боль в затылке, почти падает в кресло и закрывает глаза.
– Невосполнимая потеря… не могу передать… скорбь… – бубнит соратник сипловатым, каким‑то бабьим голосом, но Андрей не слышит и не понимает его, сознание вырывает лишь отдельные бессвязные слова.
– Я слышал, Валерий Степанович жаловался на сердце… – заботливо подсказывает Коля.
– Валерий не щадил себя, – не сразу произносит сбитый с мысли заместитель. – Сколько раз я просил его показаться врачам… Он жил работой, делами партии, он сгорел, можно сказать, на посту, без него все уже будет не так…
– Скажите… – Коля делает многозначительную паузу. – Скажите, у Валерия Степановича были враги?
– Враги? – недоуменно переспрашивает гость. – Ну, не знаю… А при чем тут враги? – вдруг говорит он резко. – Что вы хотите этим сказать?
– Ровным счетом ничего, – отвечает Коля, и лицо у него делается невинно‑глуповатым. – Просто подумал, сколь многим он стоял поперек дороги…
Андрей усмехнулся – в этом весь Колька Павликов, гордость местной журналистики. Напустить туману, уронить намек, часто даже не словами, а приподнятой бровью, вскользь брошенными «да?» или «неужели?».
– У нас много врагов, – говорит гость, твердо решив сделать вид, будто не понимает грязных намеков журналиста. – Но это не значит… ничего не значит!
– Значит, были враги. – Колька задумчиво кивает. – Политические, разумеется.
– А у кого их нет? – резонно замечает гость. Видно, как он устал, как давит ему узел галстука. Он не знает, куда девать руки. Скомканный носовой платок он положил на стол, и тот лежит на полированной поверхности стола чужеродным неопрятным комком.
– Да не нервничайте вы так, – говорит Колька участливо. – Водички?
– Не надо! – бросает гость, с ненавистью глядя на своего мучителя. – Жарко тут у вас…
Дальше Андрей смотреть не стал, щелкнул кнопкой пульта. Ему было не по себе. Боль в затылке стала тупее, но чувство тревоги все усиливалось, и он еще раз пожалел, что ушла Диана. Дива. Настоящий друг, понимающий его с полуслова, с полувзгляда. Она сразу заметила бы, что с ним что‑то происходит. Он побрел в спальню, улегся на кровать. Подушка пахла духами Дивы. Умерший от сердечного приступа человек был лидером партии «Патриоты», Андрей как‑то видел его по телевизору, но имени не запомнил. Он вообще далек от политики.
Андрей вдруг увидел лицо Зотова, совсем близко, вполне отчетливо – плотно сжатый рот, прядь, упавшая на лоб. Глубокие борозды морщин на щеках. Широко раскрытые глаза, в которых застыли страх и ожидание. Боль снова уколола в виски…
…Коля Павликов ввалился около полуночи, изрядно на взводе, с грохотом уронил на пол пластиковый пакет с бухлом, чертыхнулся. Его повело – он схватился рукой за одежду на вешалке, обрушивая ее. Был он радостен и возбужден.
– Ну, старик, наконец хоть что‑то… в нашем сонном царстве. Ты не понимаешь, я из этого конфетку… журналистское расследование… класс! – кричал он, обнимая Андрея и прикладываясь к его лицу серой от усталости, небритой физиономией. – Когда завалили банкира Сычкина о прошлом годе, я локти себе кусал, был в Дубаи. Ленька делал материал, изгадил, как всегда. Ну, держитесь, гаврики, теперь мой звездный час, не поверишь, старик как чуял… отказался от командировки! Молодец, что позвонил. Надо отметить в тесном кругу. Поверишь, с утра не жрамши!
«Вот так, одному горе, другому радость», – вяло подумал Андрей Калмыков, следуя за гостем в комнату.
Коля упал на диван, разбросал руки по спинке, присмотрелся к другу. Спросил: – Ты как, старик, в порядке? Смотришься квело, если честно. Динка бросила?
– Не бросила. Подустал малость, шеф новый проект задумал. Слушай, а этого… как его… – Он намеренно не произнес имени, не смог заставить себя. – Этого политика, лидера, его что, действительно… Смотрел твою передачу. Здорово ты соратника размазал, чуть ли не убийцей выставил, даже жалко стало. Тебе не стыдно?
– Стыдно? Я тебя умоляю! Все они одним мирром мазаны, эти политики! Пауки в банке, не поверишь, старик, сколько грязи и гадости, сожрать друг друга готовы… Деньжищи немереные крутятся… а жадность – не передать! Как рвутся к власти, как обливают помоями идейных врагов, как глотки перегрызают, это же охренеть! А предвыборные обещания! Вы нас только выберите! Нас! А уж мы вас… всех! Видали в гробу. Даже афоризм запустил какой‑то остроумец, прочитал тут недавно: больше всего врут перед выборами, сексом и после рыбалки. Никогда бы не пошел в политику, та же проституция. Журналистика – честный и открытый бизнес, что знаю, рассказываю, бью в набат, бужу сознание масс…
– А чего не знаю? – перебил Андрей.
– А чего не знаю, то узнаю, – подхватил Коля. – Журналистское расследование называется, слышал?
– Ты думаешь, его… убили?
– А хрен его знает! – махнул рукой Коля. – Вообще‑то не тот калибр, но убивают и за доллар. Теперь зам пойдет в гору, а я знаю, что они не ладили, и Зотов его съел бы в конце концов, крутой мужик был, царствие ему небесное… как говорится, хотя насчет последнего сомневаюсь. Ну да ладно, о покойниках… сам знаешь.
– Но ведь нельзя же так огульно… – начал было Андрей, испытывая странное мучительное чувство тоски и тревоги.
– Почему нельзя? Можно. В наше время все можно. Ладно, успокойся, старик. Есть кое‑что, твой покорный слуга нарыл, но об этом пока… молчок! – Он приложил палец к губам и рассмеялся пьяно и счастливо.
– Что именно… нарыл?
– Ага, зацепило! Ты же никогда не интересовался политикой, старик. Нарыл! – Вид у Коли был торжествующий, взгляд неожиданно трезвый. – У меня везде свои люди, маленькие незаметные человечки, которые ничего не упустят из виду, все схватывают, и если попросить хорошенько, с удовольствием поделятся. За наличные.
– А менты… что?
– А что менты? Отрабатывают версии. Они отрабатывают, а я творю! Со мной народ держится раскованнее, сам понимаешь, я из них все вытащу, меня не боятся, меня любят! Я же рупор и будитель масс…
– Возбудитель, – говорит Андрей.
– Можно и так. Виагра для масс. А что, очень даже. Надо будет запустить в обиход. В тебе, Андрейка, заложено творческое начало, я давно говорил…
– И что… же это? – упорствовал Андрей.
– А то, что камера засекла человека, входившего в дом, хотя консьерж клянется, что никого не было.
– Думаешь, врет?
– Черт его знает. Может, уснул на посту. Или опоили чем‑нибудь…
– И это все?
– Поверь мне, старичок, это не мало, – снисходительно заметил Коля. – К ним чужие не ходят. Только свои. Отгородились от мира высоким забором, понимаешь, элита. Слово‑то какое приличное, а как испоганили. Политическая элита! А морды, морды! Заповедник уродов. Вот если ты со своей вывеской когда‑нибудь подашься в политику, старичок, бешеный успех тебе гарантирован. Особенно у слабого пола.
– Человека можно узнать?
– К сожалению, нет. – Коля развел руками. – Не все коту масленица. Видна только спина. В темной куртке, темноволосый, не старый, до сорока, во всяком случае.
– А его семья, политика… где?
– Дети в Англии, как у многих патриотов и радетелей за отечество, жена практически живет на даче. У Зотова на утро была назначена важная встреча, после чего он обещал ей сразу приехать. В десять утра жена стала звонить ему, он не отвечал. Она приехала сама и нашла его в спальне… Смерть наступила предположительно до полуночи накануне, неизвестный вошел в дом в одиннадцать двадцать… Усекаешь?
– То есть, ты думаешь, смерть была… насильственной? – он заставил себя выговорить это слово.
– Явных следов нет, старик, – с сожалением ответил Коля. – Ни беспорядка в квартире, ни сброшенных на пол подушек, ни повреждений на теле. Ни открытых окон и балконных дверей. Замок входной двери не поврежден. Вскрытие не обнаружило яда. Но есть один маленький нюансик… – Коля замолчал, глядя на друга загадочно, интригуя по своему обыкновению.
– Ну? – спросил Андрей нетерпеливо.
– Ага, и тебя забрало. А нюансик следующий – выражение лица покойного, старик. Зотова что‑то здорово испугало. Это даже не страх, это ужас. У меня есть фотографии, достали свои люди. – Коля полез во внутренний карман куртки, которую так и не успел снять. Достал конверт, бережно вытащил две фотографии, разложил на журнальном столике. – Смотри!
Лицо человека на фотографиях было искажено судорогой, рот оскален, взгляд устремлен на что‑то или кого‑то рядом. Он лежал на боку в неестественной, натужной позе, пальцы левой руки скрючены, словно он собирался схватить что‑то или защититься, правая – под подушкой. Андрей узнал его, именно таким он видел его… где? Он отвел взгляд, чувствуя подступающую дурноту.
– Видишь, он сунул правую руку под подушку, там был пистолет. – Коля потыкал пальцем в фотографию. – Нет, старик, все не так просто. Человек, проникший в дом во время смерти Зотова, – это не случайное совпадение. Неизвестный в доме, оружие под подушкой, размолвки с замом, жена на даче, страх… Сердце у него, кстати, в пределах нормы, жена говорит, был у врача недели две назад. Давление слегка повышенное, согласно возрасту и занимаемой должности, но ничего угрожающего. Нет, старик, поверь моему длинному носу – он за версту чует вонь жареной тухлятины!
Андрей невольно усмехнулся – нос у Коли был чисто славянский, луковицей.
– Кстати, – вспомнил Коля, – его жена говорит, иконка‑то пропала!
– Какая иконка?
– Николая Чудотворца, серебряная, маленькая, стояла на ночном столике. Он с ней не расставался, говорил, талисман. Внук у них Коля, четырех лет, тоже в Англии, между прочим. Они страшно скучали, ждали на лето.
– И это тоже, по‑твоему, улика?
– Не знаю, – честно признался Коля, подумав немного. – Вроде не лепится. Но ты не переживай, старик, я что‑нибудь придумаю. Красивый штрих намечается, эмоциональный, тайна чувствуется, даже мистика где‑то – пропавшая икона. Вроде как свидетель убийства… и исчезла. Читатель любит такие нюансы. Я это обыграю.
– Не буду переживать… – пробормотал Андрей. – Обыграешь, я тебя знаю.
– То‑то, старик. А чего это я еще трезвый? Даже странно как‑то, – спохватился Коля и потер руки в предвкушении славного вечера в компании друга. – Андрейка, я тебе говорил, что люблю тебя? А знаешь, за что? Ты умеешь слушать! Давай, неси продукт!
Андрей кивнул, соглашаясь. Ухмыльнулся невесело – второй раз за вечер ему признались в любви…
Глава 3
Ведьма
Марго, красотка Марго, роковая женщина, профессиональная ведьма, заглядывая в глаза курице‑клиентке своими неистовыми терновыми глазами, проговаривала звучным, низким, сипловатым голосом пошлую белиберду, надоевшую ей до оскомины:
– Вы не знаете себе цены, женщина, вы себе не хозяйка, ради любви вы готовы на ненужные жертвы. Вы отдали ему свое тепло, любовь, деньги…
– И кольцо, – подсказывает клиентка, нервная молодящаяся дамочка с красными пятнами на скулах и тоскливыми глазами неудачницы. – С брюликами, покойный муж подарил.
– И кольцо, – соглашается Марго, сдерживая зевок. – И многое другое. Вы отдали ему свое сердце. Он вас мучает. Он вам неверен. Он вам врет и гуляет от вас. Видный мужчина, – говорит она, переводя взгляд на фотографию чмыря в бейсбольной шапочке.
Клиентка порывисто вздыхает.
– Ничего, – утешает ее Марго. – Прибежит как миленький. Руки будет целовать, в ногах валяться. Я дам вам настойку из тибетских трав, будете подмешивать утром в чай или кофе, пятнадцать капель на стакан. Силы необыкновенной. Но вы должны сами решить…
– Я решила, – шепчет клиентка, прижимая руки к груди. – Беру!
– Но это еще не все, – говорит Марго.
– Что? – пугается клиентка.
– Вы должны кардинально поменять свои стереотипы, – говорит Марго. – Вы должны проявить твердость. Денег не давать, коньяк не покупать.
– А если он уйдет к Зойке?
– Не уйдет. Подсядет на капельки и, считай, готов. Но, имейте в виду, никакой слабины. Видели яйцо?
– Видела, – шепчет клиентка.
– Желток закодирован на вашего сожителя. Поставите под кровать, где голова. За ночь натянет, утром добавьте уксус, две ложки, размешайте и медленно вылейте в раковину. И не смывать водой. Пускай постоит. На ночь повторите опять. И так целую неделю. Вот вам настойка. Да, яйцо не белое, а коричневое. Чем темнее, тем лучше. И не болтун, а свежее. С базара. Первое я вам дам, потом будете покупать сами. Технология та же. Завтра с утра возьмете какую‑нибудь его вещь, небольшую, желательно не новую, ну там, галстук или майку, можно носок, свяжете узлом, и под матрац. Сразу бегать перестанет, шагу из дома не сделает.
– А он… – мнется клиентка, испуганно глядя на Марго. – А вдруг он…
– Не бойтесь. Потеряет силу только на посторонних женщин. Сможет только с вами.
Клиентка кивает, вздыхает порывисто. Она сидит напряженная, как струна, сцепив руки, с побелевшим от волнения носом, резким румянцем на скулах, сдерживая противную дрожь в коленках. Кидает беглые взгляды на невзыскательную атрибутику ведьмовского ремесла – хрустальный шар, серебряные чуткие колокольчики, едва слышно звенящие от легчайшего сквознячка, задрапированные черным стены небольшой комнаты. Ветхую рассыпающуюся книгу с пожелтевшими страницами на черном лакированном пюпитре. Ей страшно и стыдно, она никогда не верила в ведьмовскую силу и всякие привороты, но женщина с работы сказала, надо идти. Эта Марго, сказала женщина, самый сильный экстрасенс в городе и белая ведьма, училась в Тибете у монахов‑лам, есть диплом. Если Марго возьмется, прибежит твой кобель как миленький. Вон у меня у соседки тоже гулял, а после Марго сидит дома, как пришитый. Даже пить перестал. Она же им всю генетическую кодировку перестраивает.
Марго… Сочная, яркая, хоть и не намазанная. Как глянет своими черными глазищами – мороз по коже. Руки открытые, с ямочками у локтей, с тонкими нежными пальцами, карты так и мелькают. Клиентка оторваться не может от ее рук – создал же Господь такую красоту! Прячет под стол свои, костлявые, с ярким лаком. Похоже, одна живет – клиентка исподтишка разглядывает комнату. Да и в прихожей никаких следов мужика. И вообще скудно как‑то, не по деньгам. А ведь очередь стоит, не протолкнешься. Записала по блату та самая, с работы. Сказала, согласилась Марго принять ее в воскресенье, святой день для отдыха. Но подороже.
На плечах Марго черный платок, расписной, крестьянский, в красные и синие розы. Поверх черной блузки, открывающей руки и грудь. На шее – серебряный мальтийский крестик на тонкой цепочке. На перекладине его – круглый сизо‑голубой, как голубиный глаз, камешек, вставленный хитро в сквозное отверстие и прихваченный незаметными лапками сверху и снизу. Отчего кажется, что камешек парит в отверстии вопреки законам тяготения.
Брови у Марго сведены в одну линию, низкий голос чуть с хрипотцой. В ней начисто отсутствует базарная суетливость и говорливость коллег по цеху. Она серьезна до мрачности, но не внушает робости. Наоборот, ей сразу веришь. Веришь и в то, что очереди, что сто́ит сеанс таких денег. И вообще, что все будет хорошо. Как она положила руку на фотографию, прикрыла глаза, замерла – только жилка бьется на горле. Аж мороз по коже! Где‑то в глубине сознания клиентки шевелится мысль, как бы не навредить беспутному, и вместе с тем азарт какой‑то – ату его, паршивца! Будет знать!
Марго нисколько не стыдно. Жить‑то надо. А это и не обман вовсе, а надежда. Если бы только эти тетки ее слушались…
– Сколько я вам должна? – спрашивает клиентка.
Марго деловито называет сумму. «Ого!» – отражается на физиономии клиентки. Самый приятный для Марго момент – деньги на бочку.
Женщина уходит, полная надежды, унося с собой пузырек с бесценной тибетской настойкой – зеленый чай и вода из‑под крана. Марго потягивается. Обводит взглядом бедноватую обстановку, задерживается на задернутом черными шторами окне. «Что?» – спрашивает громко в пространство. С утра ей муторно. И губы сохнут. Она перебрала все возможные причины слабой скулящей боли в затылке, предвестницы неприятностей. Все чисто. Шестое чувство, боковое зрение, интуиция, инстинкт – все молчит, а боль в затылке настойчиво предупреждает. О чем? И губы сохнут неспроста…
Марго не только умна, но и образованна. Десять лет назад она почти окончила философский факультет педагогического университета. Несмотря на бурную юность. Окончила, не окончила, а диплом получила. Иногда рассуждает с клиентками о смысле жизни. Если попадается не совсем уж безнадежная. Но таких мало. Все больше ходят простецкие, обиженные да битые жизнью, которым кажется, что настойка тибетских трав сработает. Да и откуда взяться другим в их спальном районе? Марго уговаривает себя, что нужно пересидеть, зарыться в ил, прижать ушки. Пока все не уляжется. Пока не уляжется. Если уляжется…
А иногда, лежа без сна в чужой постели, в затрапезной бедной спальне, в дешевой квартире, снятой расчетливо и экономно, она думала: «К черту!» Этот не оставит ее в покое, найдет! Дьявол, сатана, выродок… Может, окончить все разом, смыть грех… Но желание жить было таким сильным, надежда внутри билась таким мощным родником, что она всякий раз говорила себе – успею. Туда я всегда успею. Живой он меня все равно не получит. Это было утешением – живой он ее не получит! Этого она и держалась…
Марго подходит к окну, отодвигает штору. Черный джип внизу резко тормозит у подъезда. Другой, словно невзначай, перекрывает выезд со двора. Марго отшатывается, словно ее ударили. Тонкое острое сверло ввинчивается в затылок. Вот оно! Она распахивает дверцу буфета, хватает с верхней полки заранее приготовленный сверток с деньгами. В прихожей сдергивает с вешалки плащ, сбрасывает домашние туфли. Опираясь рукой о стенку, всовывает ноги в сапоги, рвет молнию застежки. Неслышно открывает дверь, выскальзывает на лестничную площадку и, перескакивая через две‑три ступеньки, мчится наверх.
Из всхлипывающего разболтанного лифта выскакивают трое странных людей – в черной одежде, с лицами, закрытыми масками, с автоматами. В высоких шнурованных ботинках. Еще трое неслышно поднимаются снизу. Они собираются у двери. Один из них поднимает руку, делая знак остальным. С пятого этажа, шаркая больными ногами, спускается старуха. Люди в черном резко оборачиваются. Старуха испуганно замирает, распластываясь по стене.
Старший взмахивает рукой – проходи, мол, не задерживайся. И старуха послушно тащится вниз, бормоча что‑то про лифт, которого не дождешься. Выйдя из подъезда, почти падает на лавочку. Сидит, сгорбленная, низко опустив голову, напоминая кучу тряпья. Двое у подъезда переглядываются. Испугалась бабка?
Звонок пронзительно дребезжит в пустой квартире. Один из боевиков, повинуясь знаку старшего, бежит наверх, перескакивая через несколько ступеней зараз, другой налегает плечом на дверь. Хлипкая дверь, словно только того и ждала, распахивается. Похоже, не была заперта. Двое врываются внутрь, застывая у двери в комнату. Из‑за их спин двое других проникают в пустую комнату, поводя стволами. Они перекатываются в пространстве, как волны. Движения их точны и выверены и напоминают балетные па. Люди эти – безликие машины для убийства.
Кухня, гостиная, спальня. Большая обшарпанная квартира имеет нежилой вид. Здесь пахнет пустотой. Пустотой и пылью. Давно не мытыми полами. Мебели почти нет, в облезшем буфете – разнокалиберные чашки и несколько стаканов. В спальне – аккуратно застеленная скромным покрывалом кровать. Настольная лампа на прикроватной тумбочке. Под лампочкой – раскрытая книга обложкой кверху. На обложке красотка бьется в руках маньяка. Детектив.
Комната для сеансов, затянутая черной тканью, выглядит убого в ярком дневном свете – один из непрошеных гостей сорвал с окна черную штору, подняв при этом столб пыли. Окно не открывалось целую вечность – между рамами мумии ночных бабочек и мух. Тревожно звенят и покачиваются на сквозняке забытые серебряные колокольчики. Словно предупреждают об опасности. Таинственно сверкает сине‑зелеными бликами забытый хрустальный шар, подвешенный на нитке к люстре. Медленно поворачивается вокруг ниточной оси. Шар, равно как и люстру, не мешало бы хорошенько вымыть.
Человек с треском распахивает окно, свешивается вниз. Окидывает взглядом пустой двор, черный джип у подъезда, черный джип у выхода со двора, двое у подъезда курят. Выхватывает старуху на лавочке, ту самую, которая спускалась с верхних этажей. Испугалась, старая, сидит, отдыхает. Словно почувствовав его взгляд, старуха поднимает голову. Лицо ее закрыто платком, большим крестьянским платком в синие и красные розы…
В квартире ни души, лишь гуляют сквозняки, выметая пыль из углов, да еще эхо прорезалось. Шаги людей в черном, легкие, как шаги хищников, эхо повторяет и усиливает, создавая странный акустический эффект, от которого у нормального человека мороз продрал бы по коже и немедленно появилось желание убраться подальше.
Чайник на плите еще теплый. Мусорное ведро пусто. Посуда вымыта. Кухонное полотенце, аккуратно сложенное – справа от раковины. Ящики и полки дешевой кухонной мебели полупусты – какая‑то разнокалиберная щербатая посуда. Капает кран. Постукивает дробно раскрытая форточка, отзываясь на порывы весеннего ветра. На окне раскинулся спрутом пыльный столетник – мощные зеленые колючие стебли в светлую крапинку.
В кладовке – коробки и старый хлам, пахнущий тленом. Похоже, сюда давно никто не заглядывал.
Они собираются в прихожей. Один тычет дулом автомата в одежду, висящую на вешалке. Повинуясь знаку старшего, выходят. Бесшумно скатываются с лестницы.
– Где бабка? – спрашивает старший уже на улице.
– Только что была здесь, – удивляется стоящий у подъезда. – Сидела вот тут. – Он показывает рукой.
Скамейка пуста…
В машине старший надевает наушники, выстукивает позывные:
– Докладывает «Куница». Объект не найден. Разрешите…
Он умолкает и слушает ответ. Глаза его делаются белыми от бешенства. Боевики сидят молча, смотрят в сторону, сочувствуют командиру.
Глава 4
Рыцарь на распутье
Юлий Величко, Юлик для знакомых девочек, Юлька для приятелей, Гай Юлий для подруг‑интеллектуалок. Еще уважительное Юлик‑банкир – для знающих, своих, подельщиков. Он шел по парку куда глаза глядят, тяжело и косолапо ступая по лужам здоровенными ботинками, глубоко сунув руки в карманы длинного, до пят кашемирового пальто с громадными плечами. Крупный, импозантный, с обрюзгшим недовольным лицом, Юлий рассекал – другого слова и не подберешь – по парковым аллеям чуть не с самого утра. Ходил, как слепая лошадь по кругу, наматывая расстояния, не видя ничего вокруг, уставясь себе под ноги, но и там, под ногами, не замечая ни луж, ни грязного нерастаявшего еще снега.
И только когда упал на облезшую скамейку, почувствовал, как устал. Гудели ноги, ломило поясницу, даже плечи ныли – Юлий не привык ходить пешком. Полулежал с закрытыми глазами, отходил. Даже задремал. И мысль невнятная мелькнула, уже не впервые, что ничего не надо. Ничего. И идти некуда. И делать нечего. Приехали на конечную. Все обрыдло. Даже жрать не хочется, хотя утром выпил Юлий чашку кофе без ничего, а теперь уже перевалило за полдень. И водки не хочется, хотя все в нем всегда радостно оживало при мысли о запотевшем стопарике и белых маринованных грибочках. И погода серенькая, нехолодная, землей пахнет. От сырого запаха земли стало его подташнивать, и вспомнилось, как хоронил мать. Год назад, тоже весной. В такой же серенький день. Он еще подумал тогда, что хоть не так обидно, не то, если бы день был яркий и солнечный.
Мать звали Александра Величко, и была она хрупкой, поразительно красивой женщиной с зелеными глазами. Красивой даже в свои семьдесят с гаком. Оба Водолеи, мать и сын, но она, оправдывая свое мужское имя, была жестче и сильнее расслабленного ленивого Юлия с его бабским именем. Как над ним потешались в школе, и в этом было не только неприятие его имени, но и классовый протест, не осознанный в силу возраста, против его барственности, высокомерия, карманных денег, больших по тем временам.
Мать его была балериной в ранней молодости и до самого конца сохраняла подвижность и гибкость, а жизнь свою загнала в железные рамки – гимнастика по утрам, овсянка на завтрак, травяной чай без сахара, долгие прогулки в дождь и ведро – по пять километров ежедневно, массаж, витамины, девятичасовой сон.
«Ты – Величко! – говорила мать. – Должен соответствовать!»
Юлий соответствовал. Были в нем с ранних лет такие вальяжность и солидность, что учителя стеснялись ставить ему двойки, а натягивали тройки и даже четверки. Учился он плохо. Было ему неинтересно учиться. Ему было интереснее зарабатывать деньги. Не на стройке, разумеется. В картишки поигрывал, и в своей возрастной категории, а вскоре и среди мужичков постарше, не было ему равных. Знакомства водил с фарцой, сутенерами и шулерами – факт, который позабавил бы мать и удивил учителей, доведись им узнать об этом. Но учителям было по барабану, лишь бы сидел тихо. А у матери никогда не было времени. Юлик узнал об изнанке жизни достаточно рано, но у него хватило ума понять, что козырять этим не следует. И женщин познал раньше одноклассников – только ухмылялся внутренне, слушая пацанские их россказни о каких‑то мифических бабах. И врать умел убедительно, и шельмовать в карты, и лоха развести при случае на фальшивых лейблах ширпотреба. Его породистое лицо, дорогая одежда и правильная речь внушали доверие, и он этим пользовался на полную катушку. С легкостью необыкновенной он переходил с полублатного, пересыпанного матами, на вполне приличный язык, и везло ему по жизни больше, чем жуликоватым сотоварищам. И во всяких злачных местах, подпольных притонах и казино принимаем он был за своего.
Когда начались смутные времена, когда поперли, как грибы‑поганки, сомнительные кооперативы, банки, разномастные СП, Юлий не остался в стороне. Пошел по банковскому делу. Не один, разумеется, а с понимающими людьми. Рыба в мутной воде водилась не очень большая, но ее было много. А с мира по нитке… сами понимаете. Привлеченный крупным процентом, лох рванулся продавать квартиры и дачи в призрачной надежде заработать. Плюс умелая реклама – радио и телевидение расстарались. Рассказы очевидцев, интервью с косноязычными, заикающимися от счастья везунчиками. Непуганый лох наперегонки рванул в сети. Ночами стоял под банком, сжимая кровные в потных ручонках, шумел, что надо по справедливости, что не имеют права, требовал доступа в элитный банковский клуб. Даже страшно выговорить, сколько обломилось тогда Юлию. И кликуху уважительную припаяли «Банкир». Юлик‑банкир.
Знала ли мать, чем промышляет ее сын, как он зарабатывает себе на хлеб – большой вопрос. Денег у нее он не просил, квартиру отдельную в центре города купил, одну, потом другую, звонил часто – любил мать. Заходил в гости, когда бывал в родном городе, всегда предварительно позвонив. С цветами и шампанским, как к любовнице.
Юлий мог не видеть мать по полгода, твердо зная, что у нее все в порядке. А если чуть прихворнет, то лучшие врачи к ее услугам. Ничего страшного. Он бы очень удивился, если бы кто‑то сказал ему, тот же астролог, например, что он подспудно верит в то, что мать – его талисман, маскот, тотем, семейный божок, который защитит и обережет, когда приведут судьба и Господь. Неосознанно, подспудно, инстинктом верил, а не сознавал разумом. Разумом он верил только в себя и наличные. Мать восхищала его, и, вспоминая, что нужно позвонить, он неизменно ухмылялся любовно и бормотал: «Александра ты моя Величко».
И вдруг она умерла. Во сне. Тромб оторвался, и остановилось сердце. В ее смерти была противоестественность, поразившая его. Его поразила несправедливость судьбы – она умерла, имея все, а какой‑нибудь грязный голодный оборванец, ночующий в подвале, тащится по жизни и не собирается… туда. Господи, почему? Или нами руководят слепцы? Смотрят сверху безглазыми лицами и тычут наугад пальцем. И не спасают ни деньги, ни связи. И получается, нет смысла…
…В театральном фойе было тесно от толп народа, прощавшегося с Александрой Величко, море цветов было, музыка, речи, из которых он с некоторым удивлением узнал, что мать была гордостью столичной сцены (когда же это, подумал он), членом каких‑то женских организаций, кому‑то помогала, сидела в президиуме, добивалась благ для неимущих и многодетных, используя свои связи и популярность. Он ухмыльнулся тогда – образ матери с изумрудами в ушах и на шее никак не вязался с неимущими…
Ему пожимали руки, просили крепиться, убеждали, что мать была необыкновенным человеком, а ему казалось, что она только притворяется мертвой, а на самом деле все слышит, и сейчас заломит бровь и подмигнет ему зеленым смеющимся глазом, и губы шевельнутся незаметно, и скажет она только ему, чтобы никто не слышал: «Выше нос, Юлька! Помни, ты – Величко!»
Он как‑то сразу сдал после ее смерти. Отошел от бизнеса, крутизны поубавилось. Женщины перестали волновать. Все обрыдло. Кризис среднего возраста, климакс и депрессия – все, как описано в учебнике.
Он полулежал на скамейке, тяжелый, обрюзгший, в шикарном пальто, дорогие перчатки брошены небрежно рядом, печать богемы на личности – длинные с проседью черные волосы, массивное квадратное лицо, набрякшие веки, чувственный рот. Кремовый, сырого шелка длинный шарф – вокруг шеи в три ряда. Заслуженный деятель искусств, не иначе, красивый еще мужик в летах, режиссер, обдумывающий в спокойном месте очередное судьбоносное произведение – фильм, пьесу, мемуары. Никому и в голову не придет, что сидящий на скамейке человек – профессиональный картежник, шулер высокого полета, аферист, делающий деньги из воздуха и на ровном месте, гастролирующий по столицам близкого и дальнего зарубежья. Человек аморальный, жестокий и подлый. Человек, полный дурного азарта, в совершенстве постигший постыдное ремесло обмана и ограбления ближнего. Для которого главное в жизни деньги, первоклассные еда, питье, одежда и женщины.
Ранняя, холодная еще весна, в беспощадном ее свете – толстый, старый, облезший, как и эта скамейка, бонвиван. Растекся по сиденью, по ребристой жесткой спинке, и чувствует, как выдавливаются из него по каплям жадность и радость жизни. Вернее, жалкие остатки и отголоски былых радости и жадности, и ничего уже не хочется. Вставать со скамейки не хочется. Идти домой не хочется. Ничего не хочется. «Помереть бы к чертовой матери, – подумал Юлий. – Интересно, когда найдут?» Он представил себе, как его, мертвого, грабит случайное жулье – деловито обшаривает карманы, опустошает портмоне, сдирает с пальца старинный перстень с сердоликовой печаткой, рвет нетерпеливо и жадно платиновые часы. При виде ключа от квартиры и документов радостно прищелкивает языком – ну, лох, попал! Следующий шаг – отправиться по адресу. Лично он так бы и сделал, если бы пришлось. Тьфу!
И впервые Юлий взглянул на себя отстраненно, со стороны, как никто другой, зная про себя все. И увидел как в зеркале отвратительного пожилого пошлого самца с неопрятной седой порослью на жирной груди и внизу, глубокой бессмысленной дырой пупка, с отвисшими брыластыми закрылками и брюхом, с острым бледным задом. Пьяницу. Обжору. Бабника. Вора. Он всматривался в воображаемое зеркало и думал, почему красивые юношеские лица в старости превращаются в обрюзгшие бабьи морды?
Под закрытыми глазами – жжение. Неужели слеза прорезалась? В монастырь, что ли, податься? Грехи отмаливать? Может, и хватит времени отмолить, нет на нем крови. Явной нет…
…Кажется, он все‑таки заплакал. Слеза выкатилась из правого глаза, пробежала по небритой щеке, обожгла холодом. И глаз задергался нервически. И горло перехватило спазмом. «Вот сейчас… – подумал он невнятно, – оторвется… тромб, и кранты! Как и не было! Неужели… время?»
Чуткий, как и все представители его профессии, он тем не менее не сразу почувствовал, что рядом кто‑то есть. Вздрогнул и открыл глаза, испытывая скорее бешенство оттого, что застукали в минуту слабости. Рядом сидела женщина в черном. С закрытыми глазами. Сгорбившись под черным крестьянским платком в красные и синие розы. Сложив безвольные руки на коленях. Он рассматривал ее без любопытства, думая, что беженка с юга или цыганка, сейчас начнет клянчить на жизнь. Подсела к нему, а скамеек пустых полно. Глаза закрыла, физию скорчила, на жалость ловит, думает, разведет лоха. Не на того нарвалась, тварь. Все они… Интересно, сколько она так просидит?
Минут через пять он забеспокоился. Спит? Или… померла? Еще через пять минут не выдержал, потрогал женщину за плечо. Она открыла глаза, посмотрела мимо него, поднялась со скамейки и пошла себе. Юлий опешил. Смотрел ей вслед – высокая, статная, под крестьянским платком, она шла походкой усталого человека, и он почувствовал, что идти ей некуда. Не отдавая себе отчета, он поднялся со скамейки. Постоял, раздумывая, испытывая странную раздвоенность – трезвая половина его личности требовала упасть назад на скамейку и не делать глупостей, не лезть неизвестно куда. От таких неприкаянных одни неприятности. Другая – чужеродная, неизвестно откуда взявшаяся, похоже, только что народившаяся в муках, взяла за шиворот и толкнула вслед.
– Эй! – сказал он ей в спину. – Послушай!
Она не остановилась, хотя не могла не слышать. Злясь на себя за дурацкий порыв, Юлий поспешил ей вслед. Догнал, схватил за руку. Она отшатнулась, не издав ни звука. Пристально смотрела ему в глаза своими длинными черными глазами. «Персидскими», – подумал он, подпадая под странную их магию. Она высвободила руку, продолжая смотреть на него. А он впервые в жизни не знал, что сказать. Стоял дурак дураком. Она вдруг протянула руку и погладила его по колючей щеке. Он дернулся как от удара.
– Все проходит, – вдруг сказала она. Голос был низкий, сиплый. – Просто нужно понять и принять. Все проходит.
– Откуда ты знаешь? – спросил он.
Она пожала плечами, кривовато усмехаясь:
– Пошли.
– Куда? – спросил он по‑дурацки.
– Домой.
Глава 5
Поиски смысла
Андрей Калмыков слегка лукавил, говоря или, вернее, умалчивая о себе. Но с другой стороны, Дива не очень и настаивала – им всегда не хватало времени. Ему иногда приходило в голову, что необыкновенная эта женщина любит его не только как любовница, но и, не имея детей, как мать. Да и разница в возрасте сказывалась – около пятнадцати беспощадных лет.
Дива была красива зрелой и смелой красотой, и характер у нее был размашист и резок, с купеческой удалью. Такие характеры по старой памяти считаются мужскими; вот ведь как – мужчин с таким характером поискать, а память осталась. Стереотип остался. Наверное, этим она привлекла скучного, вечно занятого бизнесмена Михаила Руге, к которому однажды нанялась переводчицей. Высокая, легкая как королевская яхта, с копной светлых волос и синими глазами – женщина с глянцевитой обложки дорогого журнала. Да еще наделенная головой в придачу. У Андрея Калмыкова при виде подруги лицо тоже делалось удивленным и даже глупым – как и Руге, он никак не мог привыкнуть, что такая женщина нашла его привлекательным. И приходит почти каждый вечер, нагруженная пакетами с едой и подарками. Он тоже делал ей подарки – она хохотали до слез при виде розовых тапочек с заячьими мордами и длинными ушами и ни за что не хотела снимать их даже в постели. А желтый шарфик повязала бантом на шею и расхаживала нагишом, заглядываясь на себя в зеркало серванта. А зеленым махровым халатом гигантского размера она накрыла их обоих и радостно закричала, что они в палатке в турпоходе и сейчас пойдет дождь. Дело происходило в ванной комнате, и она действительно открутила холодный душ. Зеленый халат облепил их обоих, они запутались, вода делалась все холоднее. Дива визжала и захлебывалась от хохота. Он стоял под ледяными струями молча, покорно, крепко прижимая ее к себе, и был счастлив.
– Да в кого же ты такой удался? – спрашивала она, лаская его. – Такой теленок, такая лапочка, такое чудо? Такой несовременный? В маму? В отца? Немедленно расскажи мне о себе.
…Однажды Дива пришла в его кабинет и высокомерно приказала отвезти ее домой. Руге не было, а она обедала тут недалеко, и теперь не может вести машину. Она швырнула ему ключи от своего «БМВ», он не поймал их. Ключи, оглушительно звякнув, упали, и он ползал по полу, разыскивая их. Она возвышалась над ним, молча ожидая, и он заметил, что у нее красивые тонкие лодыжки и изумительные туфли на высоких каблуках. Недолго думая, Андрей схватил ее за ногу и сдернул туфлю. Мгновенный порыв, чувство, а не разум – захотелось, и все! Она вскрикнула, взмахнула руками и, не удержавшись, с размаху уселась на пол рядом с ним. И тут же залепила ему пощечину. Залепила от души, с неженской силой. А он смотрел на нее, любуясь. О крутом нраве жены шефа ходили легенды, а также о его ветвистых рогах. Дива вдруг взяла его голову в ладони и поцеловала долгим поцелуем в губы. От нее пахло вином, он чувствовал ее язык и горячее дыхание.
Он поднялся с пола и помог ей встать. Она закинула руки ему на шею, снова впилась ртом в его рот. Сбросила вторую туфлю. Стояла босиком, привстав на цыпочки. Он осторожно разнял ее руки…
В ней было намешано всего, и смелости ей было не занимать. Она привыкла делать то, что хотела, не стесняясь ни мест, ни обстоятельств. Из офиса она вышла босиком под изумленные взгляды служащих. Он нес ее туфли. В машине снова попыталась поцеловать его, рука ее легла на его бедро, поползла выше. Он невольно рассмеялся и отодвинул ее, пробормотав, что ему щекотно.
– Поехали к тебе, – произнесла она хрипло. – На работу можешь сегодня не возвращаться.
Он отвез ее домой. Она выругалась. Он бросил ключ на сиденье, захлопнул дверцу и ушел. Когда он вернулся на работу, физиономии коллег вытянулись от удивления, на них читался немой вопрос. Он пожал плечами и сказал, что все в порядке. Мадам доставлена в целости и сохранности, сдана на руки прислуге.
– Идиот! – в сердцах бросил коллега, программер Игорек. – Такой шанс упустил! Говорят, огонь, а не баба. И любит мужиков помоложе.
…Она пришла к нему спустя два дня, поздно вечером. Он открыл дверь, посторонился, впуская ее. Она вошла, с любопытством огляделась. Сбросила норковый жакет. Выжидательно взглянула…
…Его поражала ее ненасытность. Иногда он думал, что из таких женщин во все века получались куртизанки. Наверное, Мессалина была такой. Иродиада. Далила. А он был… обыкновенным. Дива многому его научила. Оказывается, физическая близость была не только потребностью, после которой хочется есть и спать, а настоящим искусством. «Не торопись, – говорила она хрипло. – Не спеши, остановись… Почувствуй меня… смотри мне в глаза… поцелуй меня… прижми меня крепче… прижмись крепче… вот так!»
Она визжала и рычала, извивалась змеей, впиваясь в него когтями и зубами. Простыни и подушки летели на пол. «Ну, закричи! Не молчи! – задыхаясь, требовала она. – Скажи что‑нибудь! Ну! Говори! Выругайся! Скажи, что я дрянь! Стерва! Шлюха!»
«Я люблю тебя, – шептал он ей в ухо. – Я готов подохнуть за тебя!»
Она вскрикивала, выгибалась дугой, прижимала его к себе так, что у обоих перехватывало дыхание, замирала на миг и… падала замертво, разбросав руки, освобождая его…
…Андрей не знал ни матери, ни отца. Человек, давший ему фамилию – Калмыков Алексей Петрович, – был участковым милиционером, который нашел его в подвале какого‑то дома на окраине – маленького, тощего, перепуганного человечка лет пяти или шести. Он молчал, избегал смотреть в глаза, жадно и много ел. Был оборван, грязен и вшив. При малейшей опасности закрывал голову руками и скручивался в комок, стараясь стать незаметным. «Психическая неполноценность, потеря речи, возможно, в результате пережитого шока, – сказала детский психолог, женщина жесткая и беспощадная, ставя на нем крест. – Вряд ли оправится». Если бы не Калмыков, загремел бы он в спецдетдом, да так и сгинул бы там. Неизвестно, что заставило участкового принять участие в устройстве судьбы найденыша. В итоге попал он в обыкновенный детдом и выжил.
Свое первое слово он выговорил три месяца спустя – «Андрей». Так и получился Андрей Калмыков. Андрей Алексеевич Калмыков. Он начал говорить, но рассказать о себе не смог ничего. Помнил реку, мост, под которым жил какое‑то время, большую желтую собаку, которая спала, привалившись к его боку, грея его. Он все время рисовал эту собаку простым карандашом, а еще других непонятных животных и человечков. Мальчика и девочку. И еще квадраты, бессмысленные черточки и кружки… космическую ракету в… клетке. Никогда цветными карандашами, а только простым, и рисунки получались мрачными, черно‑белыми, какими‑то недетскими.
Когда он уходил из детдома, поступив в политехнический университет, директор подарил ему папку с его детскими рисунками. Он рассматривал их, не узнавая – ничего в нем не дрогнуло. Он не помнил собаку под мостом, он не помнил, кто были нарисованные им мальчик и девочка. Мальчик с размытым лицом, девочка с косичками, в платьице, с длинными тонкими ножками. Брат? Сестра?
Он любил математику, схватывал все на лету. Цифры и числа казались ему выразительнее слов. Директор детского дома присматривался к нему, поощряя и развивая проявившуюся внезапно склонность, радовался, что парень, кажется, нашел себя. Для занятий математикой не нужна общительность, которой тот не обладал, ни живость не нужна, ни умение говорить долго и красиво. Мальчик нравился ему, и он беспокоился за него. Андрей был молчалив, тих и покорен. Его даже не били старшие мальчики, хотя он идеально подходил на роль жертвы. Директор детдома так и не решил для себя, все ли в порядке с психикой у его воспитанника, что‑то настораживало его – удивительная мягкость, ласковость и покорность мальчика. К Андрею не приставала грязь, которой было полно в детдоме, ни ругань, ни хамство, ни жестокость старших детей. Уборщица Настя, пьяница и матерщинница, как‑то назвала мальчика святым. То ли в шутку, то ли всерьез. Прозвище приклеилось с ходу, а директор вдруг с облегчением почувствовал, что это именно то слово, которое он сам так долго искал. Святой Андрей. Вроде и с насмешкой, ан нет. А Настя убеждала всех, что рядом с мальчиком ей спокойно и благостно. Она дошла до того, что норовила потрогать его за руку, взять за плечо, погладить по голове. Приносила из дома то пирожок, то котлетку, подкармливала, жалела. Директор выговорил ей за распространение глупых слухов и обозвал кликушей. Настя приняла выговор на удивление спокойно, не выругавшись по обыкновению, только упрямо поджала губы.
В папке с рисунками хранился выцветший фантик от конфеты. Андрей не помнил, как к нему попала конфета, а может, и конфеты‑то не было, а только одна жалкая бумажка, подобранная на тротуаре и сохраненная как сокровище в кармане курточки. Он смотрел на красный фантик от дешевой карамельки, грязный, вылинявший, с едва различимым названием – «Ореховая», с едва читаемым, стертым названием кондитерской фабрики. Город, где находилась фабрика, была единственной зацепкой, говорившей о его прошлом. Хотя, скорее всего, фантик ни о чем таком не говорил – конфеты этой фабрики могли продаваться где угодно. В городе, правда, была река, а следовательно, и мост, что тоже ни о чем не говорило. Мало ли рек и мостов в природе?
Забытая папка свалилась на голову Андрею, когда он доставал с антресолей лыжные ботинки. Он отправлялся с Дивой кататься на лыжах на лесную турбазу и очень спешил. Бросил папку на стол и не сразу вспомнил, что это, когда вернулся. Сидел, рассматривал свои детские рисунки. Неумелые, кривоватые, но с удивительной настойчивостью повторяющие одних и тех же персонажей: мальчика с размытым лицом и девочку с длинными ножками; большую собаку; каких‑то мелких животных. И выведенные старательно кружочки, квадратики – кубики, и гибкие плети растений, похожих на лианы. И что‑то вроде ракеты – обтекаемый узкий корпус и острый верх, помещенной в клетку с частым переплетом. И ни малейшего отклика, ни малейшего отзыва в памяти. Ничего не дрогнуло в нем, ничего не царапнуло. Он повертел в руках линялый фантик, задумался, бессмысленно глядя в пространство перед собой, и вдруг черно‑белая неяркая картинка мелькнула – дождь, холодно, он подбирает с тротуара мокрую конфету, обдирает липкую бумажку и сует в рот. Тут же выплевывает, откусывает кусочек и протягивает на ладошке большой худой желтой собаке. Собака осторожно берет конфету теплыми шершавыми губами…
Андрей поднес к глазам правую руку – чувство мокрого и липкого на ладони было столь явным, что ему стало не по себе.
То, что он сделал потом, было не самым умным из его поступков. Все знают, что иногда лучше не ворошить прошлое. Пусть прошлое хоронит своих мертвецов, сказал не самый глупый на земле человек. Дива с мужем уехала в Швейцарию, иначе бы он так и не решился исполнить задуманное.
…Он шел по улицам старого города, название которого стояло на конфетном фантике, прислушиваясь к своим ощущениям, полный ожидания, что вот‑вот откроется некая истина, завеса приподнимется, и он вспомнит, что было до… До того, как его нашел участковый Калмыков. Ведь где‑то он жил все это время, с кем‑то, люди были вокруг, родители были. Наверное, были. Он помнил себя с того самого момента, как немолодой дядька в милицейской форме поймал его за руку и поволок за собой. Из куцего жизненного опыта он знал, что встреча с человеком в форме не сулит ничего хорошего, и попытался вырваться, но дядька держал крепко. Он до сих пор помнит свои ужас и тоску…
Город был ему незнаком. Кондитерская фабрика давно закрылась. Старый мост выглядел как после пожара. Тусклый, грязный пригород раскинулся вокруг. Он шел по улице с разбитым асфальтом, оглядываясь в поисках такси. И вдруг увидел в глубине двора, среди ободранных трущоб терем с темно‑красной черепичной крышей, каминной трубой и ажурным коньком и понял, что знает его.
Двухэтажный терем из сказки прятался за однообразными и унылыми пятиэтажками, он был неуместен и чужероден здесь, он напоминал опустившегося аристократа среди босяков. Андрей подошел ближе. Синяя стеклянная вывеска сообщала, что это было общежитие музыкального училища. Он вошел в длинный узкий коридор с давно не мытыми скрипучими деревянными полами. Из‑за многочисленных дверей доносились звуки голосов, музыки, радио. За одной кто‑то старательно дул в трубу, извлекая пронзительные звуки. Из‑за другой доносились фальшивые звуки дудочки. Он уверенно шел в конец коридора к последней двери. Это было то самое место…
Он постучал. Ему никто не ответил. Он постучал в соседнюю дверь. Всклокоченный парень вырос на пороге, взглянул вопросительно. Андрей спросил, кто живет в соседней квартире. Никто, ответил парень. Тетя Паша померла месяц назад, и с тех пор пустует. Говорят, драка идет за жилплощадь. А кто такая тетя Паша, спросил Андрей. Да никто, одинокая старуха, ответил парень. Доживала себе спокойно, да и померла. А родственники? Никого не видел, ответил он. И на похоронах никого не было, только соседи. А вы кто, наследник? Нет, ответил Андрей, я жил здесь когда‑то. «Вы не могли бы… – он замялся. Достал бумажник, протянул парню пару купюр. – Я хотел бы посмотреть».
– Сейчас, – сказал тот и скрылся в своей комнате. Вернулся через минуту со связкой ключей. Он пробовал ключи один за другим. Андрей молча стоял рядом, ничему не удивляясь. Подошел четвертый.
Он вошел. Затхлый нежилой запах ударил в нос. В бедной комнате было полутемно – арочное узкое окно и частый переплет рам неясно угадывались под жалкой, потерявшей цвет, наглухо задернутой занавеской.
…Ребенок сидел на полу и рисовал окно, похожее на ракету. Это было окно, а не ракета. И клетки не было, а был частый переплет рам. Андрей явственно видел этого ребенка – маленького, напуганного, рисующего на листке бумаги окно – самое светлое пятно в полутемной комнате. Листок бумаги лежит на полу. Окно, задернутое наглухо темной шторой, едва угадывается. За окном – свобода и свет. Ребенок не один – в комнате двое других детей, мальчик и девочка. Дети знают, что нельзя шуметь и разговаривать можно только шепотом. Что скоро придет… кто? Придет друг. И все будет хорошо. Шаги за дверью заставляют их замереть и прислушаться. Они смотрят друг на друга. Девочка прикладывает палец к губам и отрицательно качает головой…
…Старая табуретка заскрипела под ним. Он открыл глаза. Ему было не по себе. Тяжесть в затылке перерастала в глухую боль. В висках ломило. Он вдруг вспомнил, что такое же гнетущее чувство и боль он испытывал после ночных кошмаров в детдоме. Ребята звали его припадочный. Он просыпался среди ночи, задыхаясь, мокрый от пота, полный ужаса. От сна в памяти ничего не оставалось, только тоска, тревога и страх. Лет примерно с двенадцати ночные кошмары перестали его мучить, и он напрочь забыл о них. А сейчас вспомнил – жалкая комната неизвестной тети Паши сдвинула пласт памяти где‑то в глубинах сознания, и воспоминание вынырнуло на поверхность.
…Он кружил по пригороду, как охотничья собака, взявшая след. Надеялся на счастливый случай. И не ошибся. Тощий неопрятный старик с палкой, который шел навстречу, был ему определенно знаком…
Глава 6
Дурные сны
Детей было четверо. Четверо детей, никогда не видевших сверстников, знающих только друг друга и пятерых взрослых – Отца, Доктора, Учителя, Сторожа и Хозяйку. Трое мальчиков – Андрей, Петр и Павел, и девочка – Мария. Мальчиков различали только по светлым пятнам, кусочкам тела без пигмента, продолговатым, размером с маленькую фасолину, едва заметным. У Андрея на правой щеке, у Петра над правым ухом, под волосами, у Павла – в ямке между ключицами. Мария же была без изъяна. В единственном экземпляре, как шутил Отец. Штучная работа.
Дети играли в длинных коридорах Центра, кричали, прятались, гонялись друг за другом, ни разу не встретив ни единой живой души. Эхо подхватывало их звонкие голоса и уносило прочь.
Учитель учил их математике и логике, тренировал память и играл во всякие игры. Например, он разводил их по комнатам без окон, где стояли разные приборы с бегающими стрелками, надевал на них шлемы с проводками, раздавал карточки с разноцветными геометрическими фигурами – треугольниками, кругами, квадратами – и говорил: «А теперь играем в карточки». Игра заключалась в мысленной передаче изображения, что требовало сосредоточенности и внимания. Свет в комнате был приглушен, стояла полная тишина, только чуть шуршала, выползая из самописцев, широкая лента графленой бумаги с размашистой маятниковой записью. Пары менялись на каждом сеансе. Иногда Андрей «работал» с Петром, а Павел с Марией. Потом наоборот – Петр с Марией, а Павел с Андреем.
Иногда они засыпали в тубах – продолговатых металлических камерах – и видели сны. Проснувшись, они не помнили ничего, лишь чувство оставалось – тревоги, беспокойства и страха, которое вскоре проходило. А метры графленой бумаги передавались в лабораторию, где их изучали десятки операторов, не имеющих ни малейшего представления о том, чей мозг передал информацию, записанную аппаратами.
Иногда искали спрятанный предмет – книжку с картинками, игрушечный автомобиль или кубики. Предмет нужно было сначала увидеть «в голове» и протянуть к нему ниточку. Это было самым сложным – протянуть ниточку. Она часто тянулась не туда, а то и вовсе исчезала. Учитель был терпелив. «Красный кубик и тонкая красная ниточка, – повторял тихим голосом, а они сидели перед ним, как воробьи на ветке, прочно уставясь ему в глаза. – Увидели? Он спрятан в «доме», к нему ведет красная ниточка… тонкая красная ниточка… красный кубик…»
У Марии получалось лучше всех. Андрей кивал – молодец, Мария! Петр искренне радовался и удивлялся. Павел сердился, вырывал кубик из рук Марии, бросал на пол…
Доктор проверял их каждые три дня – сердце, пульс, температура, рефлексы, энцефалограмма. Доктор был старый, толстый, с седыми усами.
– Как жизнь апостольская? – приветствовал он детей.
Андрей спросил как‑то:
– Что такое «апостольская жизнь»?
Доктор засмеялся и ответил загадочно:
– Безгрешная значит.
– Что такое «безгрешная»? – спросил Андрей. – Что такое грех?
И доктор ответил неожиданно серьезно:
– То, что делает человека человеком.
– А мы разве не люди? – спросил Андрей.
– Люди, конечно, – ответил доктор. – Самые замечательные люди на свете!
Хозяйка следила за их постелями и одеждой. Она привозила тележки с едой, накрывала стол. Стояла молча и смотрела, как они ели. И было в ее лице что‑то такое… Как‑то Петр дотронулся до ее руки, случайно прикоснулся, потянувшись за хлебом, и она резко отдернула руку. Тут же побагровела, засуетилась, подкладывая в тарелки новые куски. Она так расстроилась, что едва не плакала.
Отец приходил почти каждый день. Гладил по голове, рассматривал рисунки и тетрадки с задачками. Сажал Марию себе на колени. Расспрашивал, что делали и что нового в «школе». Они липли к нему, прижимались, как щенки, выпрашивающие ласку. От Отца исходили флюиды любви и тепла. У него были большие ласковые руки и родной голос.
Андрей, спокойный, рассудительный, справедливый, был лидером. Как‑то само так получилось. Петр был добрым и мягким, а еще клоуном и весельчаком. Павел злился и ревновал к Отцу, Учителю и даже Сторожу, здоровому угрюмому мужику, который сопровождал их всегда и везде – к Доктору, в классные комнаты, в сад, где были цветы и деревья. Высокая стена отделяла сад от остального мира.
Мария умела «подсматривать» мысли.
Они были неразлучны. Они были одним целым. Они были горошинами из одного стручка.
…Он проснулся среди ночи, словно его толкнули. Он не помнил, что ему снилось. Отбросил одеяло, перевернулся на спину, стараясь выровнять дыхание. Положил руку на грудь – сердце колотилось бешено, ухая и проваливаясь в пустоту. Ему казалось, еще миг – и сердце пробьет грудную клетку и выскочит наружу. Что же это было? Что‑то страшное. Боль, отчаяние, страх. Неясные тени, неясные голоса. Он попытался вспомнить, что ему снилось, но сон уже канул, растворился без следа, оставив неприятный осадок. Такие же сны он видел в детстве, а проснувшись, так же не помнил ничего. Только чувство безнадежности оставалось…
* * *
…Зал был полон, сдержанно гудел. Слух выхватывал отдельные «островные» звуки – неожиданно звонкий женский смех, громкий возглас. Программа называлась «Калейдоскоп» и была чем‑то средним между гипнотическим сеансом и цирком. Если честно, на калейдоскоп они не тянули – не хватало красок и пестроты, но руководитель коллектива считал, что слово это радостное и отвечает их задаче – дарить радость.
– Ага, и сеять разумное, доброе, вечное, – саркастически отзывался чтец Данило Галицкий. – Не приживаются у нас эти семена, Карлуша. Эксперимент великого двадцатого века закончился кровью и беспределом. Наш народ – джинн, которого нельзя выпускать из бутылки. – Данило, философ, поднимал назидательно палец. Хмурился и говорил задумчиво, удивляясь: – Опять бутылка! Ты про судьбы нации, а получается опять про бутылку. Судьба у нас, что ли, такая?
Они колесили по городкам и весям, где зритель прост и невзыскателен, не избалован и не потерял еще способности радоваться. «Дикая бригада», бесхозная и неучтенная Минкультом, выросшая, как лопух под забором. Впрочем, не совсем дикая, какие‑то разрешающие бумажки с подписями чиновников все же имелись.
Великолепная четверка. Неформальный лидер – Карл Мессир, гипнотизер, фокусник и экстрасенс, чье имя большими буквами на афише, он же менеджер и бухгалтер. Черноглазый красавец с длинными кудрями в лучших традициях цеховой моды.
Ассистентка гипнотизера и фокусника Алена Бушко, неяркая мелкая блондинка, похожая на школьницу. Она же костюмерша, завхоз, стряпуха и укротительница обезьянки Ники. Она же подруга Карла.
Знакомый уже чтец Данило Галицкий, тощий, нескладный, неопределенного возраста непросыхающий пьяница с цыганской натурой, требующей частой перемены мест, он же худрук и администратор, у которого все схвачено, и идейный вдохновитель команды. С весьма ценным качеством заводить знакомства на пустом месте и использовать их на полную катушку. В минуты неудач и тягот – еще и философ, с легкостью доказывающий себе и людям, что белое – это черное, а черное – это белое, а потому «честно́е слово, юнкер Шмидт, лето возвратится!». Или наоборот: «Все, господа, наша карта бита, и ничего нет впереди!»
И, наконец, «старший распорядитель» – непрыткий мыслью парень лет восемнадцати по кличке Сократ, безропотно носящий чемоданы с реквизитом и пребывающий в постоянной боевой готовности сию минуту смотаться за пивом и сигаретами. Он же воспитанник коллектива, по выражению Данилы Галицкого. Сын полка. Судьба не баловала Сократа. Можно сказать, она его попросту не замечала, и в его глазах навсегда застыла тоска нежеланного и гонимого пасынка.
– Ты, Сократушка, какой‑то смурной, – пенял Данило воспитаннику. – Ну‑ка, головку навскидку, смотреть орлом! Эх, мне бы твои годы!
Для разогрева первым выпускали Данилу Галицкого – почти всегда нетрезвого, что было в масть, так как в состоянии легкого подпития был он красноречив, боек и смешлив. Главное, не до положения риз – перебрав, Данило впадал в минор и черную философию и предвещал скорый конец цивилизации то ли от парникового эффекта, то ли от падения метеорита, то ли еще от какой напасти.
Данило читал стихи и прозу. Своим сипловатым прокуренным голосом, сунув левую руку в карман брюк, а правой дирижируя, задавая ритм. Читал, что приходило на память – никакой программы и в помине не было. И хорошо читал, необходимо заметить. Душевно. Он и сам не знал заранее, что будет читать – что «накатит» под настроение.
Он любил подолгу стоять посреди сцены, горько глядя в зал. Иногда складывал руки на груди, выказывая этим полную отстраненность от действительности. Стоял до тех пор, пока не умолкал недовольный гул желающих сразу получить экстрасенса и шиканье тех, кто был не против стихов. А потом начинал певуче выкликать:
Клоун в огненном кольце.
Хохот мерзкий как проказа.
И на гипсовом лице
Два горящих болью глаза.
Лязг оркестра, свист и стук.
Точно каждый озабочен
Заглушить позорный звук
Мокро хлещущих пощечин.
Как огонь подвижный круг.
Люди – звери, люди – гады,
Как стоглазый, злой паук,
Заплетают в кольца взгляды…[1]
– «Люди – звери, люди – гады», – выкрикивал Данило, после чего делал паузу, подавляя рвущиеся из груди рыдания.
Впечатление было ошеломляющим. В зале наступала гробовая тишина.
– Ты там полегче, – напутствовал Карл Мессир коллегу перед выходом. – Не дави, дай расслабиться. Без фанатизма.
Даже самые неразвитые зрители оторопело притихали и наливались непонятной тоской. Им было стыдно перед артистом, хотелось немедленно куда‑то бежать и бить кому‑то морду за его и свои унижения, безденежье, подлую, беспросветную жизнь. А потом, очистившись, рыдать долго и сладко…
В итоге Даниле много хлопали, а также топали ногами и свистели, что служило признаком одобрения и симпатии.
Потом выбегала Алена в коротеньком голубом платьице в серебряных блестках, переключая зрителей на радостное ожидание чудес. За ней бежала на поводке маленькая обезьянка в таком же платьице.
– Ники, поклонись зрителям! – приказывала Алена.
Обезьянка скалила зубы и отрицательно мотала головой.
– Ники! – взывала Алена строго.
Обезьянка мотала головой с такой силой, что, казалось, голова вот‑вот оторвется, – ни за что!
– А что у меня есть!
Алена вытаскивала из кармана конфетку в яркой обертке. Ники, цепляясь тонкими черными ручками за подол Алениного платья, проворно карабкалась девушке на грудь.
И так далее, в том же духе.
Потом был десятиминутный перерыв, после чего – второе отделение. Карл Мессир. Как театр начинается с вешалки, так актер начинается с имени. Настоящего имени гипнотизера не знал ни Данило Галицкий, который на самом деле был Василий Прыгун и никогда этого не скрывал, ни Алена Бушко, которая и была Аленой Бушко, а еще подругой Карла. Девушка вообще была уверена, что Карл Мессир – настоящее имя гипнотизера. Она была простодушной и доброй девушкой, сидела в кассе кинотеатра в маленьком городке на юге страны, откуда он ее и увез. Вернее, сначала ее присмотрел Данило Галицкий и подумал, что их творческому коллективу не хватает именно такой девушки. Не будучи уверен в собственной неотразимости, он скрепя сердце подключил Карла. Данило был психологом в силу богатого жизненного опыта и рассчитал правильно – перед блистательным Карлом Мессиром Алена не устояла.
Сократ был вокзальным беспризорным в прошлом, но не тем смышленым и бойким персонажем из романов, а забитым перепуганным подростком, сбежавшим из детдома из‑за издевательств старших мальчиков. Карл Мессир встретился с его затравленным голодным взглядом через окно ресторана, где труппа обедала. Они ехали на гастроли в некий южный город.
– Дамы и господа! – обратился тогда Карл к Алене и Даниле. – Нашему коллективу нужен распорядитель для всяких мелких поручений. Ну, там, сапоги почистить, пуговицы мундира надраить. Или сбегать в лавку за виски. Взгляните на того парня, вон там, за окном, смотрит сюда. Что скажете?
– Вор, поди. И воняет, – высокомерно произнес Данило.
– Не будь таким снобом, – возразил ему Карл Мессир. – Мы, аристократы духа, должны помогать ближнему.
– Обворует же, – протестовал Данило. – Разденет к чертовой матери.
– Он же голодный, – сказала Алена. – Бедненький! И чемоданы носить надо.
– Все мое ношу с собой, – сказал Карл Мессир. – А тебя, друг мой Галицкий, можно только одеть. – Данило по случаю летней жары был в шортах, обнажавших его бледные тощие мосластые ноги. – Выношу на голосование. Лично я – «за»!
– Я тоже! – подхватила Алена.
– Допустим, я «против», а что это меняет? – горько спросил Данило. – Вас всегда большинство!
– Значит, единогласно, – подвел черту Карл Мессир и махнул парню за окном.
Так их стало четверо. Парня звали Ваня Иванько. Карл сказал, что ж, неплохо, хорошее честное имя, но экзотики маловато.
– Можно Юрием Долгоруким, – предложил Данило. – Смотри, какие грабки длинные!
– Нет, – ответил Карл. – Он у нас будет Сократ.
– Тоже красиво, – одобрил Данило, не удивившись.
Обезьянка Ники принадлежала лично экстрасенсу.
После выступления труппа собиралась в номере Карла Мессира. Алена накрывала на стол. Сократ неуклюже помогал – открывал бутылки, резал хлеб. Чтец и экстрасенс отдыхали, лежа на узких деревянных кроватях.
– Хорошо работал, Карлуша, – говорил расслабленно Данило, который не был способен помолчать и пяти минут кряду. – Молоток. А вот только непонятно мне…
Он снова, в который раз уже, собирался высказать то, что не давало ему покоя.
– А вот только непонятно мне, Карлуша, как ты это проделываешь? Я ведь скептик по натуре, матерьялист, стреляный воробей, меня на мякине не проведешь! Перевидал магов и фокусников за свою жизнь до фига и не верю этой братии ни на грош. Жулик на жулике, прости господи… Признайся, друг любезный, что это массовый гипноз и на самом деле ни хрена такого не имеет места быть, успокой мою смятенную душу. И покончим с этим мутным делом. В магию, тьфу, не верю и никогда не поверю, в массовый гипноз – верю. Возможности человеческой психики безграничны и непознаны наукой, она не те еще коленца выкидывает. Пятая колонна, вражина. Так как, Карлуша? Массовый гипноз все‑таки? Ну, признавайся? Или… что?
Карл Мессир молчит. Ему хорошо лежать вот так, с закрытыми глазами, внимая неторопливому сипловатому голосу Данилы, не напрягаясь насчет смысла. Алена звякает посудой, Сократ цепляется неуклюжими ногами за стулья и роняет предметы. Впервые в жизни Карл чувствует себя в семье. Он любит их всех. И Данилу Галицкого, болтливого пьяницу‑гуманиста, и простодушную влюбленную Алену, и Сократа, несуразного, спотыкающегося на ровном месте, который себя не помнит от счастья, что приняли его в артисты – во время последнего спектакля он уносил со сцены расшалившуюся Ники.
– Конечно, массовый гипноз, – говорит он, не открывая глаз. – Ты же умный человек, Данило, материалист! Какая, к черту, магия?
– Не поминай черта к ночи, Карлуша! – живо отвечает Данило, озираясь на темные окна. – А то накличешь! Значит, магии, по‑твоему, не существует? Ты это точно знаешь?
– Точно. Не существует. Черт существует, а магия нет.
– Я серьезно, – обижается Данило.
– Мальчики, к столу! – зовет Алена.
– И я серьезно, – отвечает Карл. – Черт сидит на скамейке в темноте и ждет.
– Загадками говоришь, – ворчит Данило, сползая с кровати. – Интригуешь, реноме поддерживаешь. Ты его видел?
– Видел.
– Правда? – Данило воззряется на Карла. – И… какой он?
– Ты же не веришь в нечистую силу!
– В принципе не верю. Но в отдельно взятом случае… или разводишь?
– Мальчики! – зовет Алена.
– Сократ, а ты веришь в чертей? – спрашивает Карл.
Парень задумывается ненадолго, потом говорит застенчиво:
– Не знаю… Есть люди хуже черта…
– Браво! – кричит Данило. – Молодец, Сократушка! Вот именно, хуже черта! Все гадости в жизни мне делали исключительно люди, так называемые хомо сапиенс, хотя лично я сомневаюсь, что сапиенс.
– А кто их под локоть толкал? – не сдается маг. – Он, враг человеческий, и толкал!
– Мальчики!
Они рассаживаются вокруг шаткого гостиничного столика с разновеликими ножками. Данило, мастер церемонии, разливает водку в щербатые граненые стаканы, поднимает свой, рассматривает на свет. Это вроде ритуала – посмотреть на свет, убедиться, что чиста как слеза. И торжественно произносит первый тост:
– За наш маленький, но дружный коллектив и его выдающиеся творческие успехи! До дна!
– Аминь! – бросает Карл.
– Фу, гадость! – кривится Алена, прикрывая рот рукой…
* * *
…Карл Мессир, в смокинге, с бабочкой, гибкий, высокий, красивый, стремительно выходил на сцену, приветствуя зал поднятыми руками. Данило напутствовал его шепотом:
– Ни пуха, Карлуша! И не тяни бодягу, пивко ждет.
– К черту! – отвечал привычно Карл Мессир уже на ходу. Переждав аплодисменты, спрашивал звучно: – Что такое чудо?
За сим следовала долгая пауза и озадаченность зала, и только потом чей‑то придурковатый голос выкрикивал:
– Когда водяра падает на бетон, и целая!
– Согласен, – смеялся экстрасенс. – Чудес на свете много. Часто мы их даже не замечаем. И почти каждый человек может сам сотворить чудо. Нужно только растормозить подсознание, снять контроль и убрать предохранители. Человек все может. Не верите? Сейчас докажу! Попрошу на сцену всех желающих.
После небольшой заминки, хихиканья и подбадривания друг дружку локтями, зрители, кто нерешительно, кто, наоборот, ухарски, взбирались на сцену. Желающих набиралось по‑разному – когда шестеро, когда с десяток, а то и дюжина.
– Попрошу сюда! – Карл Мессир взмахивал рукой, показывая, где именно нужно стать. – Полукругом, на расстоянии метра друг от друга. Теперь возьмитесь за руки. Взялись? Отлично. Сосредоточиться. Смотреть в зал. Дышать через нос, глубоко и медленно. По моему взмаху взлетаете! Осторожнее, не делайте резких движений, а то… улетите! Когда‑то люди умели летать. Древние маги летали как птицы. Внимание! На счет «три» отрывайтесь от земли. Раз!
Зал замер, на лицах недоумение и глупые усмешки – неужели полетят? Или разводит?
– Два!
Семеро на сцене, чувствуя себя дураками, тем не менее крепко держатся за руки.
– Два с половиной!
Гробовая тишина, нарушаемая поскрипыванием старых кресел.
– Три! – экстрасенс взмахивает руками.
Зал дружно выдыхает, не веря собственным глазам. Крайний справа мужчина не то взлетает, не то подпрыгивает над сценой и тянет за собой соседа. Тот неловко приподнимается в воздух – примерно на полметра. Задние ряды встают, хлопая сиденьями. Следующим взлетает мужчина слева. За ним, вскрикнув, воспаряет девушка. Через минуту все семеро висят в воздухе на разной высоте, сцепившись руками. На лицах написано изумление, они смотрят себе под ноги, словно боясь упасть. Цепочка получилась кривая – заметно, что девушка держится в воздухе довольно легко, на ее левой руке тяжело виснет толстяк, с другой стороны его удерживает за руку молодой парень. Они висят в воздухе, балансируя ногами и слегка подпрыгивая, как воздушные шарики на нитке.
Девушка, скорее всего, улетела бы, если бы не грузный толстяк. Экстрасенс стоит с поднятыми руками. Лицо его побледнело от напряжения, рот сжался в тонкую линию.
– Опускаемся, – говорит он хрипло. – Осторожнее! Пружиньте коленями.
Летуны благополучно опускаются на сцену. Зал после секундной заминки взрывается аплодисментами. Карл Мессир поднимает руки, призывая к тишине.
– Вы стали свидетелями сеанса левитации, – говорит он. – Почти каждый из вас может подняться в воздух. Нужно только применить специальные техники самоубеждения. То, что вы видели – маленькое чудо. К сожалению, в чудеса сегодня уже никто не верит. Вы сейчас прикидываете, что же именно произошло на сцене – то ли гипноз, то ли оптический обман, то ли иллюзия. Магия или мистика. Мир стал прагматичным и жестким, к сожалению. Он перестал быть ребенком. Но вы же видели! Вы видели!
Семеро под приветственные возгласы спускаются в зал. На лице их недоумение и смущение. Они не понимают, что же произошло на самом деле. То ли было, то ли нет.
– Теперь попрошу на сцену троих, – говорит Карл Мессир. Он испытывает смутное беспокойство – остатки ночного кошмара. Хорошо, что номера отработаны до автоматизма, никакой импровизации, в отличие от выступлений Данилы Галицкого. Он скользит взглядом по неполному залу. Ощущение тревоги усиливается. Начинает ломить в висках. Непроизвольно он подносит руку к лицу, словно защищается. В последнем ряду – мощный психогенный источник. Свет приглушен, и экстрасенс не может рассмотреть, кто там сидит.
Между тем трое молодых людей уже на сцене. Ухмыляются, скрывая смущение.
– Гимнастический этюд, – объявляет Карл Мессир, взмахивая рукой.
Один из троицы легко запрыгивает на плечи другому добровольцу, крупному и тяжелому. На лице его изумление – видимо, он не ожидал от себя подобной прыти. Тут же протягивает руку третьему – невысокому и тощему. Миг – и тот оказывается у него на плечах. Странная фигура, длинная и нелепая, возвышается посреди сцены, чуть раскачиваясь. Руки у всех троих расставлены в стороны для равновесия, глаза широко раскрыты. Повинуясь дирижерскому жесту Карла Мессира, пирамида начинает отклоняться вправо. Зал вскрикивает испуганно. Пирамида клонится все ниже и ниже, но, вопреки законам тяготения, не падает. Люди словно парят в невесомости в странной позе, полулежа. Вдруг пирамида, подчиняясь какой‑то неизвестной силе, начинает медленно поворачиваться вокруг собственной оси. Постепенно она убыстряет движение, на глазах превращаясь в пугающий аттракцион, который вполне можно назвать «дьявольской каруселью». На сцене происходит что‑то странное и нелепое. Вскрикивает женщина, за ней другая. Фигура вращается так быстро, что зрители перестают различать лица участников – кажется, длинное веретено со свистом рассекает воздух.
Карл Мессир щелкает пальцами. Движение пирамиды замедляется, она выпрямляется и послушно замирает. Верхний парень тяжело спрыгивает вниз. Взмахивает руками, стремясь удержать равновесие. За ним – второй.
– Ну как? – спрашивает гипнотизер.
– Класс! – радостно отвечает тот, что был сверху. – Просто нет слов! – Он машет кому‑то в зале.
– Перерыв пять минут! – объявляет Алена.
Сократ выносит маленький круглый столик. Зал наполняется возбужденным гомоном. Всем хочется потрогать смельчаков. Зрители бурно делятся впечатлениями.
Карл Мессир неторопливо выходит через боковую дверь клуба в захламленный неосвещенный тупичок. Оглядывается. Так же неторопливо идет к выходу из тупичка. Стоит там некоторое время, внимательно рассматривая полупустую улицу. Завидев зеленый огонек, стремительно выбегает навстречу такси…
Глава 7
Чай вдвоем
Консьерж подобострастно приветствовал Юлия Величко. Скользнул взглядом профессионального вышибалы по женщине в крестьянском платке в красные и синие розы, подивившись про себя странному выбору обычно взыскательного жильца.
Хозяин вошел первым. Женщина переступила порог и встала посередине, оглядываясь. Прихожая впечатляла высокими потолками и высокими встроенными шкафами красного дерева. Над черным лакированным столиком напротив двери висело старинное зеркало в тускло‑золотой раме. На столике – фаянсовая синяя с белым ваза, похожая на таз, в которой вперемешку лежали перчатки, зажигалки, ключи и смятые мелкие купюры. Юлий, на ходу стаскивая с себя пальто, потопал прямиком на кухню. Женщина в крестьянском платке, не дождавшись приглашения, постояла немного и пошла следом. Пальто валялось на полу, а Юлий уже наливал в стакан из литровой бутылки «Абсолюта». Водка громко булькала. Взглянув на женщину, Юлий взял второй стакан, выплеснул из него остатки какой‑то дряни. Налил водки, подтолкнул к женщине. Она взяла стакан. Они чокнулись, и Юлий, громко глотая и дергая шеей, жадно выпил до дна. После чего, все так же молча, зашаркал из кухни. Споткнулся о пальто, ударился плечом о дверной косяк, тяжело вывалился в коридор. Почти сразу же громко хлопнула дверь где‑то внутри квартиры. От ботинок остались на полу грязные лужицы.
Оставшись одна, женщина опустила стакан, так и не пригубив. Открыла холодильник, стала доставать свертки со снедью. Нашла хлеб. Поставила чайник. Вытащила из шкафчика большую керамическую чашку и пачку жасминового чая. Села на высокий, как в баре, табурет, положила голову на руки и задремала, ожидая, когда закипит чайник. Крестьянский платок сполз с ее плеч и упал на пол…
* * *
…Взрослые напрасно думали, что дети живут в неведении на разрешенном им жизненном пространстве, не подозревая о том, что находится на других этажах. Им внушили, что это табу, что там рабочие помещения с генераторами и лабораториями. Там опасно, ходить туда не следует. А подвалы – настоящие катакомбы, где можно заблудиться, и кроме того, нет света.
Любопытные маленькие хитрецы совершали ночные вылазки на другие этажи, на цыпочках прокрадываясь мимо спящего Сторожа. В тот раз Павел осторожно запустил пальцы в его карман и достал пластиковую карточку‑пропуск. Они, с трудом удерживаясь от смеха и зажимая рты руками, медленно спустились по лестнице до нижнего этажа и сунули пропуск в узкую щель на закрытой двери. Загудев, сработала сигнализация, и дверь медленно поехала в сторону.
На нижних этажах было много интересного. Они по очереди заглянули во все двери и вошли в лабораторию, где гудели, пощелкивали и мигали разноцветными огоньками десятки приборов. В центре стоял большой телевизор, Андрей включил его, и на экране они неожиданно увидели себя. Шел урок математики, и Учитель объяснял им квадратные уравнения. Оказывается, их снимали, как в кино. Камеры располагались в спальне, коридоре, классных комнатах. Андрей потыкал пальцем в кнопки, показал им спальню. Это была спальня Марии – на тумбочке сидела кукла в клетчатом платье. Постель была пуста. Дети переглянулись. Андрей нахмурился и сказал, что завтра, при просмотре пленки, их обнаружат. Они их обнаружат. «Они» – были все остальные – Учитель, Доктор, безликие операторы, даже Отец. Они обнаружат их и примут меры. Павел рассердился и ударил кулаком по экрану.
– Подождите, – сказал Андрей. – Я знаю, что делать. – Пальцы его забегали по клавишам и кнопкам. Ни Мария, ни мальчики ничего не понимали. Изображение на экране замерло. Андрей взглянул на часы, подаренные Отцом, и сказал: – У нас есть два часа. А через два часа камеры включатся снова. Пошли!
И они отправились…
Им было невдомек, что в лаборатории тоже были камеры, которые никогда не выключались, и утренний оператор сразу же засек преступников. Был собран экстренный совет руководителей проекта. С перевесом в два голоса было принято решение не мешать детям и запустить спонтанный эксперимент, который получил название «Импровизация». Противники решения считали, что эксперимент опасен и детей ни на минуту нельзя оставлять без присмотра. Никто не может поручиться, что придет им в голову в следующий раз. Но любопытство остальных победило. Были усилены системы слежения и введена должность ночного оператора, который следил за мониторами и в случае чего поднял бы тревогу.
Внизу, в подвалах, в клетках жили животные – белые мыши и крысы с красными глазами. Некоторые были вполне бодры – они бегали по клетке, другие – видимо, больные или старые – лежали с закрытыми глазами.
– Мертвые, – сказал Павел.
– Что такое «мертвые»? – спросила Мария.
– Мертвые – это не живые, – ответил Андрей.
Завидев детей, зверушки поднимались на задние лапы, цепляясь передними за металлическую сетку клетки.
– Смотрите, какой хорошенький! – радовалась Мария, останавливаясь перед клеткой. – Можно, я возьму его себе?
– Нельзя! – отвечал Андрей.
– Почему?
– Мы не должны оставлять никаких следов. Они не должны догадываться, что мы уходим из Дома!
– Они и так знают, – буркнула недовольно Мария.
Мальчики переглянулись.
– Как это? – спросил Павел.
– Очень просто. Они следят за нами.
– Откуда ты знаешь? – спросил Андрей.
– Просто знаю.
– Врешь! – закричал Павел, бросаясь к Марии. Он бы ударил ее, но она проворно увернулась.
– Перестань! – сказал ему Андрей. – Мария!
Мария пожала плечами:
– Просто знаю. И вообще… – Она вдруг запнулась и уставилась прямо в глаза Андрею. Глаза ее широко раскрылись, лицо побледнело и исказилось. Рот превратился в узкую белую полоску.
– Хорошо, – сказал Андрей и положил руку на ее плечо. – Смотрите, какая здоровая! – вдруг воскликнул он, указывая на большую крысу. Они склонились над клеткой. Павел постучал пальцем по сетке, дразня крысу…
Наутро руководитель проекта прокрутил эту сцену раз десять, не меньше.
– Что? – спросил помощник.
– Они догадались, – ответил руководитель. – Смотри! – Он прокрутил эпизод в виварии еще раз.
– Вряд ли, – ответил помощник. – Марии просто хотелось досадить мальчикам. Кстати, самый продвинутый – Андрей. У Марии довольно средние способности.
– Она не договорила и отвернулась. Она не хотела, чтобы камера «видела» ее лицо. Обрати внимание на паузу. Почти минута молчания. И сразу же Андрей перевел разговор на крысу.
– Они – дети, – сказал помощник. – Их внимание не фиксируется на одной теме или на одном предмете. Не надо их… – он запнулся, подбирая слово. – Не надо их демонизировать. Я вот тоже наблюдаю своего сына и только диву даюсь… Я досмотрел запись до конца. Ничего, ровным счетом ничего не говорит о том, что они поняли. Они ведут себя как обычно. Они не смогли бы так притворяться. Но, разумеется, мы примем меры. Установим дополнительные камеры, уберем «скрытые» углы, все попадет в фокус. Даже если Мария снова отвернется… – Он улыбнулся, вспомнив своего шестилетнего сына. И подумал, что может знать о детях человек, у которого никогда не было своих детей?
* * *
…Марго поела, убрала еду в холодильник, вымыла чашку. Подперла щеку рукой и задумалась. Ей, можно сказать, повезло. Человек из парка – Юлий Величко – она прочитала фамилию на золотой табличке на двери – выигрышный лотерейный билет. Живет один, в средствах не стеснен. Квартира роскошная, интересно, сколько комнат и… вообще. И, самое главное, находится в таком жалком и размазанном состоянии после пережитой драмы, что можно брать голыми руками. Хотя личность жесткая и сильная. Интересно, что у него произошло? Проигрался? Вряд ли. Такие, как Юлий, головы не теряют и знают, где остановиться. Значит, произошло что‑то из ряда вон такое, что и деньги не помогли. Потерял любимую женщину? Горячо. Вряд ли, не похож Юлий на семейного человека, даже в прошлом. Он – игрок и бобыль по натуре. Одиночка. Но даже одиночка, игрок и вечный бобыль должен иметь… маяк. Близкую душу. Родственную душу. Мать? Мелькнула картинка – двое, грузный Юлий и тонкая стремительная женщина в полупрозрачных зеленых одеждах. Юлий – отчетливо, женщина – размыто. Умерла?
…Она подошла к незашторенному окну. Потрогала витраж в центре – герб с перьями, желтого льва. За окном был парк. Ей была видна длинная клумба, на которой возились женщины в оранжевых куртках. Рядом стояли ящики с рассадой. Кажется, анютины глазки. И деревья – старые вязы, березы, какие‑то кусты, сирень, похоже.
Громкий храп напомнил ей, что она не одна. Марго пошла на храп. Приотворила дверь, заглянула в спальню. Юлий развалился на громадной кровати, даже не сняв грязных ботинок. Рот его некрасиво раскрылся, нитка слюны тянулась на свитер. Дыхание с бульканьем, хрипением и свистом вырывалось из груди. Марго поморщилась. Недолго думая, подошла поближе и, стараясь не запачкаться, принялась стаскивать с Юлия ботинки. Потом прикрыла его пледом, краем вытерла нитку слюны на подбородке и шее. Взяла с тумбочки фотографию в серебряной рамке, внимательно рассмотрела, поставила на место. И вышла из спальни.
Походила по квартире, выбирая себе комнату. Гостиная, спальня, кабинет. Всюду пыль, по углам – серые клубы пуха. Хрусталь в серванте не мешало бы перемыть. А ковер почистить. Вон куски засохшей грязи.
И еще одна спальня, в которой, похоже, никто никогда не ночевал. Широкая кровать красного дерева, богатое гобеленовое покрывало. Маленький столик у изголовья, настольная лампа. Над кроватью – картина. Женщина в старинном платье, розочках и рюшах, с высокой прической, раскачивается на качелях. Художник изобразил ее в момент движения – она удаляется от зрителя, вытянув ноги в атласных башмачках, крепко держась за веревки, увитые розами. А вокруг беззаботный летний день, пышные цветущие кусты, веселая компания на траве невдалеке – тонкие кавалеры и жеманные дамы в белых париках.
Полюбовавшись на женщину, Марго уселась на кровать. Потом прилегла, сбросив сапоги. Свернулась калачиком, потянула на себя толстое покрывало. Через минуту она уже крепко спала…
Глава 8
Встреча
Карл Мессир постучал в знакомую дверь поздно ночью. Света в окнах не было, в доме спали. На стук никто не отозвался. Он прислонился плечом к стене, обхватил себя руками – здесь было холоднее, чем в городе. Остро пахнущая свежей зеленью и дождем густая сырость поднималась от земли. Веранда была заставлена ящиками с рассадой. Июньская ночь была светлой, и он различил цветы – голубые незабудки, кажется, и желтые примулы. Усмехнулся – здесь ничего не изменилось. Заколдованное царство. Он прикинул, сколько времени прошло с тех пор. И впервые ему пришло в голову, что вряд ли его здесь ждут, и ничего не изменилось только с виду, а на самом деле все давно уже не так. Никогда не нужно возвращаться – его девиз. Опасно, не нужно, невозможно. Ностальгия зло шутит, толкая оглянуться, – главное, не поддаваться тычкам. Ничего не сохранилось, ничего не вернется, ничего уже нет. Отряхни с себя пыль и прах прошлого, посмотри по сторонам и иди дальше, потирая ушибленное место.
Но ведь и идти‑то больше некуда, пришло ему в голову. Он уселся на верхнюю ступеньку крыльца, сунул руки в карманы плаща, съежился. Летняя ночь была неожиданно холодной. Хорошо хоть дождь закончился. Звезды высыпали, мелкие, незаметные. Бледный ущербный диск луны вынырнул из‑за туч…
…В городе был праздник цветов. Он попал сюда случайно, несмотря на данное себе обещание никогда больше не возвращаться в этот город, с которым связано его детство, о котором он так ничего и не узнал. Город, где жил Сторож, где поджидал его Человек со скамейки… Потянуло, видимо. Два дня, сказал он себе. Два дня! Смутные ожидания переполняли его, а вдруг! Вдруг прошлое вернется, он вспомнит, увидит что‑нибудь, вспыхнет искра и… все встанет на свои места.
Центральный парк уставили стендами и на скорую руку построенными павильонами. В воздухе пряно и немного печально пахло увядающей зеленью, яблоками, мятой. Всюду высились горы гигантских монстров‑кабачков, тыкв, помидоров, астр и георгинов неестественных расцветок, предвестников осени. Шаркающие ноги толпы, непрерывный ее поток, гомон голосов, вытоптанная трава газонов и лужаек, очередь за пивом и нехитрой едой. Чад от чебуречных и шашлычных. Смех, возгласы удивления и восторга взрослых, писк детей.
…Куст помидоров в керамическом цветочном вазоне, усыпанный мелкими, как горох, красными плодами, привлек его внимание. Он сорвал один красный шарик, сунул в рот, раскусил. Помидор резко пах и был неестественно сладок. Он с усилием проглотил его. И тут же встретился взглядом с молодой женщиной, сидевшей на перевернутом ящике в глубине павильона. Она перекусывала наскоро куском хлеба и молоком из бутылки. Обыкновенная женщина, в темно‑синих джинсах и голубой майке, с загорелым обветренным лицом и короткими светлыми волосами. С сильными кистями рук. Она отвела взгляд первой, облизнула губы, понесла пустую бутылку куда‑то вглубь. Вернулась и вопросительно посмотрела на него – удивилась, что он все еще здесь.
– Скажите, – начал он, нахмурясь, – каков агропромышленный эффект от этой культуры? – Он показал рукой на помидоры в цветочных горшках.
– Никакого, – ответила она, не удивившись. – Одна красота. И еще курьез.
– Как пони?
– Примерно. Или карликовые кедры бонсаи.
– Это вы сами их придумали? Помидоры‑бонсаи?
– Нет, помидоры‑черри. Их придумали уже давно. У меня дома есть еще и желтые и оранжевые, – не выдержала, похвасталась.
– Вы генетик?
Она рассмеялась:
– Агроном.
Он невольно залюбовался женщиной – у нее была хорошая улыбка и очень белые зубы. От глаз, серых, в коричневую крапинку, бежали легкие лучики морщинок.
– А семена можно купить? – спросил он важно.
– Можно купить рассаду.
– Прямо здесь?
Она покраснела, пожала плечами.
– Понятно, – сказал он. – Рассада у вас на огороде, и вы никогда не приглашаете домой незнакомых людей. Особенно мужчин.
Она взглянула ему прямо в глаза и промолчала. Поправила помидорный куст.
– Как вас зовут? – спросил он. И, прежде чем она ответила, сказал: – Подождите, я сам! Леся, Лида, Люся… Лариса! Лара.
– Откуда вы знаете? – Она настороженно смотрела на него.
Он кивнул на пластиковую карточку на голубой майке. Она дотронулась до карточки рукой. Улыбнулась:
– Все время забываю.
– Очень приятно. – Он протянул ей руку. Она, поколебавшись, протянула в ответ свою. – Андрей. – Рука у нее была жесткой и сильной, и под стать руке пожатие. – Никогда не встречал женщины‑агронома, – сказал он, удерживая ее руку.
– Вам все больше попадались агрономы‑мужчины? – не удержалась она.
– Я вообще никогда в жизни не видел живого агронома. Слышал, что есть такая человеческая разновидность, но до сих пор они мне не попадались. Агрономы для меня загадка.
– Загадка в чем? – спросила она, отнимая руку.
– А зачем такие маленькие помидоры? Есть никакого интереса, даже наоборот. И в салат не положишь. И пользы кот наплакал.
Лара рассмеялась. Смеялась она необычно – запрокидывала голову, на горле билась жилка. И не звонко, а скорее глухо, словно сомневалась. Морщинки в уголках глаз, морщинки в уголках губ. Ненакрашенных.
– В цветах пользы тоже нет.
– Э, нет, в цветах есть, – возразил он. – Цветы для украшения и настроения. Еще подарить можно… хорошему человеку.
– А вы представьте себе зиму, за окном снег, а на окне – куст помидоров. Знаете, как поднимает настроение!
– Ладно, – сказал он, – убедили. Покупаю рассаду на все окна и с нетерпением жду зимы.
…Он вернулся перед закрытием. Сказал:
– Привет! Помощь нужна?
Лара вспыхнула, и он понял, что она его ждала. У нее была разбитая перекрашенная «девятка», грохотавшая, как танк. Всю дорогу он держал на коленях помидорный куст, остро и терпко благоухавший, видимо, от стресса. Верхушка куста щекотала ему подбородок, и он, уворачиваясь, все время прядал головой и с трудом удерживался, чтобы не чихнуть.
Она жила в пригороде со старинным названием Посадовка, в деревянном доме с большой верандой, уставленной горшками и ящиками с рассадой. Такого буйства зелени и цветов видеть ему еще не доводилось. Вокруг дорожки стояли высокие розы, кремовые и нежно‑сиреневые, тут же торчали стрелы синего и голубого дельфиниума, кусты крупных ромашек и голубых колокольчиков, у забора – снопы золотого шара и мальв, вдоль веранды – всякая цветочная мелочь – огненные ноготки, каланхоэ, разноцветный портулак и другие, которые он видел впервые. Синие и розовые вьюнки оплетали столбы веранды. Дитя каменных джунглей, он застыл, пораженный. Впервые он находился так близко к земле.
– Вы не Лара, – сказал наконец. – Вы Ева из райского сада.
– А вы Адам? – спросила она.
– Почти. Адам значит «человек» на древнееврейском. Андрей – на греческом. И я буду называть вас Евой. С этих самых пор и до… всегда! Ева из райского сада. А где яблоня?
Она махнула рукой – там!
И так далее. Это был обычный банальный треп случайных людей, за которым не было никакого подтекста. Почти не было.
Они ужинали на веранде. Он вызвался почистить картошку. Она ушла принимать душ – зеленая невысокая будочка за домом, без крыши, а над ней металлический бочонок. Просто и без претензий. Вода в бочонке была теплая, нагрелась от солнца за долгий жаркий день. А сейчас, к вечеру, уже заметно похолодало, и в воздухе разлился пронзительный запах антоновки и зрелой зелени, напоминая, что осень уже на пороге. Лара появилась румяная, с мокрыми волосами, кутаясь в вязаную шаль. Принялась резать овощи. У нее были сильные ловкие руки – это он заметил еще в павильоне.
– Я не ем мяса, – сказала она. – И гостей не ждала.
Только сейчас он почувствовал, как проголодался. Картошку он все‑таки почистил – сказались навыки походной жизни, и поставил на огонь. Лара достала из холодильника кастрюлю. Что может сравниться с запахом тушеных грибов? Она зачарованно смотрела, как он ест. Почувствовав ее взгляд, он поднял глаза от тарелки, и она тут же увела взгляд.
– Что? – спросил он, перестав жевать.
Она засмеялась, запрокинув голову. Дернулась знакомая жилка на шее. И тогда он приподнялся и поцеловал ее в смеющийся рот. Так неловко, что они стукнулись лбами, и она вскрикнула. А он уже тянул ее к себе, впиваясь в обветренные губы…
…Поспешность, с которой она отвечала на его поцелуи, сказала ему многое. Не разнимая губ и рук, они встали из‑за стола. Он не помнил, как они оказались в теплой большой комнате, где пахло сушеными травами, на громадной деревянной кровати. Кровати было лет сто, и она отчаянно скрипела, протестуя. Он поспешно сдирал с Лары блузку и длинную юбку, под которыми ничего не было. Она только вздохнула неслышно и прижала его к себе. И снова он подумал, что у нее сильные руки. Мельком отметил очень белую грудь с сосками, розовыми, как цветки. И еще подумал, что, наверное, отвык и все забыл…
…Ее волосы пахли мятой. Она вскрикнула пронзительно, как сойка, и он зарылся лицом в ее влажные теплые волосы. На бесконечный миг они стали единым целым. Кажется, он застонал. Лежал, прижимая ее к себе, вдыхая травяной ее запах. Мелькнула мысль, что ничего не нужно – вот так лежать, и все! Конец пути, гавань, долгожданный приют. Райский сад. И Ева из райского сада, рожденная от яблони, белого налива или антоновки, и дикого шиповника…
И вдруг миг кончился. Она разняла руки, отпуская его. Он целовал ее губы благодарно и нежно. Гладил пальцами соски, чувствуя, как они снова готовно скукоживаются.
– Ты и правда Ева, – прошептал он, и она рассмеялась счастливо. – Ева из райского сада…
…Чай они пили при полной луне. Лара зажгла свечку, но он задул ее – и так светло. Одуряюще благоухала зелень, от пронзительной сладости ночных цветов кружилась голова, и его не покидало давешнее чувство, что это – пристань. Или остров. Остров, где трава и цветы, райский сад и женщина из райского сада – Ева. И больше никого. И всякие расхожие философские мысли стучали в голове – о том, много ли человеку нужно и как все просто на самом деле…
…Он ушел, не попрощавшись, три дня спустя. Зная, что уходит навсегда. Перед ним лежала дорога, а Ева была лишь передышкой в пути. С тех пор он иногда вспоминал о ней с чувством благодарности, как вспоминают почему‑то запомнившийся летний день или внезапный грозовой ливень, пригнувший к земле траву. Вспоминал с сожалением вначале, а потом уже и не был уверен, что это было на самом деле – возможно, привиделось в одном из странных его снов…
…И сейчас, не то путник, не то бродяга, он снова сидел на ее пороге, не зная, тут ли она еще и с кем. Он чувствовал, как отпустило напряжение, сидел и вспоминал, что ее сад когда‑то показался ему островом.
Тогда был конец лета, август, преддверие осени. Сейчас – раннее лето после холодной и затяжной весны. Деревья были покрыты прозрачной зеленью. Из земли мощно торчали запоздавшие темно‑зеленые блестящие стебли нарциссов, облитые луной. Он различал белые восковые цветы и длинные, только зародившиеся бутоны. Тонкий приторный аромат был разлит в воздухе. Ему было так хорошо, что уже не хотелось, чтобы она отперла дверь – он ничего не хотел о ней знать. Боялся, наверное. Пусть все будет как есть, думалось невнятно. Ночь меж тем становилась все холоднее. Он продрог в своем легком плаще.
…Он, опираясь на руки, жадно заглядывал ей в лицо. Они хватали воздух раскрытыми ртами, раздувая ноздри, впившись друг в друга расширенными зрачками, стремясь навстречу и отталкиваясь в неутомимом маятниковом ритме, теряя разность и обособленность, сливаясь в одно целое, возвращаясь на миг к великому замыслу природы, которая, говорят, предполагала нас единым существом, да что‑то сбилось в программе.
Чужая женщина, случайная, не очень красивая, с обветренным и загорелым лицом и коротко остриженными ногтями. Она ничуть не походила на Диву. Она была другая.
Ева… С мокрыми волосами, пахнущими мятой, холодными после душа. С сильным телом, неожиданно белым…
…Они оторвались друг от друга, когда пробовали голоса ранние птицы и комнату заливал неверный зеленоватый свет наступающего дня. И он уснул, как провалился. Лара, усевшись по‑турецки рядом, обнаженная, не чувствуя утренней свежести, неотрывно смотрела на него. Он спал на спине, раскинув руки, не ощущая своей наготы, не стесняясь. Длинный, со впалым животом и мерно вздымающейся грудью… Она протянула руку и погладила его по лицу. Он сморщился и всхлипнул, резко втянув в себя воздух. Она поспешно убрала руку и засмеялась радостно. Сидела и смотрела.
На подоконник вспорхнула с дерева любопытная птица, пискнула вопросительно, глянула на Лару бойким глазом. Лара махнула рукой – молчи! Птица не испугалась, не улетела, наоборот, залетела в дом, сделала круг под потолком и уселась на спинку кровати. «Брысь!» – прошептала Лара и приподнялась, чтобы согнать нахалку. И вдруг наткнулась на взгляд ночного гостя. Он смотрел в упор, не полностью проснувшись, улыбаясь. Лара смутилась и забыла про птицу. Он потянул ее за руку, подвинулся, уступая место…
…Они лежали сплетясь. Молча. Сердца их, всякие маленькие пульсы, тысячи сосудиков и мелких жилочек бились в одном неспокойном ритме – тук‑тук‑тук. Удары эти, накладываясь друг на друга, превращались в мощный ликующий хор…
…Он нашел ее рот губами, не открывая глаз. Любопытная птица смотрела, удивляясь. А потом вылетела в открытое окно…
…Около шести, уловив движение в доме, он постучал в дверь. Человек прошаркал в прихожую и спросил:
– Кто?
– Мне Павла Медведчука, – сказал он первое, что пришло в голову.
– Здесь таких нет. Подождите, сейчас спрошу. Зайка! – закричал он. Ему ответил далекий женский голос, который был Андрею знаком. – Ты не знаешь Павла Медведчука?
– У нас таких нет, – ответила женщина. – А что?
– Да вот человек ищет… А может, твой хахаль?
– Может, и мой, – засмеялась женщина.
– Извините, – пробормотал Андрей, скатываясь с крыльца. Ему показалось, что мужчина сейчас откроет дверь, и женщина выйдет из спальни…
Нельзя возвращаться. В лучшем случае там уже ничего не осталось. Пустота. А в худшем – Ева из райского сада превратилась в Зайку из пригорода. В его сказке принцессы превращаются в лягушек…
Тебя слишком долго не было, сказал он себе. Забудь. И больше не возвращайся. Ты путник. Судьба у тебя такая. Или беглец. Вот и беги, выбирая тайные и кривые тропы. Беги, не оглядываясь, петляй и путай следы. Предавай снова и снова поверивших тебе, подыхай от отвращения, если не хватает воли принять бой…
Глава 9
Марго
Когда Юлий Величко утром притащился на кухню и застал там Марго, он изумленно застыл на пороге. Он не помнил ее. Он не помнил о встрече в парке. Как всегда, по утрам ему было гаже, чем в любое другое время дня. Усилием воли он удерживался, чтобы не напиться вдрызг сразу же, едва поднявшись с постели.
Неизвестная женщина сидела за столом. Стол был накрыт. Кофе, бутерброды, апельсиновый сок. Салфетки.
– Ты кто такая? – спросил Юлий хмуро.
– Марго.
– Откуда ты взялась?
– Мы познакомились вчера в парке.
Юлий потер ладонью затылок. Притащить домой бабу, подобранную в парке, – такого с ним еще не случалось. Он подозрительно смотрел на Марго, не зная, что сказать, и испытывая от этого дискомфорт.
– Садитесь, – пригласила женщина, и Юлий хмыкнул невольно. – Кофе?
Он полез в холодильник, достал бутылку водки. Налил в чашку, залпом выпил. Протянул чашку женщине, она налила ему кофе. Пододвинула сахарницу и тарелку с бутербродами.
Жуя безвкусный бутерброд, спросил, кривовато ухмыляясь:
– А что ты делала в парке? Гуляла?
Она не ответила.
– Сколько берешь? – продолжал Юлий, в котором нарастало раздражение и хотелось скандала с битьем морд и посуды. Ему хотелось унизить и оскорбить ее, отыгрываясь за свое размазанное состояние.
– С тебя ничего, – ответила она, переходя на «ты», что он сразу же отметил и что ему не понравилось.
– Это почему? – опешил он.
Женщина выразительно пожала плечами, уставясь на него черными глазищами. У нее были черные блестящие волосы, гладко причесанные и собранные в пучок на затылке. Ему показалось на миг, что она похожа на Александру Величко. Он тут же отогнал эту нелепую и вздорную мысль – Александра была женщина‑эльф, эта – здоровая как ломовая лошадь.
– Потому.
В голосе ее он уловил презрительные нотки, что завело его еще больше, так как ее презрение он отнес на счет своей мужской несостоятельности.
– Ладно, ничего так ничего. Кончай харчиться и выматывайся. Поняла? И не вздумай обнести квартиру, из‑под земли достану!
Он швырнул недоеденный хлеб на стол, тяжело поднялся. Вышел из кухни, косолапо ступая, не оглянувшись. Снова улегся в постель, хотя спать ему не хотелось. Голова раскалывалась. «Нет, надо завязывать… по утрам, – невнятно думал Юлий. – Так и лапти сплести недолго, давление зашкаливает – ладно бы сразу, а то долбанет инсульт, и будешь под себя гадить да слюни пускать…»
Сразу… Хорошо бы. Он привстал, опираясь на локоть, дотянулся до ночного столика. Потянул ящик, достал пластиковую бутылочку со снотворным и плоскую флягу с виски. Насыпал в горсть, помедлил и стал, давясь, глотать маленькие горькие таблетки, запивая виски. Последней мыслью его было – вот и все, боже, какая гадость!
Он проснулся около полуночи. Включил ночник, взглянул на часы. Голова не болела, тело стало невесомым, желудок требовал еды, судорожно сокращаясь. Он уселся на постели, несколько раз сжал и разжал кулаки. Встал и пошел к двери, дробя рассыпанные по полу таблетки домашними туфлями.
На кухне достал из холодильника бутылку водки. Постоял, раздумывая. Сунул обратно. Пить ему не хотелось. Вытащил кастрюлю, снял крышку. Понюхал. Кажется, тушеная капуста с мясом. Он ел холодную сладкую капусту ложкой, стараясь подцепить куски мяса покрупнее. Вкусно. А где… Он вспомнил о женщине, как ее? Женщина из парка. Вишь, освоилась. Кажется, он ее выгнал утром. Ушла? На миг ему стало жаль, что она ушла, но он одернул себя. Пусть катится. Ему никто не нужен. А если бы был нужен – от баб отбоя и так нет, не ей чета. Неизвестно еще, что за птичка. Шлялась по парку без вещей, пошла с первым встречным. Осталась на ночь. Бездомная? Или присматривается, как половчее развести лоха? Он перестал жевать, прислушался. В квартире стояла тишина. «Гробовая», – подумал он. Ушла. Ну и хрен с ней.
Он устроил себе настоящий пир. Давно не ел Юлий с таким удовольствием. После капусты он вскрыл баночку лососины, нарезал крупными кусками хлеб. Ел жадно, давился, не насыщаясь. Потом долго пил чай с овсяным печеньем, неизвестно откуда взявшимся.
Чувствуя приятную тяжесть в теле, он потащился в гостиную к телевизору – хоть новости посмотреть, что там в мире делается. Дверь в маленькую спальню, обычно приоткрытая, была закрыта. Юлий остановился как вкопанный. Потом решительно нажал на ручку двери.
Там горел красный ночник. Женщина спала. Юлий вспомнил, что ее зовут Марго. Она спала, запрокинув полные руки за голову, едва прикрытая желтым атласным одеялом. Черные волосы вились как змеи. «Как эта, из греческой мифологии, – подумал Юлий. – Медуза, кажется, или, как ее…» Помедлив, он вошел.
Стоял у кровати, с любопытством ее разглядывая. А ничего бабец, в теле. Коровистая малость, правда. Он тронул ее за плечо. Она открыла глаза, уставилась на него. Подвинулась, уступая место. Он неловко прилег, неловко обнял ее, притянул к себе. И вдруг желание тряхнуло его с такой силой, что он застонал.
Сопя и путаясь в длинном халате, который он не догадался снять, Юлий поспешно содрал с нее одеяло. И с шумом втянул в себя воздух при виде роскошного смуглого тела в красноватом свете ночника, мощных бедер, выпуклого живота – Марго спала нагая. Он силой провел ладонью по ее груди, сминая пальцами нежную плоть, чувствуя под пальцами твердый, как плод шиповника, крупный сосок…
Он взял ее неловко, торопливо, судорожно дергаясь и задыхаясь…
Отвалившись, долго приходил в себя, с шумом заглатывая воздух. Ему казалось, что ничего подобного в жизни он еще не испытывал. Он нащупал ее руку, сжал и пробормотал: «Ах ты, сладкая моя… Спасибо».
Через полчаса он созрел для повторного сеанса и с удовлетворением почувствовал, что на сей раз получилось много лучше. Она ответила, умело направляя и побуждая его, приникнув ртом к его рту, и у него мелькнула мысль, что он мог бы, скотина этакая, почистить зубы…
Утром она приготовила завтрак. Гренки, овсянка, кофе. Юлий явился в рубашке и домашних брюках вместо давешнего заношенного халата, ценимого за мягкость и безразмерность, после душа, тщательно выбритый и благоухающий. Она пододвинула ему рюмку и бутылку водки. Он взглянул подозрительно. Она ответила спокойным взглядом, чуть улыбнулась. Юлий не был бы собой, если бы дал приручить себя не за понюх табаку. При виде бутылки, подсунутой услужливо, в нем проснулись его обычные подозрительность и недоверчивость. Он смотрел на Марго, набычившись. Ему пришло в голову, что она ловкачка, профессионалка, аферистка и у нее дальний прицел.
Завтрак прошел в молчании. Марго не пыталась втянуть Юлия в разговор, что его разочаровало – он был готов дать отпор. Он исподтишка наблюдал за ней, твердо намереваясь найти доказательства ее подлости и злых намерений. Марго держалась прекрасно. Не суетилась, не заглядывала в глаза многозначительно, напоминая о прошедшей ночи. И, ужаленный собственным оружием, Юлий почувствовал себя задетым. Да любая бы на ее месте… испытывала благодарность за приют, приласкалась бы, а эта молчит, как бревно. Сука! Водку он отодвинул из‑за духа противоречия и теперь жалел об этом.
Из‑за стола он поднялся в самом дурном расположении духа. И тут Марго дала ему возможность отыграться. «Ужин в восемь», – сказала она негромко ему в спину.
– Пошла на хрен! – с готовностью отозвался Юлий. – Чтобы я тебя тут больше не видел, поняла?
Марго не ответила. Она сидела, подперев голову рукой. Отпивала кофе маленькими глотками. И раздумывала над тем, что мужчины все‑таки низшая раса. Скоты. Животные. Жрать, пить и трахаться. Ну ничего, не на такую нарвался. Посмотрим, кто кого. Ей все равно некуда деваться. Она вздрогнула, когда громко захлопнулась входная дверь. Юлий ушел. «Сам пошел на хрен», – запоздало ответила Марго. В глазах защипало, и она расплакалась. Даже для такого тертого калача, каким была Марго, хамство мужчины после ночи любви было слишком большим испытанием…
…Он вернулся в десять вечера. Плюхнулся на диван, включил телевизор. Потом встал и, крадучись, подошел к заветной двери. Приоткрыл осторожно, стал на пороге. Ночник не горел, постель была аккуратно заправлена. Марго не было. Юлий глазам своим не поверил – вошел, потрогал кровать руками, желая убедиться, что Марго там нет.
Ушла. Такого поворота он не ожидал. Что‑то подсказывало ему, что Марго так просто не выкуришь. Сейф! Он метнулся в кабинет, лихорадочно зашарил рукой по стене. Яркий свет залил кабинет. Юлий отодвинул картину с бесформенными серо‑синими пятнами и с облегчением перевел дух. Сейф был в целости и сохранности. Идиот! Этот сейф можно только взорвать.
На кухне, как смутно надеялся Юлий, Марго тоже не было. Стол был накрыт на двоих. На плите бесформенной кучей возвышалась кастрюля, фрондерски укутанная в любимый халат Юлия. Он невольно усмехнулся.
Открыл дверь в свою спальню и позвал:
– Эй, пошли ужинать! Марго!
Глава 10
Старый знакомый
Генерал Колобов работал в своем кабинете – писал статью о патриотическом воспитании молодежи, пытаясь найти берущие за душу, неизбитые слова. Получалось не очень, до молодежи сегодня вряд ли достучишься, взять собственных внуков – избалованы, ленивы, ни в чем отказа нет. Каникулы в Испании, супернавороченные мобильные телефоны, машины. Тусовки! Слово‑то какое гадкое! Космополиты, одним словом.
Генерал откинулся в кресле, задумался. Не нужно было соглашаться писать эту дурацкую статью. После телевизионной передачи пришло несколько писем от зрителей – от Союза ветеранов, физрука средней школы с корявыми мыслями о патриотическом воспитании через трудовые лагеря – эка, хватился! – и пары старых маразматиков… Он согласился участвовать в передаче сгоряча, не подумав, по просьбе старого товарища по службе, о чем пожалел неоднократно. Не привык он к свету рамп, так сказать, да и ведущая оказалась просто глупой. Раньше такую и на пушечный выстрел не подпустили бы к средствам массовой информации, а теперь все дозволено… женам и подругам.
Он вздрогнул от стука в дверь, выпрямился. В квартире одна домработница, которая не станет беспокоить хозяина почем зря.
– Да! – произнес он громко. – В чем дело, Нюша?
Дверь открылась, и генерал схватился за край стола от неожиданности и, пожалуй, испуга. На пороге вместо ожидаемой домработницы Нюши стоял незнакомый человек.
– Кто вы такой? – хрипло спросил генерал, дергая ящик письменного стола, где лежал револьвер. Ящик заклинило, и генерал почувствовал, как горячая влажная волна прокатилась по спине. – Что вам нужно?
– Добрый вечер, Владимир Семенович, – смиренно произнес молодой человек. – Я не хотел вас испугать, извините ради бога.
– Кто вы такой? – Генерал всматривался в незнакомца. Слова молодого человека задели его, ему уже было неловко за свой испуг.
– Андрей Васильев, журналист из «Вечернего курьера». Хотел поговорить с вами, Владимир Семенович…
– Как вы сюда попали? – резко спросил генерал. Ему удалось наконец выдернуть ящик, он нащупал пальцами холодный металл оружия, и к нему вернулась его обычная самоуверенность.
– Мы решили дать материал о ветеранах…
– Вам следовало позвонить и… вообще, как вы попали в квартиру? Там что, никого нет внизу? А где Нюша?
– Я сказал консьержу, что я из газеты, пришел взять интервью. Ваша домработница впустила меня и проводила до кабинета. Очень любезная старушка.
Генерал всматривался в незваного гостя бесцветными, светлыми, близко посаженными глазами. Худое, бледное, какое‑то выморочное, лицо его уже было бесстрастно – «позитура», оттренированная смолоду. Молодой человек все еще стоял у двери, в свою очередь рассматривая генерала.
– Присаживайтесь, – сказал наконец хозяин. – Как вы сказали, вас зовут?
– Андрей Васильев. – Гость уселся в кресло перед письменным столом и сказал негромко: – Как на допросе…
– Приходилось бывать? – холодно спросил генерал.
– Извините, неудачная шутка.
– Так что же вам нужно?
– Я хотел бы написать о вас, Владимир Семенович. Смотрел передачу… Вы сильный человек, генерал. Я уверен, что в вашей жизни было много интересного, и наши читатели… – Он говорил, приветливо улыбаясь, сверля генерала испытующим взглядом. Генерал шевельнулся нетерпеливо, и молодой человек не закончил фразы.
– Не думаю, что моя жизнь может кого‑нибудь заинтересовать. Обыкновенная рутинная работа, кабинетная в основном. Аналитическая. – Он постучал себя пальцем по лбу. – Ни погонь, ни перестрелок, ничего такого… особенного. Жизнь не кино. А потом, после этой… вылазки в эфир, так сказать… – он позволил себе усмехнуться одними губами – глаза были по‑прежнему холодны и неприветливы, – …я стал популярной фигурой, а я к этому не привык, знаете ли. Письма вот пишут, – он кивнул на бумаги на столе, – я и забыл уже, когда в последний раз получал письмо. Вот статью попросили написать… Я согласился не подумав, и совершенно напрасно, как оказалось. Не мое это. Не выходит у меня, таланта к сочинительству нет.
– Хотите, я напишу? – вызвался гость.
– Да нет уж, я сам. Не боги горшки лепят. Или обжигают, как говорится…
Наступила пауза. Они выжидательно смотрели друг на друга, напоминая боксеров на ринге, выжидающих, когда приоткроется противник. Ни капельки не веря друг другу, произнося ничего не значащие фразы…
Молодого человека, назвавшегося Андреем Васильевым, звали на самом деле Андреем Липатовым, и журналистом он не был. Генерала Колобова он увидел случайно в той самой бездарной телепередаче…
Его жена, которую он ненавидел всем сердцем, вдруг закричала:
– Смотри, настоящий упырь! – Она обожала фильмы о вампирах, упырях и оборотнях – дурацкие голливудские страшилки.
Он взглянул на экран. Действительно, упырь. Галантный, снисходительный, без возраста, упырь преувеличенно серьезно отвечал на банальные вопросы молодящейся дамы‑ведущей. Андрей, который наливал себе виски, застыл на месте, впившись взглядом в бледное сухое лицо человека на экране. Наш гость, генерал Колобов, сказала ведущая. Генерал Колобов…
Жена, полюбовавшись на упыря, защелкала пультом. Андрей ненавидел ее привычку щелкать пультом.
– Верни! – крикнул. – Ну!
– С каких это пор тебя интересует подобная туфта? – игриво спросила она.
– Верни! – В его голосе слышалось бешенство. Он шагнул к ней. Она отшвырнула пульт, от удара отскочила крышка, и вылетевшая батарейка заскользила по полу. Жена, не глядя на него, поднялась с широкого кожаного дивана и вышла из комнаты. На лице ее застыла обиженная гримаска. Пока Андрей ползал по полу в поисках батарейки, бормоча ругательства, пока вставлял ее в пульт, искал нужную программу, беседа с генералом закончилась. Ведущая деловито сообщила о дате следующей встречи и попрощалась. Андрей чертыхнулся и с трудом подавил в себе желание броситься вслед за женой и закатить скандал. Он уселся на диван, сцепил дрожавшие руки в кулаки, уставился в пол невидящим взглядом. Чувствовал, как, пульсируя, нарастает в затылке давящая тяжесть…
Он знал этого человека. Он видел его когда‑то. Маленькое бледное лицо, острый кадык, бескровные губы, растянутые в фальшивой улыбке, и пронзительные, близко посаженные свинцовые глаза. Он его знал, он помнил каждую черту и деталь этого лица – родинку на носу слева, асимметричные уши – правое оттопыривалось чуть больше левого, маленький вертикальный шрам над правой бровью. Человек наклоняется к нему и, улыбаясь, что‑то говорит. А он, Андрей, как завороженный смотрит ему в лицо…
…Андрей Липатов был везучим. Не стихийно везучим, когда удача сама ведет человека за руку или подсовывает выигрышный лотерейный билет. У него все было иначе. Он намечал себе цель, вершину для покорения, и карабкался туда упорно, одержимо, не отвлекаясь на мелочи. Желания стучались в его сердце острыми жесткими кулачками. Деньги, благополучие, положение… Сын скромных школьных учителей, он не блистал особыми талантами, брал усидчивостью и старанием, а не умением. Не хулиганил, не курил, не пробовал даже пива. Не ругался. Речь его была удивительно правильной, а манеры подкупали искренностью. У него была приятная внешность, честные глаза и хорошая улыбка, а также умение говорить с трибуны без бумажки. Учителя его обожали, ни одно школьное мероприятие не обходилось без Андрея Липатова. Родители им гордились. Мать преподавала русский язык и литературу в этой же школе. Отец – математику.
И в престижный экономический институт он поступил довольно легко, записавшись на подготовительные курсы и примелькавшись там, сведя знакомства с профессурой и сумев стать своим и нужным. И женился он удачно на четвертом курсе на дочери банкира. За ней увивались всякие козырные на шикарных тачках, с дачами на Канарах, а досталась она ему, безродному Андрею Липатову. Папа‑банкир был не в восторге от мезальянса, но, обожая своенравное чадо, смирился. Поговорив с женихом раз‑другой, папа решил, что все уж не так плохо. Как говорил один великий сказочник – не грех появиться на свет в утином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца. Парень понравился ему серьезностью и целеустремленностью, которых недоставало инфантильным друзьям дочки.
Папа дал добро. Они поженились. И даже венчались в церкви, как теперь принято. Все было как в сказке и развивалось по заранее намеченному плану. Андрей Липатов выбился из честной бедности, и весь мир был у его ног. Если бы не одно маленькое досадное «но», которое было словно насмешкой фортуны, ее издевательской гримасой, а возможно, и местью… Андрей не любил жену. Это не беда, так, увы, случается. Но тут было другое. Он ненавидел жену от всего сердца. Пламенно, страстно. При взгляде на спутницу жизни у него меркло в глазах. От постоянного притворства портится кровь и застаивается желчь. Почему так случилось? Людмила была глуповата, избалована, пуста. Но разве это причина? Не было причины – чувство его было вполне иррациональным, не совпало что‑то у них в генетическом коде, скорее всего.
Подобные упражнения в ненависти и притворстве даром не проходят. Андрей не имел друзей, никому не верил, никого не любил. Он был жесток и способен на многое. Он понял это про себя, когда случилась та история… Раньше целью его жизни была карьера и деньги, теперь – деньги и независимость. Любой ценой. Как только у него будет достаточно денег, он отряхнет прах постылого семейства с ног, и поминай как звали. Но запасной аэродром еще не готов. Выражаясь образно, лишь заложен его фундамент.
Та история… Он отхватил прилично тогда, но испытал при этом страх, который помнит до сих пор. Ни угрызения совести, ни раскаяние, а только страх. Он просыпался в холодном поту, ему чудились подозрительные стуки и шорохи за стеной, он с трудом удерживался, чтобы в спальне не заглянуть под кровать. Взгляды чужих и даже домашних приводили его в состояние паники – ему хотелось закричать: «Что?!» Ему казалось, они что‑то пронюхали и только и ждут удобного момента…
Параноидальные настроения продолжались около года. Острые ощущения постепенно сгладились, и он стал оглядываться в поисках нового прибыльного предприятия. Небольшие суммы, изъятые в банке тестя, не шли в счет. Так, мелочь на карманные расходы. Все чаще он возвращался к мысли, что то дельце он провернул довольно удачно, и уверенность крепла в собственной безнаказанности.
Он не хотел детей. Сын, долгожданный внук деда‑банкира, названный Михаилом в его честь, вогнал Андрея в состояние оторопи. Светловолосый, в жену, мальчик напоминал ему другого ребенка, и это воспоминание не доставляло ему ни малейшего удовольствия. Он не смог заставить себя полюбить сына. К счастью, у малыша было много нянек, так что никто особенно не приставал к Андрею, требуя прогулять сына, подержать на коленях, покормить. Или каким‑либо другим образом проявить отцовские чувства.
Людмила, обожавшая сына, перестала вешаться на мужа, как раньше. Кроме ребенка, у нее появилась еще одна радость – она стала выпивать. Сначала понемногу, соблюдая приличия, всегда на людях, ну, там мартини со льдом, кампари с водкой, а потом и в одиночку, в чистом виде, безо льда. Каждый вечер, перед сном. Сын спал у себя в детской, муж считал деньги в банке, а Людмила усаживалась с бокалом и бутылкой смотреть очередной ужастик.
Людмила, ненавистная ему трезвая, пьяная внушала еще большее отвращение. Она требовала любви, упрекала вечной занятостью, раздражалась, и он с трудом держал себя в руках. Однажды она ломилась в ванную комнату – ей пришла в голову идея устроить секс под душем, как в американском фильме, а он стоял обнаженный, мокрый, сжав кулаки, слушая ее пьяные вопли и проклятия. Случайно его взгляд упал на собственное отражение в зеркале, и он вздрогнул, не узнав себя. Человек с перекошенным бешенством и ненавистью лицом был ему незнаком…
Так они и жили.
А потом он увидел на экране генерала Колобова. И понял, что видел его раньше. Знает родинку на крыле носа, невидимую на экране, помнит аккуратно зачесанные пегие волосы, сейчас совсем седые. Помнит пристальный взгляд, от которого даже сейчас испытывал желание съежиться, чувствуя себя маленьким мальчиком. В его жизни не было места генералу Колобову. Его жизнь была недлинна и проста. Она была как на ладони. Не было в ней никакого генерала Колобова. И в то же самое время он был. Как наваждение, как дурной забытый сон, как скрытая угроза. Андрей напоминал себе человека в темной комнате, ищущего дверь. Он шарит руками по стенам, делает осторожные шажки туда‑сюда, а двери все нет.
Может, я схожу с ума, думал он…
…Мать передачу не смотрела. Имя генерала Колобова ничего ей не говорило. Все ее знакомые были учителя в основном. И соседи. А отец, спросил Андрей. Отец умер от сердечного приступа несколько лет назад. Нет, сказала она с сомнением. Не было никакого генерала Колобова. Может, еще до свадьбы… До свадьбы не годится, ответил Андрей. Я видел его где‑то, а где не вспомню. Совсем маленьким. Помню, еще боялся его.
Мать пожала плечами. Увела глаза. Она была, пожалуй, единственным человеком, к которому Андрей испытывал что‑то похожее на любовь и уважение, смешанное, правда, с долей презрения. Бывает и так. Смесь уважения и презрения за неумение жить, непрактичность и доверчивость. Мать всему верила, и ее часто обманывали. И в магазине обсчитывали. А она продолжала верить. Она верила в верность отца, а он, Андрей, знал, что у того роман со студенткой‑практиканткой…
Мать зябко куталась в старую шаль – в квартире было холодно, топить еще не начали. На него она не смотрела, и он понял, что было что‑то, неизвестное ему, о чем ей не хотелось говорить. Было. Ее молчание и уведенный в сторону взгляд сказали ему больше, чем слова. Генерал Колобов – не больная фантазия, он не сходит с ума, память не сочинила это бледное лицо и бледные пустые глаза.
Он сел рядом, взял мать за руку. Поцеловал. Она расплакалась. Он никогда не видел мать плачущей, и предчувствие кольнуло в сердце. Она подняла на него несчастные глаза, в которых стоял страх. И стала говорить, что они с отцом давно хотели рассказать, но не решались, все думали, время не пришло, когда‑нибудь потом, когда он, Андрей, подрастет, станет понимать… У отца не могло быть детей. И они взяли мальчика из детдома небольшого городка, где работала директором ее школьная подружка. Мальчику было лет пять, откуда он взялся, никто не знал – как‑то на прогулке увязался за детдомовскими детьми, да так и остался. Тощий, диковатый бродяжка. Единственное, что он знал о себе – имя. Андрей.
– Вот, Андрюшенька, – закончила мать свой рассказ. – Теперь ты знаешь все. Не знаю, при чем тут твой генерал. Я давно собиралась рассказать. И отец. Раньше надо было… А когда отец… ушел, я уже и не знала, все думала, а может, и не надо, обойдется, зачем ворошить прошлое. У тебя все хорошо, прекрасная семья, ребенок, работа, за все эти годы никто не хватился тебя, не искал – моя подруга все еще работает в том детдоме, она бы знала. Пишет часто. Тоже одна осталась… Ты прости меня, Андрюша, за малодушие. Ты имел право знать.
– Ничего я не имел… – пробормотал Андрей. – Все правильно. – Мысль, что эта полная некрасивая женщина в старой одежде чужая ему, была неприятна. Он обвел взглядом комнату. Привычная обстановка, которой он не замечал раньше, поразила бедностью. Бросились в глаза выцветшие обои, облезший сервант, потерявший цвет ковер. И тысячи книг. Он выпустил ее руку, которую увидел новым беспощадным взглядом – некрасивую, грубую, не знавшую ухода, и сказал: – Хочешь, сделаем ремонт? Смотри, какие трещины на потолке.
Мать, казалось, не удивилась его вопросу. Поняла обострившимся чутьем, что теряет его. В глазах появилось выражение, как у больной собаки. Дети прощают матерям старую одежду, некрасивую старость, вернее, ничего этого они просто не замечают, принимая как есть. Женщина, сидевшая рядом, не была его матерью. Он и сам не знал, что он чувствовал сейчас – жалость к ней, раздражение, смутную тревогу.
Они пили чай на кухне. Он сунул под хлебницу деньги. На прощание заставил себя поцеловать мать в щеку. И ушел, зная, что никогда больше сюда не вернется…
Удивительно, он не помнил ничего из того, что было раньше. Самое первое детское воспоминание – какой‑то праздник, светит солнце, играет музыка. Он сидит на плечах отца, цепко держась за его голову, мать, беспокоясь, поддерживает его сзади теплой рукой. Вокруг толпа с цветами и воздушными шариками, и он счастлив!
А до этого – ничего. Пустота, черная дыра. Ни лиц, ни предметов, ни животных, ни домов. Ничего!
…В детдоме, в том самом городе, где все еще работала директрисой подруга матери – по старой памяти он называл ее матерью, ничего нового ему не сказали. Разве что, вспомнила директриса, у него были проблемы с речью и с ним занимался логопед. Она растрогалась, расплакалась, все спрашивала, как Леночка, которая всегда была красавица и умница… Некрасиво сморкалась в розовую салфетку.
Не надеясь на успех, в силу привычки ничего не упускать, он нашел логопеда, который все еще работал в районной детской поликлинике. Похоже, в этом городке никогда ничего не менялось. Подслеповатый старик долго жевал губами, потирал подбородок высохшей ручкой и наконец сказал, что можно посмотреть архивы, но вряд ли что‑то сохранилось. Медицинские карточки хранятся всего десять лет, а то и меньше. Это же не ЗАГС. Потом вдруг оживился и сказал, что действительно был ребенок, которого нашли на улице – тогда это было единичным случаем, не то что сейчас. Сначала думали, глухонемой, так как он молчал, отказывался говорить. Или не мог. Помнит он его – маленький, чернявый, в сиротской не по росту одежде. Первое слово, которое ребенок сказал…
– Просто удивительно, – покивал головой логопед, – вы не поверите, что‑то вроде «антипод», представляете? Откуда он взял это словцо, сказать не берусь. Такой вот казус.
– А второе? – спросил Андрей.
– Он назвал свое имя… – Логопед задумался. Сцепил сухие ручки на толстом зеленоватом стекле, покрывавшем стол, вздохнул и признался: – Но я запамятовал, к сожалению.
Странны выверты памяти – если бы не странное словечко «антипод», старый логопед напрочь забыл бы найденыша. А так запомнил. Правда, толку в этом было немного…
«…А вдруг я его сын, – подумал Андрей, вспоминая генерала. – А что, грехи молодости, с кем не бывает. Тайная связь, незаконный ребенок, угроза карьере. Устранение ребенка, а может, и матери. Фу, чушь какая…»
Глава 11
Лара
Лара слышала, как уходил Андрей. Лежала с закрытыми глазами и думала, ну вот и все. Ей хотелось вскочить, броситься за ним, закричать, а как же я? Почему? Но она лежала, стараясь ничем себя не выдать. Даже дышать перестала. Чтобы он не почувствовал, что она проснулась, чтобы не встретиться с ним глазами. Чтобы избежать нелепой и постыдной сцены. Из‑под ресниц она наблюдала, как он одевается. Стараясь не шуметь, не сводя напряженного взгляда с ее лица.
Конец ознакомительного фрагмента – скачать книгу легально
[1] Максимилиан Волошин. В цирке.
Библиотека электронных книг "Семь Книг" - admin@7books.ru