
Медиум с Саутгемптон-роу | Энн Перри
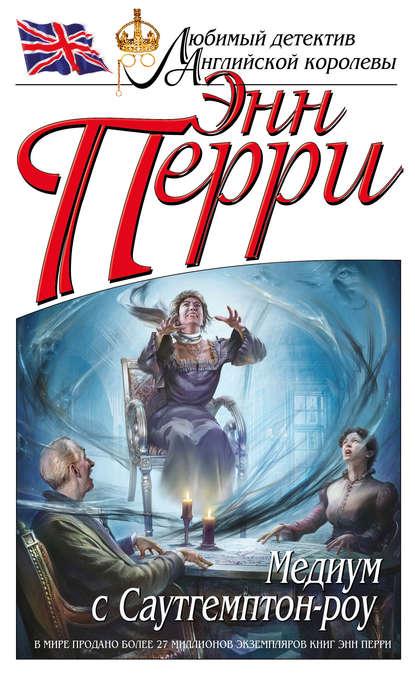
Энн Перри
Медиум с Саутгемптон‑роу
Томас Питт – 22
Глава первая
– Досадная ситуация, – тихо произнес заместитель комиссара полиции Джон Корнуоллис, и на лице его застыло горестно‑виноватое выражение. – Я сделал все, что мог, привел все возможные этические и юридические аргументы. Но, очевидно, мне не под силу бороться с властью «Узкого круга».
Томас Питт пребывал в потрясении. Он стоял в середине пронизанного солнечными лучами кабинета, и из‑за окна до него доносились приглушенные стеклами крики извозчиков, цокот лошадиных копыт и грохот колес по булыжной мостовой. Этим жарким июньским днем по Темзе курсировало множество прогулочных лодок. После расследования Уайтчепельского заговора Томаса восстановили в должности суперинтенданта полицейского участка на Боу‑стрит. Сама королева Виктория выразила ему благодарность за проявленные отвагу и преданность. А теперь Корнуоллис опять сообщил ему об увольнении!
– Но это же невозможно! – возразил Питт. – Ведь Ее Величество сама…
Взгляд его начальника не дрогнул, но в нем отразилась вся глубина душевного страдания.
– Для них нет ничего невозможного. У них больше власти, чем мы с вами можем даже представить. Королева всецело им доверяет. Если мы попытаемся довести до ее сведения наши сомнения, то тогда, уж поверьте мне, у вас не останется вообще никакого шанса, даже на место в Специальной службе[1]. Наррэуэй будет рад вашему возвращению, – добавил Джон через силу, точно слова застревали у него в горле. – Соглашайтесь, Питт. Ради вашего же блага, ради благополучия вашей семьи. На данный момент это лучшее из возможного. Тем более что вам уже удалось достичь там известных успехов. Вы принесли неоценимую пользу стране, помешав заговору Войси в Уайтчепеле.
– Как же, помешаешь ему! – с горечью возразил Томас. – Королева же посвятила его в рыцари, и «Узкий круг» по‑прежнему достаточно силен, чтобы своевольно назначать угодных им суперинтендантов на Боу‑стрит!
Корнуоллис поморщился, и кожа на его худощавом скуластом лице натянулась.
– Понятно, он еще силен. Но если б вы не помешали ему, то в Англии уже царил бы республиканский бардак, возможно, даже сопровождаемый гражданской войной, а сам Войси торжествовал бы в роли первого президента. К этому он и стремился. А вы помешали его планам, Питт, несомненно… и никогда не забывайте об этом. Уж он‑то точно не забудет!
Плечи опального полицейского поникли. От обиды его охватила унылая досада. Что он скажет Шарлотте? Ее ужасно огорчит такая несправедливость по отношению к нему. Она всегда готова бороться вместе с ним, но тут уж ничего не поделаешь. Томас все понимал и возражал Корнуоллису только из‑за потрясения и возмущения, осознавая жестокую несправедливость. Он действительно полагал, что его положение по меньшей мере надежно, раз уж сама королева признала его заслуги.
– Вам положен отпуск, – добавил Джон, – вот и воспользуйтесь им в свое удовольствие. Мне… мне чертовски жаль, что пришлось заранее сообщить вам об этой новости.
Питт не нашелся что ответить. От расстройства он забыл даже о вежливости.
– Уезжайте из Лондона в какое‑нибудь приятное местечко, – посоветовал шеф. – В пригород или на побережье.
– Да… полагаю, вы правы. Так будет лучше для Шарлотты, для детей…
Все равно она будет обижена, думал Томас, но, по крайней мере, они вместе отдохнут на природе. Давно они уже не отдыхали нормально – им удавалось только выбираться на короткие прогулки по окрестным лесам или лугам, позволяя себе лишь иногда по выходным устраивать пикники с сэндвичами и спокойно любоваться небесами.
Миссис Питт пришла в ужас, но быстро подавила первую вспышку возмущения – возможно, в основном ради детей. На одиннадцатом году жизни Джемайма мгновенно улавливала смену настроения, да и Дэниел, будучи младше сестры всего на два года, тоже быстро реагировал на все происходящее. Скрыв обиду, женщина начала живо рассуждать о возможностях отпуска и планировать, когда они смогут отправиться в путь, раздумывая о том, много ли теперь могут позволить себе потратить.
Подготовка заняла всего несколько дней. Питты решили также взять с собой сына Эмили, сестры Шарлотты, – их дети были близки по возрасту, а Эдвард к тому же стремился увильнуть от формальных учебных занятий и ответственности, свалившейся на него как на отцовского наследника. После смерти первого мужа Эмили, лорда Эшворда, их единственному ребенку достались как титул отца, так и огромное состояние.
Они прекрасно поживут пару с половиной недель в коттедже в Харфорде, небольшом поселении в окрестностях Дартмура, решила Шарлотта. Ко времени их возвращения всеобщие выборы уже закончатся, и Питт вновь поступит в распоряжение начальника спецотдела Наррэуэя, руководившего зачаточной службой безопасности, в основном направленной на борьбу с фенианскими бомбистами и терзающими общество проблемами Гомруля, с которыми беспрестанно и пока неизменно с минимальной надеждой на успех боролся Гладстон[2].
– Даже не знаю, много ли брать для детей сменной одежды, – произнесла Шарлотта таким тоном, будто этот вопрос серьезно озадачивал ее. – Часто ли они будут там пачкаться, интересно…
Они с Томасом находились в спальне, пакуя последние вещи. Вскоре им предстояло сесть на дневной поезд и укатить в юго‑западном направлении.
– Очень часто, надеюсь, – с усмешкой ответил Питт. – Забота о чистоте вредно сказывается на характерах детей… особенно мальчиков.
– Тогда мальчикам придется принять участие в стирке! – мгновенно парировала его жена. – Я покажу, как пользоваться утюгом. Это очень просто… только тяжело… и ужасно скучно.
Томас уже собрался ответить ей, когда появившаяся на пороге горничная Грейси сообщила:
– Тут извозчик доставил вам какую‑то записку. Он передал ее мне. – И она вручила Питту сложенный листок бумаги.
Тот открыл его и прочел:
«Питт, мне необходимо немедленно увидеться с вами. Поезжайте на извозчике, доставившем вам это сообщение. Наррэуэй».
– В чем дело? – встревожено спросила Шарлотта, заметив, как помрачнело лицо ее мужа. – Что еще случилось?
– Не знаю, – ответил Томас. – Наррэуэй пожелал увидеть меня, но вряд ли по какому‑то важному делу. Я не собирался начинать работать в Специальном отделе еще недели три.
Миссис Питт, естественно, знала, кто такой Виктор Наррэуэй, хотя и никогда с ним не встречалась. С момента ее знакомства с Томасом в 1881 году она принимала деятельное участие во всех его делах, которые возбуждали ее любопытство или вызывали гнев, а также если расследование затрагивало кого‑то из ее близких. Более того, именно Шарлотта подружилась с вдовой Мартина Феттерса, убитого Джоном Эдинеттом в ходе заговора в Уайтчепеле, и в итоге выяснила причину его смерти. Так что для людей, не связанных с делами Специальной службы, она имела прекрасное представление о деятельности Наррэуэя.
– Что ж, постарайся убедить его не задерживать тебя долго, – сердито заявила она. – Ты же в отпуске, и сегодня днем отходит наш поезд. Лучше б он прислал свое сообщение завтра, когда мы успели бы уехать подальше от Лондона!
– Не думаю, что это важно, – небрежно бросил Питт и улыбнулся, хотя улыбочка у него получилась кривоватая. – В последнее время вроде бы ничего не взрывали, и вероятно, в свете предстоящих выборов, подобных акций до их окончания не последует.
– Тогда почему он не мог подождать до твоего возвращения? – спросила женщина.
– Вероятно, он мог бы, – уныло пожал плечами Томас. – Но я не могу себе позволить ослушаться его.
Очередное суровое напоминание о его нынешнем подчиненном положении.
Питт подчинялся непосредственно Наррэуэю, и никто теперь не мог оказать ему законную помощь – например, открыть доступ к общеизвестным знаниям или судебным решениям, которыми он пользовался раньше, служа в уголовной полиции. Если Виктор откажется от него, ему вообще некуда будет возвращаться.
– Да… – Шарлотта потупила взгляд, – я понимаю. Просто напомни ему о нашем поезде. На следующем нам не успеть доехать до Харфорда засветло.
– Хорошо. – Полицейский поцеловал жену в щечку, после чего, резко развернувшись, покинул комнату, спустился по лестнице и вышел на улицу, где его дожидался извозчик.
– Поедемте, сэр? – спросил его извозчик с козлов.
– Да, поедем, – согласился Питт.
Взглянув на кучера, он забрался в двуколку и опустился на сиденье как раз в тот момент, когда они тронулись в путь. Что же могло так срочно понадобиться от него Виктору Наррэуэю, раз он не мог дождаться его выхода из отпуска через три недели? Может, он просто решил показать свою власть, подчеркнув еще раз подчиненное положение Питта? Томас еще не успел толком разобраться в методах работы Специальной службы. Он почти ничего не знал о фениях, не имел опыта в обнаружении динамита или прочих взрывных устройств, мало знал о причинах каких‑то политических заговоров, да и не хотел, честно говоря, ничего знать о них. Питт был детективом. Он научился мастерски распутывать уголовные преступления, учитывая все детали и страсти, способные привести к убийству человека, а не интриги и махинации шпионов, анархистов и революционеров.
Он блестяще разобрался с заговором в Уайтчепеле, но теперь с этим делом уже покончено. Даже та правда, что им удалось выяснить, предана молчанию и покоится в тайне вместе с недавно погребенными трупами, дабы сокрыть ужасные события, приведшие к их смерти. Чарльз Войси по‑прежнему благоденствует, и Спецслужба не смогла найти никаких бесспорных доказательств его причастности к заговору. Но своеобразное правосудие все же свершилось. Ему, тайному предводителю движения по свержению королевской власти, пришлось лицемерно, рискуя жизнью, предстать в роли ее спасителя. Питт улыбнулся и почувствовал, как его горло сжалось от горя при воспоминании о том, как он стоял рядом с Шарлоттой и Веспасией Камминг‑Гульд в Букингемском дворце на церемонии королевского посвящения в рыцари Войси за его заслуги перед Короной. Чарльз поднялся с колен, онемев от ярости – что Виктория восприняла как благоговение и благосклонно улыбнулась ему. Принц Уэльский также оценил его заслуги, и Войси, развернувшись, прошел мимо Томаса, взглянув на него с обжигающей ненавистью, полыхавшей в его глазах адским огнем. Даже сейчас, вспомнив об этом, Питт поежился, точно от холода.
Да, в Дартмуре они прекрасно отдохнут: безбрежные чистые небеса, гуляющий по просторам ветер, запахи земли и трав на сельских дорожках… Они будут гулять и болтать или просто гулять! Он будет запускать с Дэниелом и Эдвардом воздушных змеев, забираться на скалистые холмы, собирать ягоды, наблюдать за жизнью птиц или животных. И Шарлотта с Джемаймой смогут заниматься всем, чем захотят: наносить визиты, заводить новые знакомства, гулять по саду или собирать луговые цветы.
Двуколка остановилась.
– Вот и прибыли, сэр! – крикнул извозчик. – Смело заходите. Господа уж там, ожидают вас.
– Спасибо, – откликнулся Питт и, выбравшись на тротуар, прошел к крыльцу, ведущему к простой деревянной двери.
Дом вовсе не походил на ту мастерскую в Уайтчепеле, где он недавно встречался с Наррэуэем. Возможно, глава Спецслужбы менял адреса своих явок по мере служебной необходимости. Открыв дверь без стука, Томас вошел в коридор и, пройдя по нему, попал в приличную гостиную, за окнами которой находился крошечный сад, почти весь заросший розами, давно нуждавшимися в подрезке.
Виктор Наррэуэй сидел в одном из двух кресел. Не вставая с места, он пристально взглянул на Питта. Этот худощавый, безукоризненно одетый мужчина среднего роста производил поразительное впечатление на редкость умного человека. Даже во время отдыха взгляд начальника Спецслужбы искрился идеями, словно его ум не отдыхал никогда. Лицо его, с длинным прямым носом и почти черными, прикрытыми тяжелыми веками глазами, обрамляли густые темные волосы, казалось, присыпанные серебром.
– Садитесь, – распорядился он, видя, что Томас топчется на месте. – Мне не хочется задирать голову, глядя на вас. Да и вы со временем устанете и начнете нервничать, чем раздосадуете меня.
Питт продолжал стоять, засунув руки в карманы.
– А я не имел намерения задерживаться. Сегодня дневным поездом я уезжаю в Дартмур.
Наррэуэй поднял густые брови:
– С семьей?
– Да, конечно.
– Сожалею.
– Тут не о чем сожалеть, – ответил Томас. – Я как раз с огромной радостью еду в отпуск. Причем заслуженный, кстати, после Уайтчепела.
– Разумеется, – спокойно согласился Виктор. – И тем не менее вы не поедете.
– Нет, поеду.
Они знали друг друга от силы несколько месяцев и работали в достаточно независимой манере всего по одному делу. Питта не связывали с новым начальником такие долгие взаимоотношения, как с Корнуоллисом, к которому он не просто относился с большим уважением и симпатией, – он еще и доверял ему больше всех других людей. Томас еще не понимал толком, что представляет собой Наррэуэй как человек, и, конечно же, не доверял ему, несмотря на его поведение во время Уайтчепельского дела. Он полагал, что Виктор служит на благо страны и живет согласно его собственному этическому кодексу, но пока не понимал, в чем сущность этого кодекса, и между ними пока не завязались дружеские отношения.
– Пожалуйста, сядьте, Питт, – вздохнув, повторил Наррэуэй. – Я предполагал, что вы доставите мне известные психологические проблемы, но имейте хотя бы вежливость не давить на меня также физически. Мне неудобно задирать голову, чтобы видеть ваше лицо.
– Сегодня я уезжаю в Дартмур, – повторил его подчиненный, но все‑таки сел в предложенное кресло.
– Нынче у нас восемнадцатое июня. Парламент соберется двадцать восьмого, – устало произнес Виктор, словно это знание печалило и неописуемо тяготило его. – И сразу начнется всеобщая предвыборная кампания. Полагаю, первые результаты мы получим к четвертому или пятому июля.
– Тогда я потеряю право голоса, поскольку буду отсутствовать дома, – заметил Питт. – Смею заметить, впрочем, что мой голос не будет иметь ровно никакого значения.
Наррэуэй неотрывно смотрел на него.
– Неужели ваш избирательный округ настолько коррумпирован?
Томас слегка удивился:
– Я так не думаю. Но он издавна считается либеральным, и общее мнение, видимо, склонится в пользу Гладстона, пусть и с незначительным перевесом. Но вы же не затем вызвали меня к себе на три недели раньше, чтобы сообщить о выборах!
– Нет, отчасти.
– Нет, даже приблизительно! – Питт начал вставать.
– Сядьте, – подавляя вспышку гнева, приказал Виктор резким, как удар хлыста, голосом.
Его сотрудник сел – больше от удивления, чем подчиняясь приказу.
– Вы хорошо справились с делом в Уайтчепеле, – спокойно и тихо произнес Наррэуэй, откинувшись на спинку кресла и закинув ногу на ногу. – Вы обладаете храбростью, воображением и способностью к самостоятельным активным действиям. И у вас есть моральные принципы. Выступив в суде, вы нанесли поражение «Узкому кругу», хотя могли бы дважды подумать, понимая, против кого выступаете. Вы – хороший детектив, лучший из моих подчиненных, и да поможет мне Бог! – воскликнул он. – Мои люди больше привыкли разбираться со взрывчатыми веществами и попытками политических убийств. Вам отлично удалось расстроить планы Войси, но еще лучше вы представили совершенное им убийство в таком виде, что он получил рыцарство за спасение трона. Это была великолепная месть. Республиканские соратники теперь считают его заклятым предателем. – Губы Виктора тронула легчайшая улыбка. – Раньше‑то они видели его в кресле будущего президента! А теперь не доверят ему даже наклеивать почтовые марки.
Это следовало бы воспринять как высочайшую похвалу, однако, видя неизменно суровый, затененный веками взгляд начальника, Питт испытал лишь чувство опасности.
– Он никогда не простит вас за это, – заключил Наррэуэй так небрежно, словно сделал не более чем своевременное замечание.
– Я знаю, – хрипловато произнес Томас, чувствуя, как к горлу у него подступил комок, – и никогда не думал, что он на такое способен. Но вы также сказали в конце того расследования, что его месть не выльется в простое физическое насилие.
Кулаки бывшего суперинтенданта невольно сжались, и он испытал холодный страх, но не за себя, а за Шарлотту и детей.
– Не выльется, – кротко согласился Наррэуэй. На мгновение выражение его лица смягчилось, но тут же вновь посуровело. – Но он использует ваш гениальный ход к своей собственной пользе – в этом он также гениален.
Питт откашлялся:
– Я не понимаю, что вы имеете в виду.
– Теперь он ходит в героях! Посвященный в рыцари королевой за спасение трона, – сказал Виктор, упершись обеими ногами в пол и подавшись вперед, и его лицо внезапно исказилось от злости. – Он собирается баллотироваться в парламент!
– Что?! – ошеломленно переспросил Томас.
– Вы слышали, что я сказал! Войси баллотируется в парламент, и если он победит на выборах, то с помощью «Узкого круга» очень быстро пролезет на высшие должности. Он ушел из Апелляционного суда и занялся политикой. Очередное правительство будет консервативным – таково наше ближайшее будущее. Гладстону долго не протянуть. Помимо того, что ему уже восемьдесят три года, приверженность Гомрулю доконает его. – Глава Спецслужбы не сводил глаз с лица Питта. – И тогда мы увидим Войси на должности лорд‑канцлера, во главе имперской судебной власти! У него будет возможность подкупить любой суд в стране, что означает в итоге всю судебную систему.
Это была кошмарная перспектива, но Питт уже понял, что она возможна. Все возражения замерли на его губах еще до того, как он произнес их.
Наррэуэй тем временем немного успокоился, хотя его видимое напряжение почти не изменилось.
– Его выдвинет Южный Ламбет, – добавил он.
Томас быстро представил карту Лондона.
– В него, по‑моему, еще входит район Камберуэлла или Брикстона?
– Оба. – Взгляд Виктора оставался непреклонным. – И верно, этот округ выдвигает либералов, а Войси – консерватор. Но это не облегчает мне душу, а если вы успокоились, то вы глупец!
– Нет, – сухо бросил Питт. – Он найдет уважительную причину. Он сумеет добиться своего подкупом или запугиванием, пользуясь властью и влиянием «Узкого круга». А кто кандидат от либералов?
Наррэуэй заторможено кивнул, по‑прежнему глядя на собеседника.
– Один новичок, Обри Серраколд.
Следующий вопрос Томаса был очевидным:
– Может, он тоже связан с «Узким кругом» и в последний момент уступит или откажется от выборов по иной причине?
– Нет, – уверенно ответил Виктор, не объяснив, однако, причин своей уверенности.
Если он и имел свои источники информации в недрах «Узкого круга», то явно не хотел раскрывать их – даже своим сторонникам. Кроме того, узнав о них, Питт мог бы отнестись к нему с еще большим недоверием.
– Если б я мог понять, на чем он будет строить свою кампанию или как собирается действовать, то мне не понадобилось бы, чтобы вы остались в Лондоне и понаблюдали за ходом дел, – продолжил Наррэуэй. – Вышвырнув вас с Боу‑стрит, они, возможно, совершили одну из самых серьезных ошибок.
Очередное напоминание об их власти и несправедливости по отношению к Питту. Точное понимание сказанного ярко вспыхнуло в суровых глазах Виктора, и он не пытался скрыть этого. Они оба понимали, что в этом нет необходимости.
– Я же не смогу повлиять на избирателей! – с горечью воскликнул Томас.
Он уже не возражал против потери своего отдыха с Шарлоттой и детьми, но на лице его отразилась беспомощность перед неразрешимой проблемой. Полицейский даже не представлял, как подступиться к ней, не говоря уже о том, чтобы достичь победы.
– Не сможете, – согласился Наррэуэй. – Если б я нуждался в подобном влиянии, то нашел бы более ловких людей, чем вы.
– Тогда, вероятно, вы практически не лучше Войси, – неприязненно произнес Томас.
Его шеф вздохнул и вновь поудобнее устроился в кресле.
– Вы наивны, Питт, но мне это известно. Я использую доступные мне средства и не пытаюсь спилить дерево пилкой для ногтей. Вам нужно будет следить и слушать. Вы выясните, каковы средства Войси и как он их использует. Выясните, каковы слабости Серраколда и как их могут использовать. А если удача будет на нашей стороне, то нам откроются и все уязвимые и незащищенные места в доспехах Войси, и, обнаружив их, вы немедленно доложите мне о них. – Виктор вздохнул с задумчивой медлительностью. – Не ваша забота, как я предпочту поступить с ним. Постарайтесь понять меня, Питт! Совесть не позволит вам поступиться интересами обычных мужчин и женщин нашей страны. Но вам известна лишь малая часть общей политической картины, и вы не в состоянии выносить моральные суждения на государственном уровне. – На лице его не отразилось ни малейшей насмешки.
Дерзкий ответ замер на языке Томаса. Поручение Наррэуэя казалось ему совершенно невыполнимым. Понимает ли он, какова реальная власть «Узкого круга»? Это тайное общество, члены которого поклялись поддерживать друг друга, невзирая на собственные выгоды или преданность иным ценностям. Существовало множество тайных ячеек, но каждый член общества знал лично лишь горстку ближайших соратников, хотя все они беспрекословно подчинялись требованиям «Круга». Питт не знал ни единого случая предательства, открывшего миру личность кого‑то из этих тайных членов. Внутренний смертельный приговор приводился в исполнение немедленно, и убийцы действовали с абсолютной беспощадностью, поскольку никто так и не смог узнать, кто именно входит в состав «Круга». Его членом мог оказаться ваш начальник или любой простой клерк, которого вы практически не замечали. Среди них мог быть ваш врач, управляющий вашим банком или даже священник вашего прихода. Только в одном вы могли быть уверены – что к ним не присоединилась ваша жена. Женщины вообще не имели доступа в политику, им не полагалось даже знать о подобных организациях.
– Мне известно, что от этого округа выдвигаются либералы, – продолжил Наррэуэй, – но нынешний политический климат крайне неустойчив. Социалисты уже не просто кричат – в некоторых областях они достигли реальных успехов.
– Вы сказали, что Войси будет баллотироваться от тори, – заметил Питт. – Почему?
– Потому что ответная консервативная реакция может быть очень мощной, – ответил Виктор. – И ежели социалисты зайдут чересчур далеко наломав дров, это может легко привести к власти тори, причем надолго… достаточно надолго для того, чтобы Войси успел стать спикером. А со временем – даже премьер‑министром.
Эта чертовски неприятная мысль определенно имела под собой более чем реальные основания, и не учитывать было нельзя. Отмахнувшись от нее, как от притянутого за уши довода, можно было тем самым развязать Войси руки для достижения своих целей любыми способами.
– Вы сказали, что парламент собирается через четыре дня? – уточнил Томас.
– Верно, – согласился Наррэуэй. – Но вам придется начать уже сегодня. – Он глубоко вздохнул: – Вы уж извините, Питт.
* * *
– Что? – недоверчиво произнесла Шарлотта.
Она стояла возле лестницы, глядя на вошедшего в дом мужа, и ее раскрасневшееся от сборов лицо вспыхнуло от возмущения.
– Мне придется остаться из‑за предстоящих выборов, – печально повторил он. – Войси собирается баллотироваться!
Жена пристально посмотрела на него. Мгновенно ей вспомнились тайные обстоятельства Уайтчепельского дела, и она все поняла. Но потом Шарлотта подавила страх.
– И что же вам предстоит сделать? – спросила она. – Ты не можешь запретить ему участвовать в выборах и не сможешь остановить людей, пожелавших избрать его. Это чудовищно, но ведь именно мы превратили его в героя, поскольку только так могли помешать его планам! Республиканцы теперь не захотят даже говорить с ним, не говоря уж о том, чтобы отдать за него свои голоса. Почему вы не можете позволить им самим разобраться со своим бывшим лидером? У них хватит ярости, чтобы прикончить его! Им просто не надо мешать. Полиции достаточно запоздать с приездом на место преступления.
Томас попытался улыбнуться.
– К сожалению, я не могу полагаться только на то, что, к нашей выгоде, их действия окажутся быстрыми и результативными. В нашем распоряжении всего лишь около десяти дней.
– Тебе же, дорогой, положены три недели отпуска! – Миссис Питт подавила внезапно подступившие к глазам слезы разочарования. – Это несправедливо! И чем ты сможешь помочь? Станешь рассказывать всем и каждому, что Войси обманщик, что он организовал заговор против монархии? – Она неодобрительно покачала головой: – Никто даже не знает, что там происходило! Он может засудить тебя за клевету или, вероятнее, запрет в Бедлам[3], объявив душевнобольным. Мы же сами убедили всех, что он практически самостоятельно совершил удивительный подвиг ради блага королевы! Она считает его великолепным рыцарем. Принц Уэльский и все его сторонники будут тоже за него. – Шарлотта презрительно фыркнула: – И никто не победит их – даже с помощью Рэндольфа Черчилля и лорда Солсбери.
Томас привалился спиной к балясине лестничных перил.
– Я понимаю, – согласился он. – Хотелось бы мне поведать принцу Уэльскому, как близко подобрался Войси к его свержению, но сейчас у нас нет никаких доказательств. – Он подался вперед и коснулся щеки Шарлотты. – Мне очень жаль. Я знаю, что у меня мало шансов, но необходимо хотя бы попытаться.
Ручейки слез заструились по лицу миссис Питт.
– Я распакую вещи утром. Сейчас у меня уже нет сил. И как же я объясню все Дэниелу и Джемайме… да еще Эдварду? Они с таким нетерпением ждали путешествия…
– Не надо ничего распаковывать, – оборвал ее муж. – Вы поедете.
– Одни? – вскинулась Шарлотта.
– Возьмете с собой Грейси. Я сумею прожить без вашей помощи.
Томасу не хотелось говорить супруге, как важен этот отъезд для ее же безопасности. Сейчас она сердита и разочарована, но со временем поймет, что он вынужден продолжить борьбу с Войси.
– А чем ты будешь питаться? Кто будет следить за твоей одеждой? – протестующе спросила она.
– Миссис Броди сможет мне что‑нибудь приготовить и разберется с бельем, – ответил полицейский. – Не волнуйся. Забирай детей и радуйся там жизни вместе с ними. Когда Войси выиграет или проиграет, какими бы ни оказались результаты, я уже ничем не смогу помочь. И тогда я присоединюсь к вам.
– Тогда уже и времени не останется! – сердито воскликнула миссис Питт. – Результаты будут известны далеко не сразу!
– Он баллотируется от одного лондонского округа. И пройдет одним из первых.
– И все‑таки на это потребуется не один день!
– Но тут уж, Шарлотта, я ничего не могу поделать.
– Я понимаю! – Женщине с трудом удалось совладать с голосом. – Не будь таким чертовски благоразумным. Разве ты даже не расстроился? Разве это не разъярило тебя? – Сжав кулак, она неистово взмахнула рукой. – Это же нечестно! У них полно других полицейских. Сначала они выбрасывают тебя с Боу‑стрит и отправляют жить в какую‑то халабуду в районе Спиталфилдса; потом, когда ты спасаешь и правительство, и трон, и Бог знает еще что, они восстанавливают тебя в звании… но тут же опять увольняют! А теперь еще покушаются на твой столь редкий отпуск… – Она всхлипнула и разразилась рыданиями. – И ради чего? Из‑за чьего‑то тупого упрямства! Ты не сможешь помешать Войси, если глупцы продолжают верить ему. Я ненавижу Специальную службу! Такое впечатление, что им никто не в силах противостоять! Они поступают как им вздумается, и никто не в силах остановить их…
– Примерно то же самое можно подумать про Войси и «Узкий круг», – заметил Томас, вяло попытавшись улыбнуться.
– Так и есть, насколько мне известно. – Супруга прямо взглянула на него; в глазах ее сверкнула вспышка понимания, которое она попыталась скрыть. – Но никто не сможет остановить его.
– Мне однажды удалось.
– Нам удалось! – запальчиво поправила женщина.
На этот раз полицейский откровенно улыбнулся:
– Сейчас же нет никакого таинственного убийства, и тебе, моя милая, нечего разгадывать.
– Как и тебе! – мгновенно подхватила Шарлотта. – Тебе остается только разбираться с политиками и их выборами, а женщины не имеют даже права голоса, не говоря уже о том, чтобы способствовать предвыборной кампании и занять свое место в парламенте.
– А вам это так нужно? – с удивлением спросил Питт.
Он с удовольствием поддержал бы любую тему, даже такую, – предпочитая скрыть то, под какой угрозой окажется безопасность его жены, едва Войси узнает, что он вновь занялся детективным делом.
– Разумеется, нет! – парировала Шарлотта. – Но с этим тоже ничего не поделаешь.
– Потрясающая логика.
Миссис Питт заколола шпилькой выбившуюся из прически волнистую прядь.
– Если б ты чаще бывал дома и проводил больше времени с детьми, то понял бы меня отлично.
– Что? – произнес Томас в полнейшем недоумении.
– То, что мне лично это не нужно, еще не означает, что этого не следует мне разрешить… А вдруг мне захочется! Спроси любого человека!
– Что спросить? – непонимающе покачав головой, уточнил Питт.
– Готов ли он позволить мне или кому‑то еще решать, что можно, а что нельзя, – раздраженно заявила Шарлотта.
– Можно или нельзя что?
– Да все что угодно! – раздраженно воскликнула женщина, словно ее супруг не понимал очевидного. – Одна часть людей совершенно не признает для себя те законы, по которым предписывается жить другой части. Ради бога, Томас! Ты же сам обычно выдаешь детям распоряжения, а они логично возражают тебе, что сам‑то ты этого не делаешь! Ты можешь сказать им, что они дерзко себя ведут, и отослать их наверх спать, но сам при этом понимаешь, что поступаешь несправедливо, и тебе это известно так же хорошо, как и им.
Питт смущенно покраснел, сразу вспомнив парочку подобных случаев. Он воздержался от извлечения каких‑либо сходных черт между положением женщин в обществе и положением родителей по отношению к детям. Ему не хотелось ссориться, и он понимал, почему Шарлотта завела разговор на эту тему. Томас и сам испытывал такой же гнев и разочарование, однако подавил их в себе и поэтому сумел выбрать более правильный стиль поведения.
– Ты права! – вполне однозначно заявил полицейский.
Глаза его супруги на мгновение удивленно распахнулись, а потом, помимо воли, она начала смеяться. Шарлотта обвила руками шею Томаса, а он привлек ее к себе и, нежно погладив ее плечи и изящный изгиб шеи, завершил объятия страстным поцелуем.
А затем Питт отправился на вокзал, проводить Шарлотту и Грейси с детьми. Огромный зал, оглашавшийся гулким эхом, заполняла людская толпа, спешившая в разные стороны. Отсюда отправлялись поезда Юго‑Западного направления, и сюда же они прибывали. В воздухе шипел выпускаемый поездами пар, лязгали двери вагонов, платформы дрожали от топота гуляющих, бегущих и шаркающих ног, грохота колес багажных тележек, и сам воздух, казалось, звенел от возбуждения – в нем сливались возгласы встречающих, провожающих и самих путешественников, предвкушающих будущие приключения. Вокзал сводил воедино все начала и концы.
Дэниел подпрыгивал от нетерпения. Эдвард, светловолосый, как и Эмили, пытался вести себя достойно лорда Эшворда, что удавалось ему целых пять минут – больше он не выдержал и стремглав пронесся по платформе, чтобы посмотреть, как ярится в топке огонь могучей машины после заброса истопником очередной лопаты угля. Кочегар глянул в его сторону и, улыбнувшись мальчику, смахнул рукой пот со лба, после чего вновь зачерпнул лопатой уголь.
– Ох уж эти мальчишки! – проворчала себе под нос Джемайма, выразительно взглянув на Шарлотту.
Наряд Грейси, не сильно выросшей с тех пор, как она тринадцатилетней девочкой поступила на работу в дом Питтов, соответствовал цели путешествия. Уже второй раз она уезжала из Лондона на отдых, и ей удавалось держаться очень уверенно и спокойно, хотя душевное волнение девушки выдавали блеск глаз и пунцовые щеки, как и тот факт, что она вцепилась в свою пухлую матерчатую сумку, словно в спасательный пояс.
Питт понимал, что они должны уехать – ради элементарной безопасности. Ему хотелось освободиться от тревог за своих близких и смело противостоять Войси, сознавая, что его приспешники не смогут найти их. Но тем не менее он испытывал еще и болезненную печаль в глубине души, когда подозвал носильщика и, вручив ему дополнительные три пенса за труды, велел занести их багаж в вагон.
Носильщик с готовностью отсалютовал, коснувшись форменной фуражки, и погрузил вещи на тележку. Толкнув ее вперед, он громко свистнул, но этот звук заглушили шипение извергающегося пара, скрежет лопат, гудение заброшенного с них угля в топках и пронзительные свистки проводников, разрешавших машинисту отправление. И вот уже очередной поезд дернулся и, набирая скорость, начал удаляться.
Дэниел и Эдвард носились друг за другом вдоль поезда в поисках свободного купе и вскоре вернулись, размахивая руками и торжествующе крича.
Путешественники сложили в купе ручную кладь и подошли к двери, чтобы попрощаться.
– Берегите друг друга, – напутствовал Питт, обнявшись с каждым членом семьи, включая Грейси, к ее удивлению и удовольствию, – и хорошенько там повеселитесь. Не упускайте ни единой возможности.
Захлопнулась последняя дверь, и поезд, вздрогнув, тронулся с места.
– Счастливого пути! – крикнул Томас и, взмахнув на прощанье рукой, отступил назад, видя, как состав, покачиваясь и содрогаясь, лязгая сцеплениями, тяжело набирает ход.
Он стоял, провожая их взглядом и видя, как вся компания приникла к окну, а Шарлотта пытается удержать детей. Ее лицо вдруг погрустнело от расставания, и она быстро отвернулась. Облака ревущего пара взлетали вверх и уносились под высокие многоарочные своды крыши. В воздухе носились запахи копоти, сажи, раскаленного металла и дымного огня.
Томас махал им до тех пор, пока поезд, свернув, не скрылся из виду, после чего по возможности быстро вернулся по платформе в здание вокзала и вышел на улицу. На стоянке полицейский забрался в ближайшую двуколку и велел извозчику отвезти его к палате общин.
Откинувшись на спинку сиденья, Питт постарался сосредоточиться на том, что ему предстоит выяснить, когда он туда доедет. Пока Томас еще находился на южном берегу реки, но поездка не займет много времени, даже при оживленном дневном движении. Парламент заседал на северном берегу, возможно, в получасе резвой езды от вокзала.
Томаса всегда глубоко тревожили проблемы социальной несправедливости, страдания бедняков и больных, невежество и предрассудки, но его мнение о политиках было совсем не высоким, и он сомневался, что они охотно примут какие‑то меры по устранению тревоживших его дел, если только их не вынудят к этому личности, активно ратующие за реформы. Сейчас как раз создалась благоприятная обстановка для переоценки весьма поверхностных суждений и выяснения круга доступных возможностей как отдельных политиков, так и самого процесса реформирования.
Полицейский мог начать со свояка, Джека Рэдли, второго мужа Эмили и отца их маленькой дочери Эвангелины. Познакомились они в то время, когда Джек, обаятельный джентльмен, не имевший ни титулов, ни достаточных средств, не имел никакого права претендовать на благосклонное внимание светского общества, однако благодаря добродушному остроумию и приятной внешности его так охотно принимали в аристократических домах, что он мог позволить себе наслаждаться благами весьма комфортной и изысканной жизни.
Женившись на Эмили, Джек острее почувствовал бесплодность своего нового существования, что в итоге подвигло его баллотироваться в парламент, и к всеобщему – а особенно к его собственному – удивлению, он выиграл на выборах. Возможно, его вынесло в парламент на волне политической удачи, но с тех пор он проявил себя трезвомыслящим политиком и более принципиальным человеком, чем можно было предвидеть по предшествующему стилю его жизни. Во время обсуждения ирландского вопроса Рэдли проявил в Эшворд‑холле как отменную храбрость, так и способность выносить правильные решения и действовать с достоинством. Уж он‑то, по крайней мере, даст Питту более обстоятельные и, вероятно, более точные ответы, чем те сведения, что обычно поступают в прессу и открытые государственные источники.
Доехав до палаты общин, Томас расплатился с кэбменом и быстро взошел по ступеням. Он не рассчитывал, что его встретят с распростертыми объятиями, и полагал, что для пропуска ему придется послать Джеку короткую записку на одной из своих визиток, но полицейский охранник, знавший Питта по службе на Боу‑стрит, встретил его довольной сияющей улыбкой:
– Добрый день, сэр, мистер Питт. Рад видеть вас, сэр. Надеюсь, ничего страшного не случилось?
– Всё в порядке, Роджерс, – ответил Томас, обрадовавшись, что ему удалось вспомнить имя полицейского. – Мне нужно повидать мистера Рэдли, если возможно. Надо обсудить с ним одно важное дельце.
– Да, пожалуйста, сэр. – Охранник обернулся и крикнул через плечо: – Джордж! Сможешь проводить мистера Питта наверх к мистеру Рэдли? Знаешь его? Почтенный депутат от Чизика. – Он вновь глянул на Питта: – Ступайте с Джорджем, сэр. Он проведет вас наверх, а то в этих кроличьих лабиринтах недолго и заблудиться.
– Спасибо, Роджерс, – искренне поблагодарил его Томас, – вы очень любезны.
Здание действительно изобиловало путаницей лестничных пролетов и коридоров с массой дверей, ведущих в неведомые кабинеты, и снующими взад‑вперед служащими, поглощенными собственными делами. Полицейский обнаружил Джека одного в кабинете, который тот, видимо, делил с кем‑то из коллег. Поблагодарив своего провожатого и дождавшись его ухода, Питт закрыл дверь и более обстоятельно поздоровался со свояком.
Джек Рэдли уверенно приближался к своему сорокалетию, хотя благодаря весьма приятной внешности и добродушному характеру выглядел значительно моложе. Он удивился, увидев родственника, но тут же отложил в сторону изучаемые им газеты и с любопытством взглянул на него.
– Присаживайся, – предложил он. – Что привело тебя сюда? Мне казалось, ты собрался в давно обещанный тебе отпуск… Да еще вместе с Эдвардом! – Глаза Джека помрачнели, и Томас осознал с горькой иронией, что свояк понимает несправедливость его отстранения от должности и перевод в Специальную службу и опасается, что он собирается просить его помощи в этом деле. Но помочь Рэдли тут ничем не мог, и сам Питт понимал это даже лучше его.
– С детьми поехала Шарлотта, – ответил Томас. – Эдвард пребывал в таком возбуждении, что, казалось, готов был занять место машиниста. А мне пришлось пока задержаться. Как тебе известно, через несколько дней начнутся выборы. – Насмешливая улыбка на мгновение смягчила черты его серьезного лица. – По причинам, которые я не могу открыть, мне необходимо собрать информацию по спорным вопросам… и некоторым людям.
Джек с шумом втянул воздух.
– По причинам, связанным со Специальной службой, – с улыбкой добавил Питт. – Ничего личного.
Рэдли слегка покраснел. Ему редко приходилось сталкиваться с неприятностями – по крайней мере, в делах Питта, не привычного к политическим дебатам и к неожиданным подножкам и ударам оппозиции. Вероятно, Джек не учел, что допросы подозреваемых во многом сходны с парламентской работой – оценка уклончивости ответов, изучение скрытого смысла мимики и жестов, предвидение ловушек и засад…
– Какие вопросы? – спросил политик. – Ирландское самоуправление обсуждается уже несколько поколений. Эта проблема по‑прежнему не решена, хотя Гладстон упорно старается найти благоприятные решения. Однажды его уже пытались осадить, и на мой взгляд, если он будет упорствовать, то это определенно будет чревато для него потерей голосов, но никому не под силу заставить его отказаться от этой борьбы. Хотя, Бог знает, попыток было достаточно… – Его лицо печально скривилось. – Реже спорят о самоуправлении Шотландии… или Уэльса.
Питт поразился:
– Самоуправление Уэльса? – недоверчиво переспросил он. – И у них есть сторонники?
– Немного, – признал Джек, – так же, как и у Шотландии, однако проблема все же есть.
– Но, наверное, это не может повлиять на выборные места от Лондона?
– Может, если кандидат начнет настаивать на их решении, – пожал плечами Рэдли. – В сущности, вообще говоря, большинство протестующих людей географически удалены от нас. Лондонцы склонны считать, что всем должен править Вестминстер. А чем больше власти дается, тем больше ее хочется.
Ирландский Гомруль дебатировался уже десятилетия, и Томас решил пока не заострять на этом внимание.
– А что еще?
– Восьмичасовой рабочий день, – мрачно ответил Джек. – Самый животрепещущий вопрос – по крайней мере, на данный момент, – и я не вижу ничего равного ему. – Он взглянул на Питта с легкой озабоченностью: – В чем дело, Томас? Заговор, чтобы сбросить Старика?
Это было прозвище, которое уже давно закрепилось за Гладстоном.
– Ему не раз приходилось переживать подобные нападки, – добавил Рэдли.
– Нет, – быстро отозвался Питт, – явно ничего не затевается. – Ему хотелось бы открыть Джеку всю правду, но он не мог сделать этого как ради благополучия свояка, так и ради своего собственного. Он должен быть совершенно чист – никакого злоупотребления доверием, подкупа избирателей и нечестной предвыборной борьбы.
– С каких пор это начало волновать Специальную службу? – скептически бросил Джек, слегка отклонившись к спинке своего стула и случайно развалив локтем стопку книг и бумаг. – Им надлежит заниматься анархистами и террористами, особенно фениями. – Он нахмурился: – Не надо пытаться обмануть меня, Томас. Я предпочел бы, чтобы ты посоветовал мне подумать о моих собственных делах, а не ограничивался лживыми увертками.
– При чем тут увертки? – ответил Питт. – Дело затрагивает борьбу за одно конкретное место; и пока, насколько мне известно, нам не грозят ни ирландцы, ни террористы.
– Тогда почему ты? – спокойно сказал Рэдли. – Это как‑то связано с осуждением Эдинетта? – Он имел в виду процесс над убийцей, так разъяривший Войси и «Узкий круг», что они, решив отомстить Томасу, добились его увольнения с Боу‑стрит.
– Косвенно, – признал полицейский. – Ты практически дошел до точки, с которой тебе лучше заниматься своими делами и не лезть в чужие.
– Что за место? – с безупречным спокойствием спросил Джек. – Я не смогу помочь, оставаясь в неведении.
– Ты в любом случае не сможешь помочь мне, – прозаично возразил Питт. – Кроме как сведениями о насущных проблемах и вероятными предупреждениями по поводу тактики. Жаль, что в прошлом я не уделял особого внимания политике…
Рэдли вдруг усмехнулся, правда, с явным оттенком самоиронии.
– Так же, как и я, когда задумываюсь о том, каким незначительным может оказаться наше большинство!
Томасу захотелось уточнить, насколько надежно место самого Джека, но он решил, что лучше выяснит это в другом месте.
– Ты знаешь Обри Серраколда? – спросил он.
Теперь его свояк выглядел удивленным.
– Да, на самом деле я знаю его довольно хорошо. Его жена дружит с Эмили. – Он озабоченно нахмурился: – В чем дело, Томас? Я готов многое поставить на то, что он приличный человек, честный и образованный, и решил заняться политикой, чтобы служить нашей стране. Он не нуждается в деньгах и не стремится к власти как к таковой.
Сказанному следовало бы успокоить Питта, но вместо этого он представил человека, не подозревающего об опасности, которой тот не заметит, пока не станет слишком поздно – причем даже тогда он мог не распознать врага, поскольку его натура будет недоступна пониманию Серраколда.
Прав ли Джек в том, что, не открывая ему всей правды, Томас отказывается от, возможно, единственного доступного ему средства борьбы? Наррэуэй дал ему задание, которое казалось невыполнимым в данном положении. В нем не было ничего похожего на привычное для Питта расследование: он стремился не раскрыть преступление, а предотвратить ошибку в отношении морального закона, хотя, вероятно, и не затрагивающую государственных законов страны. Проблема заключалась не в том, что Войси нельзя допускать во власть – он имел такие же права, как и любой другой кандидат, – а в том, что он натворит, добившись власти, за два или три года, а возможно, даже за пять или десять лет. Однако нельзя наказать человека за то, что он, по вашему мнению, будет делать, какие бы губительные замыслы этот человек ни вынашивал.
Джек подался вперед, к столу:
– Томас, Серраколд – мой друг. Если ему угрожает какая‑то опасность, любая, дай мне знать! – Он не пытался угрожать и что‑то доказывать, и именно поэтому его слова прозвучали на редкость убедительно. – Я готов защищать моих друзей так же, как ты – своих. Личная преданность многое значит, и в тот день, когда она обесценится, я предпочту удалиться от политики.
Даже когда Питт боялся, что Рэдли ухаживает за Эмили из‑за ее денег – а он действительно опасался этого, – Томас все равно относился к нему с симпатией. Джек обладал добродушием, способностью посмеяться над собой и при этом вел себя с явной непосредственностью, составлявшей сущность его обаяния. Не рискуя, Томас не имел бы никаких шансов на успех, поскольку не видел никакого безопасного пути даже для начала борьбы против Войси, не говоря уже о ее окончании.
– Никакой физической опасности, насколько мне известно, – ответил он, надеясь, что поступает правильно, решив проигнорировать наставления Наррэуэя и поделиться с родственником толикой правды. Даст Бог, это не обернется предательством для них обоих! – Скорее, можно говорить об опасности обманных ходов во время выборов.
Джек молчаливо ждал, догадываясь, что это не все.
– Что, возможно, погубит его репутацию, – добавил Питт.
– От кого?
– Если б я знал, то смог бы с гораздо большим успехом предотвратить их.
– Ты подразумеваешь, что не можете сказать этого мне?
– Нет, я просто не знаю.
– Тогда ради чего? Тебе явно известно что‑то, иначе ты не пришел бы сюда.
– Ради политической выгоды, разумеется.
– Значит, угроза исходит от его соперника? Иного и быть не может…
– От тех, кто стоит за соперником.
Джек начал было спорить, но быстро умолк.
– По‑моему, за каждым кандидатом стоит группа поддержки. Те, кого видно, вызывают минимальное беспокойство. – Он медленно поднялся из‑за стола.
Ростом Рэдли лишь немного уступал Питту, но зато выглядел он настолько же элегантно, насколько его свояк – расхристано. Джек обладал естественным изяществом и по‑прежнему тщательно следил за своей одеждой и внешним видом, как в те дни, когда еще делал ставку лишь на свое обаяние.
– Я с удовольствием продолжу наш разговор, но через час у меня заседание, а я еще толком не ел сегодня. Не желаешь ли присоединиться ко мне? – спросил он.
– Буду рад, – мгновенно согласился Томас, тоже вставая.
– Проходи, пожалуйста, в нашу парламентскую столовую, – гостеприимно предложил Джек, открывая дверь перед своим посетителем.
Правда, он немного помедлил в нерешительности на пороге, благосклонно взглянув на чистый воротник Питта, но с подозрением – на криво повязанный галстук и слегка оттопыривавшиеся карманы. В итоге, вздохнув, Рэдли смирился с неизбежным.
Томас последовал за свояком и вслед за ним устроился за одним из столиков. Сама обстановка здесь вызвала у него живейший интерес. Едва ли чувствуя вкус блюд, он наблюдал за другими едоками, полностью поглощенный этим занятием, пытаясь, впрочем, делать это незаметно. Портреты многих из них он видел в газетах и в основном даже знал их имена; другие лица казались ему лишь смутно знакомыми. А еще Питт питал надежду увидеть самого Гладстона.
Джек сидел, улыбаясь и с большим удовольствием поглядывая на самого Томаса.
Они уже перешли к десерту – горячему, приправленному патокой пудингу с заварным кремом, – когда возле их столика остановился крупный мужчина с жидкими светлыми волосами. Рэдли представил его как депутата Финча, одного из членов парламента от избирателей Бирмингема, а Питта – как своего свояка, не уточняя род его занятий.
– Рад знакомству, – вежливо сказал Финч и обратился к Джеку: – Привет, Рэдли. Вы уже слышали, что этот лейборист Гарди[4] действительно собрался баллотироваться? Причем даже не от Шотландии, а от Южного Вест‑Хэма!
– Гарди? – удивленно повторил Джек.
– Ну да, Кейр Гарди! – раздраженно воскликнул Финч, не обращая внимания на Питта. – Тот самый, что с десяти лет трудился на шахтах. Одному Богу известно, умеет ли он даже читать или писать, а туда же – в парламент! Судачит о какой‑то Лейбористской партии… чепуха какая‑то! – Он резко раскинул руки. – Плохи дела, Рэдли! Это же наша сфера… профсоюзные организации и все такое. Он не пройдет, конечно… ни малейшего шанса. Но мы не можем на сей раз позволить себе потери сторонников. – Мужчина понизил голос: – Ожидается нервная заварушка! Чертовски нервная. Нам нельзя отступаться от сокращения рабочей недели, иначе мы потеряем голоса. А со временем и вообще можно ждать провала. Как бы мне хотелось, чтобы наш чертовски упертый Старик забыл хоть на время про Гомруль… Он же может резко снизить все наши шансы!
– Большинство остается большинством, – отозвался Рэдли. – Но двадцать или тридцать процентов тоже вполне приемлемы.
Его собеседник фыркнул:
– Нет, неприемлемы! Надо смотреть в будущее. Нам необходимы как минимум пятьдесят. Приятно познакомиться с вами… Питт? Питт, вы сказали? Славное имя для тори[5]. Надеюсь, вы не из них?
– А что, с ними лучше не связываться? – с улыбкой спросил Томас.
Финч глянул на него, и взгляд его голубых глаз вдруг исполнился доверительной откровенности.
– Вот именно, сэр, лучше не связываться. Надо смотреть прямо в будущее, нам необходимы надежные и разумные реформы. Никакой своекорыстный консерватизм ничего не изменит; он будет держаться за прошлое изо всех сил, как за каменную скалу. И недопустим также легкомысленный социализм, готовый менять все, что угодно, как плохое, так и хорошее, словно все в мире преходяще и прошлое уже ничего не значит. У нас величайшая нация на земле, сэр, но нашей власти еще нужна большая мудрость, если мы хотим продержаться и достойно выжить в столь неспокойное время перемен.
– В последнем, по меньшей мере, я могу согласиться с вами, – ответил Питт, стараясь держаться беззаботного тона.
Финч задумчиво помедлил, а потом, простившись с ним и Рэдли, удалился бодрой походкой, ссутулившись и чуть подавшись вперед, точно ему приходилось продираться через многолюдную толпу, хотя в реальности он миновал лишь официанта с подносом.
Томас следовал за Джеком к выходу из столовой, когда им навстречу попался премьер‑министр, лорд Солсбери. На нем был добротный костюм в тонкую полоску, его удлиненное, довольно печальное лицо обрамляла пышная борода, а вот макушка изрядно полысела. Питт пребывал под таким сильным впечатлением, что не сразу заметил за его спиной человека, очевидно, сопровождавшего лорда. На умном и властном, хотя и бледноватом, лице этого спутника выделялся слегка крючковатый нос. На мгновение их взгляды встретились, и Томас застыл от полыхнувшей в этих глазах силы ненависти, такой откровенной, словно они находились одни в этом зале. Словно и не существовало вокруг гомона голосов, смеха, звяканья бокалов и стука посуды. Само время замерло. Не осталось ничего, кроме ненависти, отягощенной жаждой уничтожения.
Но вот настоящее вновь нахлынуло, как волна – человеческая, деловая, спорная, эгоцентричная. Солсбери и его спутник вошли, а Питт и Джек Рэдли вышли. Они уже прошли ярдов двадцать по коридору, когда Джек наконец решился нарушить молчание.
– Кто это сопровождал Солсбери? – спросил он. – Вы знаете его?
– Сэр Чарльз Войси, – ответил Питт, с изумлением услышав, как охрип вдруг его голос. – Ожидаемый кандидат в парламент от Южного Ламбета.
Рэдли остановился.
– Это же избирательный округ Серраколда!
– Да, – подавив волнение, твердо сказал Томас, – да… я знаю.
Его свояк медленно выдохнул. На лице его отразилось полное понимание и зарождающийся страх.
Глава вторая
Без Шарлотты и детей в доме стало одиноко. В нем не хватало сердечного тепла, смеха, домашней суеты и даже случайных ссор. Не стучали по полу каблучки Грейси, не слышались ее насмешливые замечания, и только два кота, Арчи и Энгус, спали, свернувшись в лужицах солнечного света, проникавшего через кухонные окна.
Но тут Питт вспомнил ненависть, полыхнувшую в глазах Чарльза Войси, и у него перехватило дыхание от захлестнувшего его облегчения и от осознания того, что его родные уже далеко от Лондона, где ни Войси, ни другие члены «Узкого круга» не смогут найти их. Небольшой коттедж в деревне на краю Дартмура представлялся Томасу самым безопасным местечком, и уверенность в этом предоставляла ему шанс всеми возможными способами попытаться помешать Войси выиграть выборы в парламент и начать восхождение к власти, благодаря которой может быть испорчена и загублена жизнь целой страны.
Устроившись за кухонным столом перед большой кружкой чая и приготовленными на завтрак подгоревшими гренками с домашним конфитюром, Питт удрученно размышлял над выданным ему заданием, на редкость расплывчатым и неопределенным. В нем не таилось неразрешенных загадок, допускающих разные толкования, и вообще было практически непонятно, что именно надо искать. Единственным оружием могли стать знания. Войси претендовал на место, за которое годами состязались только либералы. Чьи голоса он надеется завоевать? Он будет баллотироваться от консерваторов – единственная альтернатива либералам с каким‑то шансом на формирование правительства, хотя, по мнению большинства, на этот раз все равно победит Гладстон, даже если его руководство не продлится долго.
Взяв очередной гренок с подставки, полицейский намазал его маслом и зачерпнул полную ложку конфитюра. Ему нравился этот резкий фруктовый вкус, достаточно сильный, чтобы сосредоточить на нем все чувства, забыв о терзавших голову мыслях.
Неужели Войси рассчитывает как‑то завоевать доверие умеренных избирателей, увеличив тем самым отданные за него голоса? Или он провозгласит себя спасителем бедноты, готовым вести ее к социализму, и тем самым расколет поддержку левого крыла? Располагал ли он каким‑то средством, пока неизвестным, с которым сможет повредить Обри Серраколду и загубить его предвыборную кампанию? Не мог же он открыто выступать во всех трех направлениях! Но за ним стоит «Узкий круг», и поэтому ему нет необходимости открывать свои планы. Никто из посторонних не представлял, где таится вершина этой власти, и, возможно, никто, кроме самого Войси, не знал ни фамилий, ни положения всех членов «Круга» или даже их общего количества.
Дожевав горелый гренок, Томас допил остатки чая и оставил грязную посуду на столе. Миссис Броди помоет все, когда придет, и наверняка еще разок покормит Арчи и Энгуса. Восемь утра – самое время начинать поиски новых сведений о политической позиции Войси и темы, которую он мог сделать сущностью своих выступлений, а также тех, кто мог открыто поддержать его, и места, где он собирался выступать со своими речами. Питт уже узнал в общих чертах от Джека, как будет действовать Серраколд, но этих сведений явно было маловато.
В конце июня пыльный город прел под жарким солнцем, еле вмещая в себя потоки людей, стремившихся получить выгоду от разного рода торговли, бизнеса и удовольствий. Почти на каждом углу уличные торговцы зазывно рекламировали свои товары, в открытых каретах восседали светские дамы, не снисходившие до столь мелочной суеты и прикрывавшие свои нежные личики от солнца стройными рядами похожих на огромные распустившиеся цветы зонтов прелестной раскраски. Тяжело грохотали повозки, нагруженные тюками добра, дребезжали овощные и молочные тележки, громоздкие неповоротливые омнибусы завистливо поглядывали на множество обгонявших их обычных извозчичьих пролеток и двуколок… Даже по тротуарам сновали толпы, и Питту приходилось ловко лавировать, двигаясь к намеченной цели. Уличный шум буквально оглушал и притуплял ум: крикливые скороговорки уличных торговцев, предлагающих для продажи множество разнообразных товаров, грохот колес по мостовым, бряцание упряжи, сердитые окрики извозчиков, звонкий перестук лошадиных копыт…
Томас предпочел бы, чтобы Чарльз Войси вообще забыл о его существовании, хотя после их случайной встречи в столовой Вестминстера тайное наблюдение Питта за ходом предвыборной кампании уже стало явным. Он сожалел об этом, но тут уж ничего нельзя было поделать, да к тому же, вполне вероятно, его участие все равно не прошло бы незамеченным. Эх, заметили б его хоть немного позже… Ведь, увлекшись политическими интригами оживленной предвыборной кампании, Войси мог и не обратить внимания на одну конкретную физиономию среди множества интересующихся им лиц.
К пяти часам дня Питт выяснил фамилии тех, кто поддерживал кандидатуру Войси как открыто, так и тайно, – по крайней мере, в соответствии с имевшимися списками. Он также узнал, что выдвинутая Чарльзом программа затрагивает традиционные – торговые и имперские – ценности консерваторов. Очевидно, этот политик мог привлечь голоса землевладельцев, предпринимателей и судовых магнатов, но сейчас избирательное право распространилось и на обычных людей, все состояние которых ограничивалось семейным домом или арендованной квартирой с платой, не превышавшей десяти фунтов в год. Разве для них не естественней было поддерживать профсоюзные организации, а следовательно, и Либеральную партию?
Очевидная видимость того, что для Войси нет реальной возможности выиграть предстоящие выборы, встревожила Питта гораздо больше, чем могла бы, если б ему удалось обнаружить какую‑то брешь, какую‑то слабость программы, чтобы использовать ее против него. Это означало, что сокрушительный удар по сопернику попытаются нанести из‑за угла, а он, Томас, не имел ни малейшего понятия, какие направления надо защищать, не знал даже, где может скрываться уязвимое звено Серраколда.
Он шел по правому берегу реки к району доков и фабрик, темневших под стенами здания железнодорожного вокзала Лондон‑бридж, намереваясь присоединиться к толпе рабочих на первом публичном выступлении Войси. Его глубоко интересовало, как поведет себя этот человек и какой прием ему окажут.
Заглянув в один из трактиров, полицейский заказал пирог со свининой и стакан сидра и потягивал его, прислушиваясь к разговорам за соседними столиками. Болтовня часто перемежалась взрывами смеха, но им не удавалось заглушить несомненный оттенок суровых и горьких высказываний. Лишь одно из них затрагивало ирландцев или злободневный вопрос Гомруля, но даже его обсуждали почти насмешливо. Зато вопрос о длительности рабочего дня вызывал горячие споры, и многие склонялись к весомой поддержке социалистов, хотя вряд ли кто‑то здесь знал фамилию хоть одного из них. Питт точно не услышал упоминания имен как Сидни Уэбба[6] или Уильяма Морриса[7], так и красноречивого и горластого драматурга Шоу[8].
К семи часам вечера Томас уже стоял на пустыре перед фабричными воротами, за которыми в дымном воздухе серели мощные стены зданий. Издали доносился непрерывный ритмичный шум работающих механизмов, и горло саднило от едкого угольного дыма. Вокруг него скопилось дюжин пять или шесть мужчин в однообразных буровато‑серых латанных и перелатанных одеждах, давно выцветших, выношенных на локтях и коленях и с истрепанными манжетами. Многие из них носили матерчатые кепки с твердыми козырьками, хотя вечер выдался теплый, и, что гораздо более необычно, даже с реки не долетал влажный холодный ветерок. Такая кепка стала традиционным символом практической принадлежности к рабочему классу.
Питт легко слился с толпой рабочих: свойственная ему неряшливость служила отличной маскировкой. Он прислушивался к их забавным замечаниям, к вульгарным, зачастую жестоким шуткам и улавливал в них оттенок отчаяния. И чем дольше полицейский слушал, тем меньше представлял, как Чарльз Войси с его деньгами, привилегиями и лощеными манерами, а теперь еще и с рыцарским титулом сумеет завоевать голос хоть одного из работяг. Ведь Войси защищал все то, что их угнетало и что воспринималось ими – справедливо или ошибочно – как грязная эксплуатация их труда и кража положенных им заработков. И вот это как раз пугало Питта, поскольку он отлично знал, что Войси абсолютно не склонен мечтательно полагаться на удачу.
Толпа уже начала беспокоиться и поговаривать об уходе, когда двуколка – именно двуколка, а не карета – остановилась шагах в двадцати, и Питт увидел, как из экипажа выбралась высокая фигура Войси, которая решительно направилась в сторону собравшихся. Его появление вызвало у Томаса невольную дрожь мрачного предчувствия, словно даже в этой толпе его враг мог узреть его и испепелить пылающей ненавистью своего взгляда.
– Неужели приехали, наконец? – выкрикнул из толпы грубый голос, мгновенно разрушая это наваждение.
– Конечно, я приехал! – повернувшись к рабочим, откликнулся Чарльз, вскинув голову. Он почти весело улыбался и не видел Питта, анонимно затесавшегося в компанию сотни мужчин. – Вы же имеете право голоса, не так ли?
Послышались редкие смешки.
– По крайней мере, он не притворяется, что ему на нас наплевать! – воскликнул кто‑то в нескольких метрах слева от Томаса. – Я предпочел бы услышать честное фуфло, а не лживые посулы.
Войси подошел к повозке, которой отвели роль импровизированной трибуны, и легко забрался на нее.
Толпа зашевелилась, сосредотачивая внимание на будущем ораторе, но тихо роптала, явно ожидая возможности высказать неодобрение, возражения и оскорбления. Чарльз, казалось, прибыл в гордом одиночестве, но Питт заметил фигуры двух или трех полицейских, маячившие поодаль, и с полдюжины вновь подошедших мужчин, внимательно обозревающих толпу – крепких парней в неброских серых костюмах, но подвижных и оживленных, совсем не похожих на усталых фабричных рабочих.
– Вы пришли познакомиться со мной, – начал Войси, – поскольку вам любопытно узнать, что я могу сказать, и если вы одобрите мои предложения, то будете голосовать за меня, а не за либерального кандидата мистера Серраколда, чья партия, как вы помните, давно представляла вас в парламенте. И возможно, вы надеялись немного поразвлечься за мой счет.
Громогласный смех прорезала пара презрительных свистов.
– Итак, чего же вы хотите от будущего правительства? – спросил политик, и его следующие слова тут же заглушили ответы рабочих.
– Уменьшения налогов! – взревел кто‑то под возмущенный свист.
– Сокращения рабочего дня! Нормальной рабочей недели, не длиннее, чем у вас!
Опять раздались взрывы смеха, но более резкого и сердитого.
– Достойной зарплаты! Приличных домов без протечек! Канализацию!
– Отлично! Так же, как и я, – признал Войси, и его уверенный голос услышали все, хотя он, казалось, не повышал его. – А еще я ратую за то, чтобы каждый желающий работать мужчина получил хорошую работу и каждая женщина тоже. Я ратую за мир, за прибыльную внешнюю торговлю, за уменьшение преступности, за более надежное правосудие, за дисциплинированную неподкупную полицию, за снижение цен на продукты питания, за то, чтобы каждому хватало хлеба, одежды и обуви. А также я люблю хорошую погоду, но…
Остаток его фразы заглушил рев смеха.
– Но вы не поверите мне, если я скажу, что могу разгонять тучи! – дождавшись относительной тишины, закончил Чарльз.
– Не поверим в любом случае! – выкрикнул звонкий голос, поддержанный очередным свистом и одобрительными возгласами.
Войси улыбнулся, но его поза осталась напряженной.
– Однако вы хотите послушать меня, поскольку ради этого и собрались тут. Вам интересно, что я могу сказать, – и вы правы.
На этот раз свиста не последовало. Питт почувствовал, как атмосфера начала меняться, словно гроза миновала, так и не разразившись.
– Верно ли, что большинство из вас трудится на этих фабриках? – Войси сделал широкий жест рукой. – И в этих доках?
По толпе пронесся гул согласия.
– Производите ли вы там товары, отправляемые для продажи по всему миру? – продолжил оратор.
Теперь толпа выразила согласие уже с оттенком раздражения. Собравшиеся не понимали причины его вопросов. А Питт понял, словно он уже слышал эти слова.
– Одежда делается из египетского хлопка? – повысив голос, спросил Войси, пристально следя за лицами и жестами слушателей, пытаясь понять по ним тоскливое или оживленное понимание. – Парчу везут из Персии и по древнему Шелковому пути из Китая и Индии? – продолжил он. – Лен – из Ирландии? Древесину из Африки, а каучук из Бирмы?.. Я мог бы продолжить этот перечень. Но весь он, вероятно, известен вам не хуже, чем мне. Все эти материалы производятся в нашей славной Империи. Именно поэтому мы являемся величайшей торговой страной в мире, именно поэтому Британия правит на морях, четверть обитателей Земли говорят на нашем языке, а королевские войска охраняют мир на суше и на море по всему земному шару.
Шум, поднявшийся после этого высказывания, имел другую окраску: в нем слышались оттенки гордости, гнева и любопытства. Некоторые выпрямились и расправили плечи. Питт быстро переместился за чью‑то спину, уклонившись от блуждающего взгляда Войси.
– И это не просто мирская слава, – воодушевленно продолжал ораторствовать политик, – это крыша над вашими головами и пища на вашем столе.
– Но как насчет сокращения рабочего дня? – крикнул рослый рыжеволосый рабочий.
– Если мы потеряем Империю, то с чем вы будете работать? – парировал Чарльз. – Где мы будем покупать сырье и что продавать?
– Никто и не собирается терять Империю! – с насмешкой бросил ему рыжеволосый. – Даже социалисты не настолько безумны!
– Господин Гладстон готов потерять ее, – ответил Войси. – Разбазаривая по кускам! Сначала Ирландию, потом, возможно, Шотландию и Уэльс. А потом, кто знает, возможно, и Индию? Не будет больше ни пеньки, ни джута, ни красного дерева и каучука из Бирмы. А следом пропадет и Африка, отколется Египет… Если он готов потерять Ирландию у себя под носом, то почему не отказаться от всех владений?
После внезапной молчаливой паузы раздался громкий смех, но не веселый, а напряженный и резкий, скрывающий сомнение и, возможно, даже страх.
Томас взглянул на ближайших к нему мужчин. Все они неотрывно смотрели на Войси.
– Мы должны торговать, – продолжил тот, но уже более спокойным голосом, осознав, что ему больше нет нужды драть горло.
Его слышали в задних рядах толпы, и этого было достаточно.
– Нам необходимо сохранить господство, сохранить нашу власть на морях. Дабы распределять наши богатства более справедливо, мы должны быть уверены в том, что они у нас будут!
Гул голосов смутно выразил одобрение.
– Никто лучше вас не поймет ваших интересов! – Голос Войси одобрительно и даже торжествующе зазвенел. – И вы сможете свободно выбрать достойных представлять вас людей, которые знают, как создавать и поддерживать справедливую законность и как достойно и выгодно взаимодействовать с другими народами земли, дабы сохранить и приумножить наши богатства. Не выбирайте стариков, думающих, что их устами говорит Бог, хотя на самом деле они просто держатся за свое устаревшее прошлое, готовые отстаивать свои собственные одряхлевшие желания, забывая о ваших нуждах.
Толпа вновь загомонила, но на этот раз, как слышалось Питту, с разных сторон раздавались в основном одобрительные возгласы.
Чарльз не стал долго задерживать слушателей. Он понимал, что они устали и голодны, а рабочее утро наступит слишком быстро. У него хватило благоразумия закончить выступление на волне интереса и, более того, оставить им побольше времени для хорошего ужина и пары часов в трактире, где они могли все обсудить за кружкой‑другой эля.
Он закончил речь парой коротких шуток и, оставив рабочих в приподнятом веселом настроении, быстро вернулся к своей двуколке и укатил.
Томас остался стоять в оцепенении и с гнетущим чувством горечи восхитился тем, как легко Войси удалось превратить враждебную толпу в людей, которые запомнят его имя, запомнят, что он не обманывал их, давая пустые обещания, что он не напрашивался на их одобрение, да еще и повеселил их. Они не забудут его слов о потере Империи, которая обеспечивает их работой. Возможно, она позволяет богатеть их хозяевам, но правда в том, что если хозяева будут бедны, то они станут еще беднее. Жизнь могла быть справедливой или несправедливой, но многие рабочие мыслили достаточно реалистично и могли понять, что так уж устроен земной мир.
Когда двуколка Войси скрылась из вида, Питт подождал еще несколько минут, а потом перешел по пыльной мостовой в тень фабричных стен и направился по узкому проулку обратно к широким и шумным улицам. По крайней мере, Чарльз показал одну из своих тактик, однако в ней невозможно было заметить никакой слабины. Обри Серраколду понадобятся не только обаяние и честность, чтобы сравняться с ним.
Возвращаться домой было рановато, тем более в пустой дом. Томас мог, конечно, почитать хорошую книгу, но безмолвие лишало его покоя. Тревожила даже сама мысль о безмолвном одиночестве. Должны же быть где‑то еще полезные сведения, более важные, чем те, что он узнал от Джека Рэдли? Может, Эмили могла бы рассказать ему кое‑что о жене Серраколда? Сестра Шарлотты обладала острой наблюдательностью и гораздо лучше ее реально оценивала хитроумные людские маневры. Она могла подметить те слабые места Войси, которые человек, настроенный больше на его политический курс и меньше на личностные качества, мог и не заметить.
Подавшись вперед на сиденье, полицейский назвал извозчику нужный адрес.
Но когда он прибыл к Эшворд‑холлу, дворецкий сообщил ему с проникновенными извинениями, что мистер и миссис Рэдли уехали на званый ужин и вряд ли разумно будет надеяться на их возвращение по меньшей мере до утра.
Питт поблагодарил его и, как и предполагал дворецкий, отклонил предложение подождать их в доме. Он вернулся в кэб и велел извозчику отвезти его на Пикадилли, где жил Джон Корнуоллис.
Слуга, открывший дверь, без вопросов провел Томаса в небольшую гостиную его бывшего начальника. Обставленная в утонченно шикарном, но строгом стиле капитанской каюты, она поблескивала начищенной медью и темной полированной мебелью и по обилию книг скорее напоминала библиотеку. Над каминной полкой висела картина, запечатлевшая бригантину, скользящую по волнам на раздутых прямых парусах.
– Мистер Питт, сэр, – объявил слуга.
Корнуоллис, уронив книгу, с удивлением и тревогой поднялся с кресла.
– Питт? В чем дело? Что случилось? Почему вы не в Дартмуре?
Томас молчал.
Помощник комиссара полиции взглянул на слугу, а потом вновь посмотрел на гостя.
– Вы ужинали? – спросил он.
Питт вдруг осознал, что не ел ничего, кроме того пирога в трактире рядом с фабрикой.
– Нет… пока не успел. – Он опустился в кресло напротив хозяина дома. – Неплохо было бы перекусить хлебом с сыром… или пирогом, если у вас есть.
Он успел соскучиться по выпечке Грейси, а жестянки с печеньем дома опустели. Служанка ничего не готовила впрок, зная, что все они уедут в отпуск.
– Принеси мистеру Питту хлеба с сыром, – распорядился Корнуоллис, – и не забудь еще сидр и кусок торта. – Затем он опять взглянул на Томаса: – Или вы предпочитаете чай?
– Спасибо, сидр отлично взбодрит меня, – ответил Питт, поудобнее устраиваясь в мягком кресле.
Слуга удалился, закрыв за собой дверь.
– Итак? – вопросительно произнес Корнуоллис, вернувшись в свое кресло с озабоченным выражением лица.
Он не был красавцем, но его выразительным чертам была присуща гармония, и чем дольше вы смотрели на него, тем более привлекательным оно казалось. Движения капитана отличала плавная уравновешенность, выработанная за долгие годы работы во флоте, когда под ногами у него постоянно покачивалась корабельная палуба.
– Возникли кое‑какие проблемы в связи с парламентскими выборами, за которыми Наррэуэй и поручил мне… проследить, – стал рассказывать Томас и увидел вспышку гнева в глазах Корнуоллиса, явно вызванную тем, что Виктор Наррэуэй не предотвратил увольнения Питта с Боу‑стрит. Гнев его также усиливался повторным отстранением суперинтенданта от дел в угоду мести «Узкого круга». Исчезло ощущение былой уверенности и надежности положения, и для них обоих настали тяжелые времена.
Но Корнуоллис не стал докапываться до истины. Он привык к изолированному бытию морского капитана, который должен прислушиваться к мнению подчиненных ему офицеров, но делиться с ними только практическими аспектами дел, не срываясь в откровенность и не потакая собственным чувствам. Командиру приходилось неизменно держать дистанцию, поддерживая, по возможности, видимость того, что ему недоступны чувства страха, сомнений или гнетущего одиночества. Военно‑морская служба приучила Корнуоллиса к жесткой дисциплине, и он уже не мог отказаться от нее. Она стала частью его личности, и он не воспринимал ее как некий вынужденный, выработанный годами стиль жизни.
Вернувшийся слуга принес поднос, заполненный тарелками с хлебом и сыром, пирогом и кувшином сидра со стаканами, за что Питт искренне поблагодарил его.
– Не стоит благодарности, сэр, – с поклоном ответил тот и удалился.
– Что вам известно о Чарльзе Войси? – спросил Томас хозяина дома, намазав маслом хлеб с хрустящей корочкой и отрезав толстый кусок белого с тонким вкусом сыра карфилли, чувствуя, как тот крошится под ножом. Затем с жадностью откусил большой кусок и, пережевывая бутерброд, с удовольствием ощутил на языке сливочно‑кисловатый сырный вкус.
Корнуоллис поджал губы, но не стал спрашивать, зачем Питту понадобились такие сведения.
– Только то, что почерпнул из общеизвестных источников, – ответил он. – Войси окончил Хэрроу и Оксфорд, стал адвокатом. Проявил себя как блестящий законовед, изрядно разбогател на этих делах, но, что более ценно, в конечном счете приобрел множество влиятельных друзей и, не сомневаюсь, также несколько врагов. Добился повышения, став судьей, а потом быстро перебрался в наш Апелляционный суд. Он умеет рисковать, действует смело, однако при этом никогда не заходит слишком далеко.
Питт слышал все это прежде, но ему пришлось бы сильно сосредоточиться, чтобы выразить все имевшиеся у него знания в такой сжатой форме.
– Он весьма самолюбив, – продолжил помощник комиссара полиции, – но в повседневной жизни искусно скрывает это или, по крайней мере, умеет поддерживать видимость добродушия, держа больное самолюбие в узде.
– Чтобы быть менее уязвимым, – мгновенно вставил Питт.
– Вы рассматриваете это как слабость? – Корнуоллис верно уловил суть его замечания.
Томас с трудом вспомнил, что его бывший шеф ничего не знал о расследовании заговора в Уайтчепеле, за исключением открывшего его суда над Эдинеттом и заключительного посвящения Войси в рыцари. Он не знал даже, что Войси стоял у кормила власти «Узкого круга», – и лучше ему никогда не знать этого для его же собственной безопасности. Питт как минимум обязан скрыть от него такие подробности, учитывая их прошлую совместную работу. Более того, он и сам желал этого в сложившихся теперь между ними дружеских отношениях.
– Я стремлюсь к объективным знаниям, а они включают как достоинства, так и недостатки, – уклончиво ответил он. – Войси баллотируется в парламент от консерваторов, соперничая с сильным либеральным крылом. И уже поднял вопрос о самоопределении!
– И это серьезно обеспокоило Наррэуэя? – Брови Джона удивленно поднялись.
Его гость не ответил, и Корнуоллис удовлетворился его молчанием.
– Что вам нужно узнать о Войси? – спросил он. – Какого рода слабые места?
– Кого он любит? – тихо произнес Питт. – Кого боится? Что может насмешить его, вызвать благоговение, страдания, любые чувства? Что ему нужно, помимо власти?
Джон улыбнулся, глядя на Томаса пристальным невозмутимым взглядом.
– Это звучит так, словно вы готовитесь к битве, – заметил он с легким вопросительным оттенком.
– Я стараюсь понять, имеются ли у меня для борьбы хоть какие‑то средства, – ответил Питт, не отводя глаз. – Так имеются ли?
– Сомневаюсь, – ответил Корнуоллис. – Если его и волнует что‑то, кроме власти, я не слышал об этом и не знаю, какая потеря могла бы существенно уязвить его. – Он внимательно изучал лицо собеседника, пытаясь прочесть его скрытые мысли. – Войси любит жить в достатке, но без показного шика. Восхищение льстит его самолюбию, но он не станет заискивать, добиваясь его. Полагаю, у него даже нет такой нужды. Он находит массу удовольствий в своей домашней жизни – вкусная еда, хорошие вина, театр, музыка, светские приемы, – но с готовностью пожертвует всем этим ради желанной карьеры. По крайней мере, так говорят. Вам нужно, чтобы я попытался выяснить нечто большее?
– Нет! – резко воскликнул Питт. – Не надо… пока не надо.
Джон кивнул.
– Боится ли он хоть кого‑то? – безнадежно спросил Томас.
– Никого, насколько я знаю, – сухо бросил его бывший начальник. – А у него есть основания? Неужели Наррэуэй боится… какого‑то покушения на его жизнь?
И вновь Питт не ответил. Это молчание терзало его, хотя он и знал, что Корнуоллис его понимает.
– Но кто‑то может взволновать его? Или, может, он о ком‑то заботится? – упорно гнул свое Томас; он не мог позволить себе просто сдаться.
Джон немного подумал.
– Возможно, – сказал он наконец, – хотя, насколько это важно для него, я не знаю. Но мне думается, у него есть определенная зависимость от одной… особы, по меньшей мере. Однако, по‑моему, она волнует его настолько, насколько он может позволить себе в силу своей натуры.
– Особа? Кто она? – спросил Питт, чувствуя, что блеснул наконец лучик надежды.
Корнуоллис остудил его пыл еле заметной печальной улыбкой.
– Его овдовевшая сестра на редкость обаятельна и пользуется большим успехом в обществе. Она, кажется – по крайней мере, на первый взгляд, – обладает добродушием и чувством моральной ответственности, которых он никогда не проявляет, несмотря на его недавнее посвящение в рыцари, о котором, полагаю, вам известно больше меня.
Последние слова он произнес просто как констатацию факта, без тени вопросительной интонации. Сознавая, что не имеет права вторгаться в некоторые сферы, Корнуоллис никогда не стал бы задавать навязчивых вопросов, не желая к тому же быть обиженным уклончивым ответом. Он слегка нахмурился – лишь легкая тень пролегла между его бровями.
– Но я встречал ее всего два раза, а мне трудно судить о женской натуре. – Теперь на лице Корнуоллиса проявилось легкое смущение. – Завсегдатай дамских салонов может иметь совершенно иное мнение. Однако она определенно является одной из важнейших ценностей его политического капитала для влиятельной компании, готовой поддержать его. С избирателями же он может, видимо, положиться разве что на собственное красноречие.
Его голос прозвучал удрученно: казалось, он опасался того, что в данном случае будет достаточно и одного красноречия. Питт боялся этого еще больше. Он видел, как Войси выступал перед рабочими. Известие о том, что политик имел в обществе такого влиятельного союзника, стало настоящим ударом. А ведь Томас надеялся, что, возможно, в холостой жизни как раз и кроется одна из слабостей Войси!
– Благодарю вас, – искренне сказал он.
– Хотите еще сидра? – спросил Джон, вяло улыбнувшись.
* * *
Эмили Рэдли любила бывать на званых приемах, особенно когда в их атмосфере царило опасное возбуждение, ощущалась борьба умов, аргументов и амбиций, скрытых под масками благодушия или обаяния, общественного долга или увлечения реформами. Парламент еще никто не распускал, но все знали, что такое могло случиться со дня на день. Вот тогда‑то и начнется открытая предвыборная борьба! Она будет жесткой и быстрой – продлится, вероятно, с неделю. Закончилось время колебаний, обдумывания ударов по конкурентам или улучшения защиты. Все зависит от стремительности натиска и накала страстей.
Миссис Рэдли тоже подготовилась к своеобразной военной кампании. Будучи красивой женщиной, она отлично осознавала свои достоинства. Но сейчас, когда ей было уже за тридцать и у нее подрастали двое детей, Эмили требовалось немного больше стараний, чем раньше, чтобы выглядеть безукоризненно. Она отказалась от юношеских пастельных тонов, когда‑то любимых ею за их мягкую приглушенность, и выбрала, по последней парижской моде, нечто более смелое, более изысканное. Основной тон ее юбки и лифа поблескивал темно‑синим шелком, но его дополняла скроенная по косой серо‑голубая полоса отделки, мягкими складками поднимавшаяся по лифу к левому плечу и вновь спускавшаяся к талии, где она соединялась в узел с другой, более широкой полосой, а их концы ниспадали с бедра. Рукава у этого платья были с обычными, высоко приподнятыми плечами, а дополняли наряд, разумеется, длинные, до локтя, лайковые перчатки. В качестве украшений миссис Рэдли выбрала бриллианты, отложив более привычный жемчуг.
Результат получился поистине прекрасным. Она чувствовала, что готова бросить вызов любой моднице в зале, даже ее нынешней ближайшей приятельнице, великолепной и стильной Роуз Серраколд. Роуз ей очень нравилась, и с момента их знакомства Эмили искренне надеялась, что муж этой женщины, Обри, пройдет в парламент, однако она не имела ни малейшего желания позволить кому‑то затмить себя. Положение Джека оставалось вполне надежным. Он хорошо разбирался в политике и завел несколько полезных, влиятельных друзей, которые теперь, несомненно, поддержат его, но ничто не следовало считать само собой разумеющимся. Политическая сила – весьма переменчивая особа, и ее расположение необходимо поддерживать при каждом удобном случае.
Карета супругов Рэдли остановилась на Парк‑лейн перед великолепным особняком Тренчарда, и Джек помог Эмили выйти. При входе их поприветствовал ливрейный лакей, и, проходя по холлу, они услышали громогласное объявление об их прибытии. Держа мужа под руку, миссис Рэдли вступила в гостиную с гордо поднятой головой и самоуверенным видом. В четверть девятого с гостями поздоровался полковник Тренчард с супругой – это было ровно через пятнадцать минут после времени, указанного в приглашении, которое чета Рэдли получила пятью неделями раньше. Такое опоздание считалось самым уместным моментом для прибытия, и они превосходно знали эту тонкость. Прибытие вовремя могли воспринять как вульгарное нетерпение, а опоздание к приветствию сочли бы грубостью. И поскольку об ужине обычно объявляли примерно через двадцать минут после появления первого гостя, можно было также незаметно появиться гораздо позже, когда все уже направлялись в столовую.
Этикет с незыблемой строгостью предписывал, в каком порядке, кому и с кем следовало проходить к столам, иначе вся эта процедура могла бы превратиться в хаос. Неизменно восхитительным считалось быть замеченной за красоту. Остроумием обычно тоже восхищались, но эта область считалась более рискованной. Существовала опасность выставить кого‑то, в том числе и себя, на посмешище.
До объявления дворецким ужина не подавалось никаких напитков. На первых порах гости обычно просто сидели и обменивались любезностями с любыми знакомыми, дожидаясь начала шествия в столовую.
Возглавлял процессию хозяин дома под руку со старшей титулованной дамой, за ними следовали гости, в порядке дамских титулов, и в завершении шла хозяйка под руку со старейшим почетным гостем.
Эмили успела лишь перемолвиться парой слов с Роуз Серраколд, с легкостью заметив среди гостей ее светло‑пепельные волосы и четкий прямой профиль еще до того, как она повернула голову и ее аквамариновые глаза обратились на последних прибывших. Лицо Роуз мгновенно озарилось радостью, и она быстро подошла к миссис Рэдли, поправив накидку из тафты бледно‑розового оттенка. Впереди эта накидка ниспадала до талии, поверх бордовой, украшенной вышивкой парчи лифа. Такая же вышитая отделка повторялась на боковых вставках и нижней юбке. Только совершенно уверенная в себе женщина могла выглядеть настолько ослепительно в столь экстравагантном наряде.
– Эмили, как приятно видеть вас! – воодушевленно произнесла она.
Ее оценивающий взгляд мгновенно вспорхнул по платью подруги, однако она, изумленно вспыхнув, намеренно ничего не сказала о нем.
– Как восхитительно, что вы смогли прийти! – заявила миссис Серраколд вместо этого.
Миссис Рэдли улыбнулась в ответ.
– Как будто вы не знали, что я обязана здесь появиться! – приподняла она брови.
Они обе знали, что Роуз заранее ознакомили со списком гостей, иначе она могла бы не принять приглашение.
– В общем, я имела лишь смутное представление, – призналась миссис Серраколд и, подавшись вперед, добавила: – Вам не кажется, что сегодняшний прием немного напоминает вечерний бал перед сражением при Ватерлоо?
– Не тот повод, насколько я помню, – с шутливой досадой проворковала Эмили.
Роуз глянула на нее с явным пренебрежением.
– Завтра мы устремляемся в бой! – заметила она с преувеличенной выразительностью.
– Дорогая, мы воюем уже давно, – ответила ее подруга, когда Джек присоединился к ближайшей группе мужчин. – Многие годы! – пылко закончила она.
– «Не стрелять, пока не увидите белки их глаз»[9], – напомнила ей Роуз. – Или желтки, в случае леди Гарсонс. Эта особа пьет столько, что свалилась бы даже лошадь.
– Вам следовало бы повидать ее матушку! – изящно пожала плечами Эмили. – Ее дозы могли бы свалить и жирафу.
Откинув голову, миссис Серраколд залилась заразительным мелодичным смехом, побудившим множество мужчин взглянуть на нее с удовольствием, а их жен – смерить ее неодобрительным взглядом, прежде чем демонстративно отвернуться.
Столовая сверкала под ярким светом люстр, отражавшимся во множестве хрустальных граней на столе и в блеске серебра на снежно‑белых салфетках. Розы выплескивались из серебряных ваз, а длинные плети жимолости, извиваясь в середине скатерти, распространяли благоухание.
Возле каждого столового прибора лежало меню – написанное, естественно, по‑французски. Имя гостя, предварявшее список блюд, показывало также место, отведенное ему за столом. Лакеи начали подавать суп, сообразно с предпочтением каждого гостя из имевшегося выбора: суп из бычьих хвостов или раковый суп. Слева от Эмили оказался либеральный старейшина, а справа – богатый банкир. Ознакомившись с предстоящими восемью переменами блюд, она отказалась от супа, но банкир выбрал суп из бычьих хвостов и тут же начал поглощать его, согласно предписанным правилам.
Миссис Рэдли взглянула на сидевшего напротив Джека, но тот как раз озабоченно беседовал с одним либералом, который мог также помочь защитить его место в парламенте от враждебных происков. До нее доносились обрывки фраз, свидетельствующие об озабоченности распрями между ирландскими кандидатами, которые почти наверняка сыграют свою роль, если главные партии наберут близкое число голосов. Способность сформировать правительство могла зависеть от завоевания поддержки как парнеллистов[10], так и их противников.
Эмили устала от разногласий по вопросу Гомруля, поскольку о нем спорили с тех пор, как она себя помнила и, казалось, все так же безрезультатно, хотя миссис Рэдли изучала этот предмет еще во времена ученичества в классной комнате. Поэтому она обратила свое очаровательное внимание на соседа слева, весьма важного политика, который также отказался от первого блюда.
Вторая перемена предлагала на выбор лососину или корюшку. Миссис Рэдли предпочла последнюю и на некоторое время воздержалась от разговоров.
Отклонив очередную закуску – Эмили не пожелала ни острых яиц под соусом карри, ни сладкого мяса с грибами, – она прислушалась к обсуждению, происходящему напротив нее.
– Полагаю, нам следует отнестись к нему со всей серьезностью, – говорил Обри Серраколд, чуть подавшись вперед.
Свет поблескивал в его светлых волосах, а удлиненное лицо политика исполнилось серьезной озабоченности, исключавшей любой намек на шутку. Не осталось даже следа свойственного ему ироничного обаяния.
– Ради всего святого! – протестующе воскликнул соседствующий с Эмили старейшина, и его щеки зарумянились. – Этот охламон бросил школу и с десяти лет работал на шахтах! Даже обычные шахтеры обладают более основательным здравым смыслом, чтобы представить, как он мог бы представить их интересы в парламенте, какого дурака он тут может сыграть. К тому же он потерял связь со своей родной Шотландией, и в Лондоне у него нет никаких шансов.
– Конечно, нет! – возмущенно согласился мужчина добродушно‑грубоватого вида, подняв бокал вина и после легкой заминки сделав изрядный глоток. – Именно нашу партию рабочие считают своей кровной защитницей, а не некоторые новомодные группировки, собравшие сверкающих глазами фанатиков с кирками и лопатами!
– Это просто своего рода ослепление, но из‑за него мы можем потерять будущее, – возразил Обри с крайней серьезностью. – Не следует легко сбрасывать со счетов Кейра Гарди. Множество рабочих оценит его смелость и решительность, узнав, каких успехов он достиг в жизни. И со всей логичностью они могут подумать, что раз он достиг столь многого для себя, то сможет помочь также преуспеть и им.
– Заберет их из шахт и посадит в парламентские кресла? – скептически произнесла дама в маково‑алом платье.
– О боже! – Роуз нервно сжала пальцами бокал. – Чем же тогда мы будем топить наши камины? Вряд ли от таких должностных лиц будет хоть малейшая практическая польза.
Раздался всплеск смеха, но нарочито оживленного и громкого.
Джек улыбнулся:
– На редкость забавно, в качестве застольной шутки… но будет не так весело, если шахтеры послушают, подумают да и отдадут голоса за Гарди, исполненного страстного желания реформ, но не имеющего ни малейшего понятия об их издержках… я имею в виду реальную цену реформ для торговли и связанных с ней заработков.
– Да они не захотят и слушать его! – изящно взмахнув рукой, заявил мужчина, чье лицо обрамляли белоснежные бакенбарды, однако его пренебрежительный тон свидетельствовал, что он не воспринимает серьезности Джека Рэдли по данному вопросу. – Большинство избирателей более разумны, – добавил он, заметив сомнение на лице своего собеседника. – Помилуйте, Рэдли, голосует только половина мужчин в нашей стране! Много ли шахтеров владеют собственными домами или платят за аренду более десяти фунтов в год?[11]
– То есть, по существу, – повернулся к нему Обри Серраколд, широко открыв глаза, – право голосования есть у тех, кто процветает при нынешних порядках? Разве это не сводит на нет весомость вашего аргумента?
Сидящие напротив обменялись быстрыми взглядами. Никто не ожидал последнего замечания, и некоторым оно явно не понравилось.
– О чем вы говорите, Серраколд? – осторожно поинтересовались «белые бакенбарды». – Не изменить ли нам нынешние славные порядки?
– Нет, – с равной осторожностью ответил Обри. – Но если они устраивают один пласт общества, то не тот самый пласт, которому следовало бы иметь право решать, сохранить их или изменить, поскольку все мы склонны понимать жизнь по‑своему и сохранять то, что в наших интересах.
Слуги забрали использованные тарелки и, не удостоившись никакого внимания, подали охлажденную спаржу.
– У вас весьма слабое мнение о ваших коллегах в правительстве, – с кисловатой улыбкой заметил рыжеволосый мужчина. – Удивительно, что вам захотелось присоединиться к нам!
Серраколд улыбнулся с исключительным обаянием, на мгновение опустив глаза, прежде чем ответить.
– Ничего удивительного, – сказал он. – По‑моему, мы, либералы, как раз благоразумны и честно используем данную нам власть, но вот в наших оппонентах я совсем не уверен.
Его слова встретили громким смехом, но Эмили заметила, что тревога рассеялась еще не до конца – по крайней мере, судя по Джеку. Она достаточно хорошо знала мужа и с пониманием отметила, как напряженно держат его руки нож и вилку, хотя он с неизменной ловкостью продолжал отрезать кончики спаржевых побегов. И его настороженное молчание продолжалось еще несколько минут.
Разговор свернул на другие политические проблемы. Традиционные легкие закуски убрали – их сменили более основательные перепелки, рябчики или куропатки. Миссис Рэдли по‑прежнему отказывалась от большинства предложений. Так предписывалось поступать на светских приемах молодым барышням: это якобы укрепляло их дух, и Эмили всегда удивляло, почему же мужчины не склонны укреплять свой дух. Как‑то в юности она спросила об этом отца – и получила в ответ взгляд полнейшего недоумения. Несправедливость этих негласных правил никогда не приходила ему в голову. Но она неизменно отказывалась от деликатесов, не чувствуя себя достаточно старой, чтобы признать себя свободной от благопристойной манеры поведения.
Дичь сменили сладости. В меню предлагались торт‑мороженое, нектариновый конфитюр, ледяные меренги и клубничное желе, которое Эмили и выбрала. Она ела желе фруктовой вилочкой, что требовало изрядной сноровки и известной степени сосредоточенности.
После сырной тарелки подали разнообразное мороженое, неаполитанские сливки, малиновый сок и в заключение ужина – ананасы (видимо, из оранжереи), клубнику, абрикосы и дыни. Миссис Рэдли с изумлением взглянула на это искусно выложенное десертное изобилие, требовавшее ловкости в умении действовать ножом и вилкой, очищая и пробуя каждый из даров природы. Многие из едоков явно пожалели о сделанном выборе, особенно те, кто решил полакомиться абрикосами.
Разговоры возобновились. Эмили полагалось очаровывать, проявлять лестное для окружающих внимание, развлекать или чаще выглядеть веселой и заинтересованной. Величайшим комплиментом для человека служило то, что его сочли интересным, и она знала, что мало кто устоит перед лестным вниманием. Просто удивительно, как может открыться натура человека, если ему всего лишь позволить выговориться!
Под внешними продуманными проявлениями самоуверенности и бравады Эмили часто замечала затаенное смущение, порождавшее в ней растущую уверенность в том, что эти уже попавшие в правительственные круги деятели, знавшие хитрости и ловушки политики, не хотели проиграть на предстоящих выборах, но и не испытывали искреннего желания их выиграть. Столь странное противоречие вызывало у Эмили тревогу, поскольку она не понимала его причин. Внимательно слушая пространные речи, миссис Рэдли точно поняла, что каждый, в силу своих желаний или амбиций, желал бы выиграть свою собственную частную битву, но не общую войну. Похоже, они не знали толком, чем обернутся трофеи победителя.
Эмили слышала натянутый смех и напряженные, окрашенные разными чувствами голоса. В ярком освещении поблескивали ювелирные украшения, хрусталь бокалов и неиспользованные серебряные приборы. Упоительные тонкие ароматы изысканных блюд смешивались с сильным запахом душистой жимолости.
– Он говорил мне, что для политической деятельности нужны многолетний опыт, колоссальное мужество, масса холодного самообладания и большое тактическое искусство, чтобы распоряжаться властью, не повредив самому себе или ближайшему окружению, – напряженно сообщила Роуз, сверкая глазами.
– Тогда, моя милая леди, вам следует отказаться от столь опасной добычи, требующей от охотника мужества и силы, меткого глаза и бесстрашия, – решительно ответил ее сосед. – Полагаю, вы удовольствуетесь фазаньей охотой или какими‑то другими развлечениями.
– Дорогой полковник Бертран, – ответила миссис Серраколд с великолепной невинностью во взгляде, – таковы же правила этикета по употреблению в пищу апельсина!
Полковник побагровел, услышав неудержимый взрыв смеха.
– О, извините! – едва услышав смех, воскликнула Роуз. – Боюсь, я выразилась слишком туманно. Жизнь полна самых разных опасностей – удачно избежав одной ловушки, человек неизбежно попадет в другую.
Никто не стал спорить. Многие здешние гости осознали высокомерный тон полковника, и никто не бросился на его защиту. Леди Уорден продолжала посмеиваться над ним время от времени до конца приема.
Когда трапеза наконец завершилась, дамы удалились из столовой, дабы джентльмены могли спокойно насладиться портвейном и, как Эмили прекрасно знала, завести серьезное политическое обсуждение вопросов тактики, а также денежной или торговой поддержки, ради которого и устраивался нынешний прием.
Для начала миссис Рэдли осознала, что оказалась в группе из полудюжины дам, мужья которых либо уже трудились в парламенте, либо надеялись попасть туда, либо имели деньги и основательную заинтересованность в исходе предстоящих выборов.
– Хотелось бы мне, чтобы они посерьезнее относились к этим новым социалистам, – заявила леди Моллой, едва вся компания устроилась в креслах.
– Вы имеете в виду мистера Морриса и приспешников этого фабианца Уэбба? – удивленно расширив глаза, уточнила миссис Ланкастер с улыбкой, граничившей с ироничной усмешкой. – Скажите честно, милочка, вы сами видели когда‑нибудь мистера Уэбба? Говорят, что он весь какой‑то недоразвитый, просто тощий недоросток!
Ответом ей послужили легкие усмешки дам, как робкие, так и довольные.
– Зато у его супруги всего хватает с избытком, – быстро вставила одна из собеседниц, – к тому же у нее весьма родовитые предки.
– Да, она еще сочиняет детские сказочки про ежей и кроликов, – закончила за нее миссис Ланкастер.
– Какое подходящее занятие! Если хотите знать мое мнение, то вся эта социалистическая идея принадлежит кролику Питу и миссис Тигги‑Винкль[12], – рассмеявшись, заявила леди Уорден.
– А по‑моему, тут нет ничего смешного! – возразила Роуз, не скрывая глубокого волнения. – Тот факт, что некоторые личности имеют несколько причудливую внешность, не должен мешать нам заметить ценности их идей или, что более важно, оценить опасность, которую эти идеи могут представлять для нашей реальной власти. Нам нельзя игнорировать их; более того, следует привлечь таких людей в союзники.
– Но они не пожелают союза с нами, милочка, – разумно заметила миссис Ланкастер. – Их идеи непрактично экстремальны. Они стремятся к созданию реально действующей Лейбористской партии.
Разговор свернул на конкретные реформы и сроки – или хотя бы попытки – их возможного осуществления. Эмили присоединилась с обсуждению, но именно Роуз Серраколд, выдвигавшая самые возмутительные предположения, вызывала больше всего смеха. Никто, и особенно миссис Рэдли, не мог толком понять, что же скрывается под остроумными и проницательными, волнующими и эксцентричными замечаниями этой дамы.
– Вы думаете, я шучу, не так ли? – спросила она Эмили, когда остальная компания разделилась на парочки.
– Нет, ничуть, – ответила та, повернувшись спиной к ближайшим дамам. Внезапно она поняла это с полной уверенностью и добавила: – Но, по‑моему, вы поступили весьма благоразумно, позволив остальным думать именно так. Мы определенно находимся на той стадии понимания фабианства, когда нам хочется считать их забавными, но уже появляются первые подозрения того, что в итоге эти насмешки могут обернуться скорее против нас, чем пойти нам на пользу.
Роуз подалась вперед, и ее красивое напряженное лицо вдруг потеряло все легкомыслие.
– Именно поэтому, Эмили, мы должны прислушаться к ним и перенять по крайней мере лучшие из их идей… более того, большинство их идей. Грядут реформы, и нам необходимо быть в авангарде борьбы за них. Избирательное право должно распространяться на всех совершеннолетних, как на богатых, так и на бедных, а со временем также и на женщин. – Ее брови взлетели вверх. – Не смотрите же на меня с таким ужасом! Так должно быть. Каким путем должна развиваться наша Империя… впрочем, это уже другой вопрос. И неважно, что говорит мистер Гладстон, – нам надо добиться принятия закона о том, чтобы в любых сферах деятельности рабочий день не превышал восьми часов, чтобы ни один наниматель не мог заставить человека трудиться дольше.
– В том числе и женщину? – с любопытством поинтересовалась миссис Рэдли.
– Естественно! – мгновенно воскликнула ее собеседница, невольно ответив на неуместный вопрос.
Эмили прикинулась невинной овечкой:
– И если вы попросите свою служанку принести вам чай после этих восьми часов, то с удовольствием услышите в ответ, что она свои восемь часов отработала и свободна, поэтому за чаем вам придется сходить самой?
– Туше́! – Роуз побеждено склонила голову, раскрасневшись от досады. – Да, вероятно – по крайней мере, для начала, – нам следует говорить только о фабричных рабочих. – Она быстро пришла в себя и вновь сверкнула глазами. – Однако это не меняет того, что нам следует стремиться к реформам, если мы хотим выжить, не говоря уже о том, чтобы жить в более справедливом обществе.
– Нам всем хочется социальной справедливости, – с кривой усмешкой заметила Эмили. – Только каждый из нас имеет разные идеи насчет того, какова она… как ее достичь… и когда.
– Завтра! – пожав плечами, бросила миссис Серраколд. – А если говорить о консерваторах, то в самом туманном будущем, но только не сегодня!
Они не сразу заметили, что к ним вновь подошла леди Моллой, которая обращалась в основном к Роуз и, очевидно, еще усиленно размышляла над тем, что услышала от нее раньше.
– Мне следует вести себя осторожнее, верно? – печально произнесла миссис Серраколд, глядя вслед уходящей леди Моллой. – Бедняжка совсем запуталась.
– Не стоит ее недооценивать, – предостерегла Эмили. – Возможно, ей не хватает гибкости ума, но она крайне сообразительна там, где идет речь о практической выгоде.
– Какая скука! – Роуз изящно вздохнула. – Вот самое большое неудобство государственной службы: приходится угождать народу. Не то чтобы мне не хотелось, конечно! Но не кажется ли вам, что сложнее всего бывает добиться нужного понимания?
Миссис Рэдли невольно улыбнулась.
– Я отлично вас понимаю, хотя, признаться, в основном я даже не пытаюсь добиться этого. Не понимая вас, люди могут подумать, что вы болтаете глупости, но если вы будете вести себя достаточно уверенно, они могут поверить вам на слово, что не всегда бывает, когда достигается полное понимание. Искусство убеждения зависит не столько от величины ума, сколько от доброты сердца. И я знаю, что говорю серьезно, Роуз, поверьте мне!
Миссис Серраколд задумчиво помедлила, словно подыскивая какой‑то остроумный ответ, но внезапно ее легкомысленная игривость совершенно улетучилась.
– Эмили, вы верите в жизнь после смерти? – спросила она.
Ее собеседница так поразилась вопросу, что переспросила – только для того, чтобы успеть немного обдумать его:
– Прошу прощения, не поняла?
– Вы верите в жизнь после смерти? – пылко повторила Роуз. – То есть в реальную жизнь, а не в туманное священное приобщение к потустороннему Господнему миру.
– Ну, наверное, верю. Не думаю, что там будет слишком ужасно. Но почему вы спросили?
Роуз грациозно повела плечиком, и на лице ее вновь появилось уклончивое выражение, словно она удержалась на краю какого‑то признания.
– Я просто подумала, что смогу потрясти на мгновение вашу политическую практичность, – заявила она, однако оттенок насмешливости начисто исчез как из ее взгляда, так и из голоса.
– А сами вы верите? – спросила Эмили с легкой улыбкой, чтобы придать вопросу более легкомысленное, чем это было на самом деле, значение.
Ее приятельница помедлила, явно сомневаясь, как лучше ответить. Миссис Рэдли заметила эти сомнения, выразившиеся в напряженной позе – эффектное и яркое бордовое платье Роуз с розовой отделкой слегка натянулось на плечах, а ее тонкие пальцы побелели, вцепившись в подлокотники кресла.
– Вы думаете, что ее не существует? – тихо уточнила Эмили.
– Нет‑нет! – Голос миссис Серраколд зазвенел полнейшей убежденностью. – Я совершенно уверена, что она есть! – И вдруг совершенно неожиданно Роуз успокоилась.
Эмили не сомневалась, что это удалось ей с большим трудом. Подруга взглянула на нее и вновь отвела глаза.
– Вы когда‑нибудь бывали на спиритическом сеансе?
– На настоящем – нет, только на притязающих на реальность сеансах во время вечеринок. – Эмили пристально смотрела на Роуз. – Почему вы спросили? Неужели вы сами побывали на таком?
Миссис Серраколд вновь уклонилась от прямого ответа.
– Что значит настоящий сеанс? – чуть раздраженно произнесла она. – Демонстрации Дэниела Дангласа Хьюма[13] считались замечательными. Никому не удалось уличить его в шарлатанстве, а пытались многие! – Поведя глазами, она с явным вызовом взглянула прямо на Эмили, словно вступила уже на более твердую почву и больше не видела топких ловушек на этом опасном пути.
– А вы когда‑нибудь видели его? – спросила Эмили, избегая прямого вопроса, который, как она была уверена, заключался не в Дангласе Хьюме, хотя она сама пока толком не понимала, что именно тревожило подругу.
– Нет. Но говорят, он мог левитировать, взлетая под потолок, или растягиваться, особенно его руки, – стала рассказывать Роуз, внимательно, хотя и с шутливым видом, следя за реакцией собеседницы.
– Должно быть, удивительное зрелище, – признала Эмили, не понимая, зачем кому‑то захотелось демонстрировать подобные трюки. – Но я думала, целью спиритизма является общение с духами знакомых, но уже ушедших людей.
– Так и есть! Это просто демонстрация его способностей, – пояснила Роуз.
– Или способностей этих духов, – уточнила миссис Рэдли. – Хотя сомневаюсь, чтобы хоть кто‑то из моих предков скрывал подобные таланты… если, конечно, не забираться в пуританские времена, вспоминая суды над ведьмами!
Роуз улыбнулась, но глаза ее оставались серьезными, и ее поза – шея и плечи – по‑прежнему выдавала сильное напряжение. Внезапно Эмили догадалась, что именно тема общения с духами очень много значит для ее приятельницы. Небрежность тона служила щитом для ее уязвимости и спасением от болезненных насмешек над затаенными чувствами и опасениями того, что кто‑то может поколебать или разрушить ее веру.
Миссис Рэдли ответила с полнейшей серьезностью, и ей даже не пришлось притворяться:
– Более того, я не представляю, как духи из прошлого могут общаться с нами, когда хотят сообщить нечто важное. И по правде говоря, не знаю даже, сопровождается ли такое общение странными видениями или звуками. Я могла бы судить о достоверности только по содержанию передаваемого сообщения, а не по антуражу его передачи.
Она начала сомневаться, продолжить ли ей такой щекотливый разговор или это будет навязчивым.
Однако миссис Серраколд мгновенно устранила сомнение подруги.
– Но если нет странных проявлений, то как же узнать, что сообщение подлинно, – ведь медиум может просто сообщить мне то, что, по ее мнению, мне хотелось услышать? – Она с усталым недоумением небрежно повела рукой. – Без всех этих вздохов и стонов, видений и постукиваний, без сияющей эктоплазмы и прочих сверхъестественных проявлений вряд ли можно считать сеанс встречей с духами! – Дама неуверенно рассмеялась. – Милая, не будьте такой серьезной. Едва ли это можно отнести к церковному таинству! Просто привидениям вздумалось побренчать цепями. Не можем же мы в жизни только и делать, что бояться… по крайней мере, таких глупостей, которые вовсе не имеют смысла? Лучше уж оставить опасения для чего‑то действительного ужасного. – Она взмахнула рукой, сверкнув бриллиантами на пальцах. – Вы уже слышали предложения Лабушера[14] насчет того, чтобы использовать Букингемский дворец? Знаете, что будет, если ему представится возможность провести свои планы в жизнь?
– Нет… – Эмили не сразу удалось перестроиться с чисто чувственного восприятия на этот полный абсурд.
– Он готов превратить его в приют для падших женщин! – звенящим голосом сообщила Роуз. – Признайтесь, вы давно не слышали лучшей шутки?
– Неужели он действительно предлагал такое? – недоверчиво воскликнула ее подруга.
– Не знаю, но… – Миссис Серраколд усмехнулась: – Но если еще и не предлагал, то скоро предложит! Когда старая королева упокоится с миром, принц Уэльский наверняка распахнет для них двери.
– Роуз, ради Бога! – предостерегла Эмили и, оглянувшись, убедилась, что их никто не подслушивал. – Попридержите свой язычок! Некоторые не способны понять саркастические шутки, если они болезненно затрагивают их самих!
Роуз попыталась принять вид человека, захваченного врасплох, но ее великолепные светлые глаза искрились таким весельем, что она не смогла отказаться от него.
– При чем тут сарказм, милочка? Я говорю серьезно. А если эти женщины еще не пали, то с помощью такого кавалера обязательно падут!
– Я понимаю, но ради всего святого, не объявляйте вы об этом во всеуслышание! – прошипела Эмили в ответ, и обе они прыснули со смеху – как раз в тот момент, когда к ним как раз подплыли три дамы во главе с миссис Ланкастер, которым не терпелось узнать, какую же веселую сплетню они упустили.
Поездка в карете домой с Парк‑лейн производила на миссис Рэдли уже совершенно новое впечатление. Шел второй час, но уличные фонари горели всю эту летнюю ночь, прекрасно освещая притихший и теплый город.
Эмили видела лишь часть лица Джека, озаренную каретным фонарем, но вполне четко разглядела в нем серьезность, скрываемую весь вечер.
– В чем дело? – тихо спросила она, когда они свернули с Парк‑лейн и поехали на запад. – Что произошло там, в столовой, после нашего ухода?
– Бурное обсуждение разнообразных вопросов и планов, – ответил мужчина и, повернувшись, взглянул на нее, вероятно, неосознанно скрывшись в тени. – Я… я предпочел бы, чтобы Обри не наболтал так много лишнего. Я отношусь к нему с большой симпатией и полагаю, что он будет достойно представлять интересы народа, и вероятно, что еще более важно, в палате появится честный человек…
– Но? – вопросительно произнесла его жена. – Что‑то не так? Неужели его могут не избрать? Ведь на это место, сколько помнится, всегда избирались именно либералы!
Она желала удачных выборов всем либералам, чтобы их партия вновь обрела большое влияние, но сейчас ей просто подумалось, как будет расстроена Роуз, если Обри проиграет. Как унизительно будет потерять такое надежное место, потерпеть личную неудачу, не связанную с политическими взглядами!
– Выиграть он может, насколько вообще можно быть уверенным в результате выборов, – согласился Джек. – И мы, вероятно, даже сформируем правительство, даже если большинство будет не таким подавляющим, как нам хотелось бы.
– Тогда что же не так? И не говори мне, что ничего не случилось! – возмущенно потребовала миссис Рэдли.
Ее муж закусил губу.
– Мне хотелось бы, чтобы Обри держал при себе более радикальные из своих идей. Он… он оказался ближе к социалистам, чем я полагал, – медленно, обдумывая свои слова, произнес Джек. – К чему, о господи, было заявлять, что он восхищается Сидни Уэббом? На данном этапе мы не в силах провести реформы. Народу они пока не нужны, и тори выставят нас на всеобщее осмеяние! Либо нам следует поддерживать Империю, либо не лезть на рожон со своими откровениями. Мы как раз поддерживаем, сознавая, что нельзя отмахнуться от этой проблемы как от несуществующей и ожидать сохранить торговлю, работу, мировой статус, соглашения или любые наши дела, не имея на то причины и цели. Идеалы чудесны, но без понимания реальности они могут погубить нас всех. Понятно, что огонь в камине полезен всем, однако разгулявшийся пожар способен все уничтожить.
– Так ты сказал об этом Обри? – спросила супруга политика.
– Пока не выдалось случая, но обязательно скажу.
Эмили немного помолчала, покачиваясь в тишине кареты и размышляя о неожиданном и странном интересе Роуз к спиритизму и о ее внутренней напряженности. Она сомневалась, стоит ли озадачивать Джека этими сведениями, но они слишком встревожили ее саму, чтобы легко забыть о них.
Карета резко свернула на более скромную улочку, где фонари попадались реже, и их лучи придавали кронам деревьев причудливые призрачные очертания.
– Роуз говорила со мной о медиумах, – вдруг невольно вырвалось у миссис Рэдли. – Думаю, что тебе также лучше посоветовать Одри предостеречь ее от подобных высказываний. Противники могут неверно истолковать их, а в преддверии выборов в недоброжелателях недостатка не будет. Видимо, Одри не привык подвергаться нападкам. Он так обаятелен, и почти все относятся к нему с симпатией.
Джек вздрогнул. Он развернулся в карете, чтобы лучше видеть лицо жены.
– Медиумы? Ты имеешь в виду медиумов типа Мод Ламонт? – Тревога в его голосе проявилась так остро, что Эмили не понадобилось смотреть на него для получения подтверждения.
– Она не упоминала Мод Ламонт, хотя о ней сейчас говорят все, – отозвалась женщина. – На самом деле она говорила о Дэниеле Дангласе Хьюме, но я полагаю, одно с другим связано. Она рассуждала о левитации, эктоплазме и прочих чудесах.
– Я никогда не могу понять, когда Роуз шутит, а когда нет… Может, она шутила? – спросил Рэдли, и этот вопрос явно не был риторическим.
– Не могу сказать наверняка, – призналась его супруга, – но мне так не показалось. У меня создалось впечатление, что втайне она чем‑то глубоко встревожена.
Джек неловко сменил позу – причем сделано это было лишь отчасти из‑за тряски по булыжной мостовой.
– Да, об этом я тоже поговорю с Обри. Личные развлечения обычного человека могут стать веревкой, на которой журналисты повесят кандидата в члены парламента. Могу представить себе, какие они опубликуют карикатуры! – Они как раз проезжали фонарный столб, и в его свете, прежде чем карета опять нырнула в сумрак ночи, Эмили на мгновение заметила, как болезненно сморщилось лицо ее мужа. – Спросите миссис Серраколд, кому суждено выиграть выборы! Черт побери, лучше уж… кому суждено выиграть на скачках в Дерби! – произнес он, копируя издевательский тон досужих разговоров. – Пусть спросит дух Наполеона, какой удар нанесет ему русский царь. Тот ведь не простил ему спаленной Москвы и двенадцатого года.
– Даже если б он знал, то вряд ли сообщил бы нам, – заметила Эмили. – К тому же еще менее вероятно, что он простил нам Ватерлоо.
– Если б мы не могли спросить любого, с кем воевали, то это исключило бы почти всех в подлунном мире, кроме португальцев и норвежцев, – возразил политик. – Но их знания о нашем будущем могут быть весьма ограниченными и, вероятно, не стоят и фартинга. – Он глубоко и озабоченно вздохнул: – Эмили, неужели ты действительно думаешь, что она не пообщалась случайно на какой‑то загородной вечеринке с неким медиумом?
– Да… – произнесла миссис Рэдли с холодной убежденностью. – Да… К сожалению, думаю.
* * *
Следующее утро принесло иные тревожные новости. Сидя за завтраком, состоявшим из вареной селедки и хлеба с маслом – одно из немногочисленных блюд, которые он умел сносно готовить, – Питт просматривал газеты, когда его взгляд вдруг наткнулся на письмо издателю. Его напечатали на первой полосе броским впечатляющим шрифтом.
Уважаемый сэр,
Я пишу к вам в некотором потрясении, поскольку всю жизнь поддерживал Либеральную партию и все то, что она делала для нашего народа и, косвенно, для всего мира. Я восхищался либералами и одобрял предлагаемые ими реформы и принимаемые законы.
Однако, проживая в избирательном округе Южного Ламбета, я с нарастающей тревогой слушал выступление мистера Обри Серраколда, кандидата от либералов. Игнорируя былые либеральные ценности и разумные и просвещенные реформы, он, скорее, призывал к преобразованиям истерического социализма, которые способны уничтожить все наши прежние великие достижения в безумном и болезненном стремлении к переменам, возможно, благонамеренным, но неизбежно малоуспешным, а в силу их несвоевременности они обойдутся нам слишком дорого, подорвав в итоге всю нашу экономику.
Я призываю всех избирателей, обычно поддерживавших либералов, обратить особое внимание на слова мистера Серраколда и подумать, пусть даже с сожалением, стоит ли им поддерживать его; ведь если мы поддержим такие предложения, то всем нам, возможно, будет уготован гибельный путь.
Социальные реформы основаны на стремлении к идеалу и поддерживаются каждым честным человеком, но их следует проводить мудро, постепенно, со знанием дела внедряя в жизнь без ущерба для нашего общества. Если же проводить их поспешно, потакая возбужденным амбициям совершенно неопытного и, как видно, мало смыслящего в делах человека, то они приведут к разорению и несчастьям обширного большинства нашего народа, который заслуживает лучшего.
О чем и сообщаю вам с глубочайшей печалью,
Рональд Кингсли, генерал‑майор в отставке.
Питт так долго взирал на это напечатанное письмо, что чай его успел совсем остыть. Вот и первый открытый удар по Серраколду, решительный и серьезный. Он мог повредить его предвыборной кампании.
Не оживился ли «Узкий круг», вступив в настоящую схватку?
Глава третья
Питт вышел на улицу, прикупил пять других газет и, вернувшись домой, убедился, что генерал‑майор Кингсли со сходной печалью написал письма в каждую из них. В трех газетах письмо напечатали почти в том же виде, несущественно изменив одну или две фразы.
Окончательно отложив утренние газеты, Томас просидел в задумчивости еще несколько минут, осознавая, насколько серьезно следует отнестись к этой публикации. Кто такой Кингсли? Много ли народа прислушается к его мнению? И еще более важно, случайно ли он отправил свое письмо или это начало некой враждебной кампании в прессе?
Полицейский еще не пришел к заключению, стоит ли разузнать побольше об этом Кингсли, когда услышал звонок в дверь. Глянув на кухонные часы, он осознал, что уже десятый час. Должно быть, миссис Броди забыла ключи. Томас встал, досадуя на нежданную помеху, хотя он с благодарностью относился к ее работе, и пошел к двери под все более настойчивый трезвон.
Но на крыльце стояла вовсе не миссис Броди, а молодой человек в коричневом костюме с зализанными назад волосами и взволнованным выражением лица.
– Доброе утро, сэр, – вытягивая руки по швам, решительно произнес он. – Сержант Гренвилл, сэр…
– Если Наррэуэй хочет сообщить мне о критическом письме в «Таймс», то я уже ознакомился с ним, – довольно резко сказал Питт. – Как и в другой прессе вроде «Спектейтора», «Мейл» и «Иллюстрейтед Лондон ньюс».
– Нет, сэр, – озабоченно нахмурившись, ответил сержант, – дело связано с убийством.
– Что? – Сначала Томас подумал, что ослышался.
– Убийство, сэр, – повторил его коллега. – На Саутгемптон‑роу.
Питт испытал острейшее сожаление, почти физическую боль, сменившуюся приступом ненависти к Войси и всему «Узкому кругу» за свое увольнение с Боу‑стрит, где он занимался понятными, пусть даже при этом и чудовищными преступлениями, в которых благодаря мастерству и опыту ему почти всегда удавалось разобраться. Он преуспел в детективной работе, ставшей в итоге его призванием. Получив перевод в Специальную службу, Томас испытывал серьезные трудности, сознавая, что происходит, и не имея власти ничему помешать.
– Вы ошиблись, – вяло бросил он. – Я больше не занимаюсь убийствами. Ступайте и скажите вашему начальству, что я ничем не могу помочь. Доложите суперинтенданту Уэтрону на Боу‑стрит.
Сержант даже не шевельнулся.
– Извините, сэр, я не успел толком доложиться. Это как раз мистер Наррэуэй хочет, чтобы вы взялись за это расследование. На Боу‑стрит тоже не обрадовались, но им пришлось‑таки открыть дело. И поскольку убийство произошло на Саутгемптон‑роу, его поручили мистеру Телману. Он вроде как дельный полицейский. Но я думаю, вам это известно, учитывая, что вы долго работали с ним. Прошу прощения, сэр, но хорошо бы, если б вы отправились туда без промедления, ввиду того что тело обнаружили около семи утра, а сейчас уже скоро половина десятого. Нам только что сообщили, и мистер Нар‑рэуэй сразу же отправил меня за вами.
– Почему? Бессмыслица какая‑то! У меня уже есть задание.
– Он сказал, сэр, что это убийство с ним как раз и связано. – Гренвилл оглянулся через плечо. – Меня дожидается кэб. Если вы просто запрете дверь, сэр, то мы сразу и поедем.
Манера разговора и поведения этого полицейского не соответствовала тому, как сержант должен был бы обращаться к старшему офицеру, но он явно выполнял приказ начальства и не мог его ослушаться. Его устами говорил сам Наррэуэй.
С легкой досадой, не желая вмешиваться в первое порученное Телману самостоятельное дело, Питт все же принял предложение и последовал за Гренвиллом к двуколке. Выехав с Кеппел‑стрит, они свернули к Рассел‑сквер и потом еще ярдов двести проехали по Саутгемптон‑роу до нужного дома.
– Кто жертва? – спросил Томас, как только они тронулись в путь.
– Мод Ламонт, сэр, – ответил Гренвилл. – Она вроде как числила себя спиритическим медиумом. Одна из особ, якобы способных общаться с покойниками. – Тон и лишенное каких‑либо эмоций лицо сержанта выразительно показали, каково его мнение о подобных делах и даже то, что он считал неуместным описывать их словами.
– И почему же мистер Наррэуэй подумал, что это как‑то связано с моим заданием? – поинтересовался Питт.
Его спутник невозмутимо смотрел вперед.
– Не могу знать, сэр. Мистер Наррэуэй никому не говорит того, что людям не положено знать.
– Правильно, сержант Гренвилл. Но что вы можете сказать мне, кроме того, что я уже опоздал и собираюсь поставить в неловкое положение моего бывшего подчиненного, забрав его первое дело, о котором я сам не имею ни малейшего представления?
– И я тоже ничего не знаю, сэр, – ответил Гренвилл, искоса бросив взгляд на Питта и вновь уставившись вперед. – За исключением того, что мисс Ламонт занималась спиритизмом, как я и сказал, и горничная обнаружила ее сегодня утром мертвой – вроде бы задохнувшейся. Да, еще медик говорил, что это нельзя считать несчастным случаем; поэтому, похоже, ее убил один из клиентов с вечернего сеанса. Полагаю, вам придется выяснить, который из них это сделал и, возможно, почему.
– И у вас нет никаких идей, как это может быть связано с моим текущим заданием?
– Я даже не знаю, какое у вас задание, сэр.
Томас предпочел промолчать, а вскоре двуколка остановилась – сразу за Космо‑плейс. Спустившись на тротуар, Питт последовал за Гренвиллом, который привел его к входной двери очень красивого особнячка, явно говорившего о зажиточности владельца. Несколько ступеней вели к парадной двери из резного дуба, и по обе стороны от крыльца вдоль фасада тянулись дорожки, посыпанные чистым белым гравием.
Констебль, вышедший на их звонок, уже собирался опять закрыть дверь перед носом сержанта, когда увидел за его спиной Томаса.
– Вы вернулись на Боу‑стрит, сэр? – с удивлением, похожим на радость, спросил он.
Гренвилл вмешался, не дав своему спутнику ответить:
– Пока нет, но это расследование поручено мистеру Питту. Приказ из Министерства внутренних дел, – заявил он тоном, не допускавшим никаких дальнейших обсуждений. – Где инспектор Телман?
Констебль выглядел озадаченным и заинтересованным, однако он умел понимать молчаливые намеки.
– В салоне, сэр, осматривает тело. Если угодно, следуйте за мной…
И, не дожидаясь ответа, полицейский отступил в сторону, пропуская своих коллег в исключительно уютную прихожую, декорированную в псевдокитайском стиле лакированными приставными столиками и бамбуковыми ширмами с шелковыми панелями, где также находилась и дверь, ведущая в сам салон. Там тоже царил восточный стиль; у стены пламенел лакированный красный шкаф и виднелся темный деревянный столик с абстрактной резьбой в виде затейливо переплетенных линий и четырехугольников. Центр комнаты занимал более крупный овальный стол, и вокруг него стояли семь стульев. Французские окна, прикрытые вычурными шторами, выходили в обнесенный стеной сад, где в изобилии цвели кусты. За угол заворачивала дорожка, вероятно, ведущая к фасаду этого особняка, либо к боковой калитке или к какому‑то выходу на Космо‑плейс.
Внимание Питта неизбежно привлекла неподвижная фигура женщины, которая полулежала в одном из двух мягких кресел, стоявших с каждой стороны от камина. Она выглядела лет на тридцать семь или тридцать восемь, была высокой и обладала прекрасной изящной фигурой. При жизни ее лицо с правильными чертами, обрамленное густыми темными волосами, вероятно, назвали бы красивым. Но в данный момент красоту исказила уродливая маска удушья. Застыл взгляд распахнутых глаз, кожа пошла пятнами, а изо рта на подбородок выплеснулась странная белая субстанция.
Сэмюэль Телман, как обычно мрачный, с зачесанными назад волосами, топтался посреди комнаты. Слева от него стоял более солидный коренастый мужчина с волевым умным лицом. Заметив возле его ног кожаный баул, Томас счел его судмедэкспертом.
– Простите, сэр. – Гренвилл извлек свою визитку и вручил ее Телману. – Это дело забирает Специальная служба. Вести его будет мистер Питт. Но для сохранения относительной секретности вам, сэр, вроде как лучше работать вместе с ним, – заключил сержант приказным тоном, не допускающим возражений.
Сэмюэль пристально уставился на бывшего начальника. Застигнутый врасплох, он усиленно старался скрыть свои чувства, но его огорчение с очевидностью выдали напряженность позы, прижатые к бокам руки и нерешительное молчание, вполне позволившее ему совладать с собой, чтобы обдумать ответ. Несмотря на то что враждебность во взгляде отсутствовала – по крайней мере, так показалось Питту, – в глазах его невольно отразились досада и разочарование. Телман так ревностно трудился ради повышения, несколько лет работал на побегушках под началом Томаса, и вот, едва он приступил к расследованию первого самостоятельного убийства, возвращается его бывший шеф и без всяких разъяснений опять собирается им командовать.
– Сержант, если вам нечего больше сообщить, – повернулся Питт к Гренвиллу, – то вы можете покинуть нас, чтобы мы занялись непосредственно расследованием. Инспектору Телману можно сообщить все, что нам известно на данный момент. За исключением того, почему Наррэуэй заключил, что это как‑то связано с мистером Войси.
Томас не мог представить ничего менее вероятного, чем интерес Чарльза Войси к спиритическим сеансам. Да и его сестра, миссис Кавендиш, тоже вряд ли могла быть настолько легкомысленной, чтобы в столь уязвимое время посещать подобные сборища. А если могла, то поможет им или помешает то, что она скомпрометировала себя посещением здешнего сеанса?
Питт похолодел, подумав о том, каких действий ожидал от него Наррэуэй к их взаимной пользе. Мысль о соучастии в преступлении, использовании его в качестве своеобразного шантажа казалась отвратительной.
Познакомившись с медэкспертом, мистером Сноу, Томас повернулся к Телману:
– Что вам удалось выяснить на данный момент? – со всей возможной вежливой неопределенностью поинтересовался он.
Нельзя, чтобы собственная досада отразилась на его нынешнем положении. Сэмюэль ни в чем не виноват, и если в нем зародится упрямое непонимание, то им будет трудно в итоге достичь успеха.
– Сегодня утром ее обнаружила служанка, Лина Форрест. Из всех слуг только она и живет в доме, – сообщил Телман, окинув салон недоуменным взглядом, выражавшим, что, по его мнению, в таком богатом доме явно могли бы жить еще и лакеи, и кухарки. – Приготовив своей хозяйке утренний чай, она поднялась в ее комнату, – продолжил он. – Обнаружив, что постель нетронута и в спальне никого нет, встревожилась. Потом спустилась сюда, в салон, где видела хозяйку последний раз…
– Когда это было? – прервал его Питт.
– Перед началом вчерашних вечерних… делишек.
Инспектор побрезговал произнести слово «сеанс», и его слегка скривившиеся губы ясно выразили отношение ко всей этой спиритической глупости. В остальном он постарался убрать любые эмоции со своего аскетичного с впалыми щеками лица.
– Она не видела ее по окончании? – с удивлением уточнил Томас.
– Говорит, не видела. Я специально заострил на этом вопрос. Спросил, не просила ли хозяйка помочь ей раздеться, принять ванну или приготовить чаю перед сном. Но мисс Форрест все отрицала. – Голос полицейского не допускал сомнений. – Похоже, мисс Ламонт любила засиживаться допоздна с некоторыми… клиентами… и они предпочитали тайное общение без всяких слуг, чтобы никто случайно не ворвался в салон или не помешал им в процессе… – Он умолк и скривил губы.
– То есть в итоге служанка спустилась сюда и обнаружила ее? – Питт склонил голову в сторону расположенной в кресле фигуры.
– Верно. Примерно минут в десять восьмого, – добавил Телман.
– Не рановато ли для леди? – удивленно заметил его бывший начальник. – Особенно если она начинает работать только вечером и зачастую засиживается с клиентами допоздна.
– Об этом я тоже спросил, – сверкнув глазами, сообщил Сэмюэль. – Служанка сказала, что мисс Ламонт обычно вставала рано, а днем отдыхала.
Выражение его лица показало, что бессмысленно пытаться понять какие‑то привычки особы, претендовавшей на способность общаться с духами.
– Служанка трогала что‑нибудь в салоне?
– Говорит, не трогала, и я не нашел тут никаких подозрительных следов. По ее словам, мисс Форрест сразу поняла, что мисс Ламонт мертва. Она не дышала, лицо приобрело синеватый оттенок, а когда служанка коснулась пальцем ее шеи, то почувствовала, что она совсем холодная.
Томас заинтересованно повернулся к медику.
– Смерть наступила вчера вечером, – скривив губы, сообщил Сноу, глядя на Питта проницательным вопросительным взглядом.
Сам же Томас взглянул на тело и, подойдя ближе, пристально осмотрел лицо женщины и странную липкую массу, стекшую у нее изо рта на подбородок. Сначала он подумал, что некая проглоченная отрава вызвала рвоту, но при ближайшем рассмотрении обнаружил, что эта масса больше похожа на очень тонкую материю.
Выпрямившись, Томас обернулся к медику:
– Яд? – спросил он, уже мысленно представляя множество вариантов. – Отчего наступила смерть? Вы можете сказать? Судя по лицу, она задохнулась или была задушена.
– Асфиксия, – авторитетно заявил Сноу, чуть склонив голову. – А насчет того, из‑за чего она задохнулась, – точно не скажу до исследований в лаборатории, но полагаю, использовался яичный белок…
– Что? – На лице Питта отразилось недоверие. – Как же она могла задохнуться из‑за яичного белка? И что, собственно, по‑вашему…
– Им пропитали какую‑то ткань вроде муслина или марли. – Эксперт криво усмехнулся с видом человека, оказавшегося на грани более глубокого понимания человеческой натуры и опасавшегося того, что может ему открыться. – Она подавилась тканью. Вдохнула ее в себя. Но не случайно.
Пройдя мимо Питта, он раздвинул кружевную отделку на лифе платья покойной женщины. Кружева в его руке показали очевидное место разрыва, произошедшего до того, как появилась необходимость осматривать убитую, и вновь, ради приличия, прикрыл ими грудь. На теле, между возвышенностями груди, начал проявляться большой синяк, как раз успевший потемнеть перед тем, как смерть прекратила ток крови.
Взгляды Питта и Сноу скрестились.
– Ее силой заставили проглотить что‑то? – уточнил Томас.
Медик кивнул.
– Я сказал бы, силой колена, – заметил он. – Кто‑то засовывал материю в горло, зажав ей нос. Можно заметить легкую царапину от ногтя на щеке. Ее удерживали в кресле с основательным нажимом до тех пор, пока она не задохнулась, поскольку ей перекрыли доступ воздуха.
– Вы уверены? – Питт пытался выбросить из головы картину задыхающейся женщины и осознание того, как она мучилась, борясь с рвотными позывами.
– Ну да, насколько мы вообще можем быть пока в чем‑то уверены, – проворчал Сноу. – Возможно, конечно, проводя вскрытие, я обнаружу нечто новое. Но умерла она от асфиксии. Об этом свидетельствуют выражение ее лица и эти точечные кровоизлияния в глазах.
Томас порадовался, что эксперт не стал настаивать на его личном осмотре упомянутых свидетельств. Ему приходилось раньше сталкиваться с такими убийствами, и он с удовольствием поверил медику на слово. Подняв руку жертвы, Питт слегка повернул ее и взглянул на запястье. Как и ожидалось, там обнаружились легкие синяки. Кто‑то удерживал женщину – возможно, недолго, но насильно.
– Понятно, – тихо произнес Томас. – Я готов допустить, что тут использовались, как вы и сказали, яичные белки, но лучше вам поскорее убедиться в этом. Непонятно только, почему кто‑то избрал такой странный и необычный способ убийства?
– Разобраться в этом – уже ваша задача, – сухо бросил Сноу. – Я смогу сообщить, что случилось с ней, но почему и кто… сие мне неизвестно.
Питт повернулся к Телману:
– Вы сказали, что ее обнаружила служанка?
– Да.
– Может, она рассказала вам что‑то еще?
– Немного, лишь то, что она не видела и не слышала ничего после того, как оставила мисс Ламонт в ожидании клиентов. Но, по ее словам, хозяйку это не беспокоило. Одна из причин популярности мисс Ламонт у клиентов заключалась в обеспечении тайны посещений… как для них, так и для себя… Что бы это могло значить, по‑вашему? – Сэмюэль озабоченно нахмурился, пытливо глянув на Томаса. – Чем они тут занимались?
Он упорно отказывался называть Питта сэром с тех самых трудных времен, когда тот сам – еще недавно – получил повышение. Телмана возмущало, что его шефа, сына какого‑то там лесника, совершенно неуместно вдруг назначили командовать участком. Такую должность, по его мнению, следовало занимать джентльменам, отставным военным или морским офицерам вроде Корнуоллиса.
– Как бы вы назвали то, чем она тут занималась, – искусством, розыгрышами или шарлатанством? – спросил он Томаса.
– Вероятно, всем сразу, – ответил тот и продолжил рассуждать вслух: – На мой взгляд, это вполне приятное и безвредное развлечение, если так к нему и относиться. Но как тут узнаешь… Может, кто‑то воспринимал сеансы излишне серьезно, независимо от ее намерений…
– Вот уж точно, не узнаешь! – хмыкнув, воскликнул инспектор. – Мне лично нравится смотреть, как ловко всякие фокусники играют с колодой карт или достают кроликов из шляпы. Вот такое искусство без всяких двусмысленностей воспринимается как развлечение.
– Вы узнали, какие клиенты заходили к ней вчера? Прибыли они по одному или все вместе?
– Служанка этого не знает, – ответил Телман, – или, по крайней мере, так говорит, и у меня нет причин не верить ей.
– Где она сейчас? Как вы думаете, она еще в состоянии отвечать на вопросы?
– О да, – уверенно заявил инспектор. – Немного потрясена, конечно, но выглядит просто как взволнованная женщина. Не думаю, что она осознает пока, чем это может обернуться для нее. Однако после проведения в доме тщательного обыска нам, видимо, лучше запереть эту комнату; и, может, стоит предложить ей пока пожить здесь? Во всяком случае, пока она не подыщет себе новой работы.
– Да, стоит, – согласился Питт. – Лучше пусть поживет. И мы будем знать, где ее искать, если возникнут новые вопросы. Я собираюсь поговорить с ней на кухне. Вряд ли ей захочется заходить сюда.
Направившись к выходу, Томас еще раз глянул на труп. Телман за ним не последовал. Ему самому теперь предстоит раздавать поручения подчиненным, посылать их искать нужные улики и опрашивать людей в ближайшей округе, хотя разумно предположить, что преступление совершили после наступления темноты и шансы на то, что кто‑то заметил нечто полезное, незначительны.
Питт прошел по коридору в заднюю часть дома, мимо еще нескольких дверей. Одна из них, в конце, была открыта, и проникавший через нее солнечный свет украсил затейливым узором дочиста выскобленный дощатый пол. Полицейский остановился на пороге. Перед ним предстала хорошо убранная кухня, чистая и теплая. На темной кухонной плите тихо закипал чайник. Высокая женщина, излишне худощавая, с закатанными выше локтей рукавами, стояла возле раковины, погрузив руки в мыльную воду. Она не шевелилась, словно забыла, что ей надо делать.
– Мисс Форрест? – спросил Томас.
Служанка медленно обернулась. Выглядела эта женщина без малого лет на пятьдесят. Поседевшие на висках каштановые волосы она убрала со лба, скрепив их заколкой. Лицо ее оказалось незаурядным: красивый разрез глаз и благородные очертания скул дополнялись прямым, но не слишком впечатляющим носом и большим, изящно очерченным ртом. Хотя красавицей Лину Форрест никто не назвал бы – более того, в каком‑то смысле она выглядела почти уродливой.
– Да. А вы очередной полицейский? – Женщина говорила с еле заметной шепелявостью, но вряд ли из‑за какого‑то речевого дефекта.
Она медленно вытащила руки из воды.
– Да, верно, – ответил Питт. – Вы, должно быть, сильно расстроены, но, к сожалению, мне все‑таки придется озадачить вас новыми вопросами, поскольку мы не можем позволить себе затягивать следствие, дожидаясь лучших времен. – Говоря это, он испытывал какую‑то глупую неловкость.
Казалось, Лина отлично владела собой, однако Томас знал, что потрясение по‑разному действует на людей. Иногда внутренний шок настолько велик, что вообще не отражается на внешности.
– Моя фамилия Питт, – представился полицейский. – Присаживайтесь, пожалуйста, сюда, мисс Форрест.
С вялой покорностью служанка направилась к нему и, проходя мимо вешалки перед плитой, машинально вытерла руки полотенцем. Она села за стол на один из стульев с прямой жесткой спинкой, а Томас устроился напротив на таком же стуле.
– Что вы хотите узнать? – спросила Лина, пристально глядя в какую‑то неведомую Питту точку над его правым плечом.
В кухне царил порядок: на буфете высилась горка чистой и скромной фарфоровой посуды, а на одном из широких подоконников лежала стопка выглаженного белья, несомненно, ждущего скорой уборки в шкаф. Под потолком досыхала очередная порция выстиранного белья, а возле задней двери на полу стояла полная корзина угля. Поблескивала чистотой и темная плита. Солнечные лучи мягко играли на боках медных кастрюль, подвешенных на поперечной балке, а в воздухе витал слабый аромат специй. Недоставало лишь запаха или вида какой‑то готовящейся еды. Казалось, сам дом потерял смысл жизни.
– Мисс Ламонт принимала своих клиентов по отдельности или вместе? – спросил Питт.
– Приходили они по одному, – сообщила служанка, – и уходили так же, насколько мне известно. Но в сеансах участвовали все вместе. – Говорила она монотонным, лишенным выражения голосом, похоже, стараясь скрывать свои чувства. Может, ей хотелось защитить себя или хозяйку от насмешек?
– Вы видели их? – задал Томас следующий вопрос.
– Нет.
– Значит, они могли приходить и вместе?
– Ожидая некоторых клиентов, мисс Ламонт велела мне поднимать засов той боковой двери, что выходит к Космо‑плейс, – сказала мисс Форрест. – И прошлым вечером я тоже так сделала, ради таких скромных особ.
– Вы имеете в виду – эти особы не хотели, чтобы кто‑то узнал их?
– Да.
– И много бывало здесь таких скромников?
– Человека четыре, может, пять.
– Значит, вы обеспечивали им проход в дом со стороны Космо‑плейс, минуя входную дверь на Саутгемптон‑роу? Расскажите мне поподробнее, как именно они попадали сюда.
Лина прямо посмотрела на полицейского, наконец встретившись с ним взглядом.
– Там в садовой стене есть дверь, выходящая на площадь. На ней есть засов – большой, железный, – и они закрывают дверь на ключ, когда уходят.
– А что представляет собой упомянутый вами засов?
– Ну, когда он опущен, то закрывает садовую дверь изнутри. То есть даже с ключом ее уж не откроешь. Обычно мы держали тот вход на засове, отпирая его только перед приходом особого клиента.
– И ваша хозяйка принимала таких клиентов по одиночке?
– Нет, обычно их бывало двое или трое.
– И часто они появлялись?
– Вряд ли часто. В основном она сама ездила к клиентам на дом или на приемы. Эти избранные гости появлялись здесь примерно раз в неделю.
Питт попытался представить себе эту картину: горстка боязливых, взволнованных людей сидит вокруг стола в полумраке; каждый исполнен своих страхов и желаний, надеясь услышать какие‑то голоса любимых, искаженные смертью, говорящие… о чем? О том, что они по‑прежнему существуют? Что они были счастливы? Или они открывают какие‑то унесенные в могилу тайны о былой любви или денежных кладах? Или, возможно, говорят о прощении за какие‑то уже забытые грехи?..
– Значит, такие особые гости приходили сюда и вчера вечером? – опять спросил Питт.
– Должно быть, приходили, – ответила его собеседница, вяло поведя плечами.
– Но вы никого из них не видели?
– Нет. Я уж говорила, что они очень осторожничали. Да и все равно у меня вчера был выходной. И я ушла из дома сразу после их прихода.
– И где же вы отдыхали? – спросил Томас.
– Навестила подругу, миссис Лайтфут; она живет в Ньюингтоне, за рекой.
– Ее адрес?
– Лайон‑стрит, четвертый дом; эта улица начинается сразу за Нью‑Кент‑роуд.
– Спасибо.
Питт вернулся к проблеме загадочных посетителей, решив, что надо будет проверить историю про визит к подруге – просто для порядка.
– Но ведь посетители мисс Ламонт, безусловно, видели друг друга, то есть, по крайней мере, были знакомы, – сказал Томас.
– Вот уж не знаю, – ответила Лина. – В салоне вечно стоял полумрак. Я знаю, как они сидели, потому что сама устраивала надлежащую обстановку. Расставляла правильно стулья. Они ведь сидели вокруг стола. При желании очень легко не привлекать внимания, оставаясь в тени. Я всегда ставила подсвечники только в одном месте. В них были красные свечи, а газовое освещение я выключала. В таком полумраке можно узнать только кого‑то уже знакомого.
– А один из этих тайных клиентов приходил на вчерашний сеанс?
– Я так думаю, иначе она не стала бы просить меня открыть садовую дверь.
– А была ли дверь опять закрыта сегодня утром?
В глазах мисс Форрест плеснулась тревога – она сразу поняла значение вопроса.
– Даже не знаю. Я еще не смотрела.
– Тогда я сам взгляну. Но сначала расскажите мне еще немного о вчерашнем вечере. Все, что сможете вспомнить. К примеру, возможно, мисс Ламонт нервничала или что‑то ее тревожило? Известно ли вам о том, получала ли она раньше какие‑то угрозы или ей приходилось разбираться с клиентами, оставшимися разочарованными или несчастными после сеансов?
– Если ей и угрожали, то мне она не докладывалась, – ответила Лина. – Хотя она вообще никогда не говорила о своих сложностях.
На мгновение выражение ее лица изменилось. На нем отразилось какое‑то глубокое и очень сильное волнение, которое она упорно старалась скрыть. Возможно, его порождал страх, или ощущение утраты, или ужас перед внезапной и жестокой смертью. Или что‑то еще, о чем Питт мог и не догадываться. Верила ли она в существование духов, возможно, мстительных и возмущенных?
– Она самостоятельно разбиралась со своими делами, – добавила служанка, и лицо ее вновь обрело непроницаемое выражение, отражавшее лишь озабоченность его вопросами.
Томас задумался, много ли она знала о ремесле своей хозяйки. Ведь служанка постоянно жила в доме. Неужели она совсем не любопытна?
– А после сеансов вам приходилось убирать салон? – спросил он.
Рука мисс Форрест слегка дернулась: со стороны это выглядело лишь как легкое мышечное напряжение.
– Да. Приходящая уборщица занималась остальными комнатами, но салон мисс Ламонт поручала только мне.
– А вас не пугали мысли о проявлении сверхъестественных сил?
Вспышка презрения загорелась в глазах Лины и погасла. Когда она ответила, ее голос уже звучал с мягкой покорностью:
– Если вы их не трогаете, то и они оставят вас в покое.
– А вы верите в то, что мисс Ламонт обладала неким… сверхъестественным даром?
Женщина нерешительно помедлила, поддерживая непроницаемую маску. Не боролась ли в ней привычка преданности с правдой?
– Что вы можете рассказать мне о ее способностях? – продолжил расспросы Томас.
Внезапно это показалось ему крайне важным. Способ смерти Мод Ламонт, безусловно, был связан с ее искусством, подлинным или шарлатанским. Убийство никак не могло объясняться появлением случайного взломщика, нагрянувшего после сеанса, или даже алчностью каких‑то родственников. Это преступление точно было вызвано какими‑то личными чувствами, яростью или завистью, желанием уничтожить не только саму женщину, но и какие‑то последствия ее профессиональной деятельности.
– Я… я толком не знаю, – неловко произнесла Лина. – Я ведь просто служила у нее. Она не откровенничала со мной. Но я знаю, что некоторые люди действительно верили ей. И не только те, кто бывал здесь. Как‑то раз она сказала, что в своем салоне ей все удается на редкость хорошо. А в домах других людей сеансы похожи, скорее, на простое развлечение.
– Значит, вчера сюда приходили люди, стремившиеся к реальному общению с духами умерших, по каким‑то своим насущным личным причинам.
Питт не спрашивал, а скорее делал логический вывод.
– Не знаю, но именно так она и говорила, – ответила служанка.
Она сидела в напряженной позе с прямой спиной, не опираясь на спинку стула, и ее сцепленные руки лежали на столе перед ней.
– Вы сами когда‑нибудь участвовали в сеансе, мисс Форрест?
– Нет! – Ответ прозвучал мгновенно и страстно. Женщина откровенно возмутилась и опустила глаза, избегая взгляда Питта. – Пусть мертвые покоятся в мире, – добавила она упавшим почти до шепота голосом.
С неожиданной, ошеломляющей жалостью полицейский увидел, как слезы заполнили ее глаза и покатились по щекам. Мисс Форрест не пыталась извиняться, ее лицо точно оцепенело. Казалось, она просто забыла о присутствии полицейского, замкнувшись в своем собственном горе. Могла ли Лина горевать о ком‑то из близких, а не о Мод Ламонт, застывшей в нелепой позе в одной из комнат особняка? Томасу захотелось, чтобы кто‑то утешил служанку, посочувствовал и помог пережить ее тайное горе.
– У вас есть родственники, мисс Форрест? – спросил он. – Мы могли бы известить кого‑то из ваших близких.
Женщина удрученно покачала головой.
– У меня была только сестра, но Нелл давно умерла, упокой Господь ее душу, – ответила она, сделав глубокий вдох, и расправила плечи.
Пусть и с большим трудом, но ей удалось совладать со своими чувствами.
– Вам нужно узнать, кто именно приходил сюда вчера вечером, – заговорила она. – Я не могу сказать вам этого, потому что не знаю, но у нее хранилась книжица со всеми этими делами. Она в ее письменном столе, и я не сомневаюсь, что он заперт, но ключ она носила на груди, на шейной цепочке. Или если вы не обнаружите его, то ящик можно вскрыть ножом, хотя это будет досадно. Жаль портить такую красивую вещь, конторка‑то вся с инкрустациями и прочими украшениями…
– Я попробую найти этот ключ. – Питт поднялся со стула. – Позже мне опять придется поговорить с вами, мисс Форрест, но пока подскажите мне, где находится тот стол, а потом, пожалуй, приготовьте чай, хотя бы для себя. Может, инспектор Телман и его подручные тоже будут вам благодарны.
– Хорошо, сэр, – кивнула Лина и, чуть помедлив, добавила: – Спасибо вам.
– Стол? – напомнил ей собеседник.
– Ах да… Он стоит в малом кабинете, вторая дверь налево. – И служанка махнула рукой в нужном направлении.
Поблагодарив ее, Питт вернулся в салон, где находилось тело, и увидел, что Сэмюэль стоит у окна, пристально глядя в сад. Судебный медик уже ушел, зато в садике среди обильно цветущих камелий и длинноногих желтых роз маячил мрачный констебль.
– Была ли садовая дверь закрыта изнутри на засов? – спросил Томас.
Телман кивнул.
– А через французские окна на улицу не выйти… Значит, похоже, виновный уже находился в доме, – заметил он с несчастным видом. – Должно быть, убийца ушел через переднюю дверь – она захлопывается сама собой. Хотя служанка сказала, что ничего не знает, когда я расспрашивал ее.
– Об этом, может, служанка и не знала, зато мне она сообщила, что Мод Ламонт вела деловой дневник. Он закрыт в столе малого кабинета, а ключ от него висел на цепочке у нее на шее. – Питт кивнул в сторону покойной. – Он может многое объяснить нам – даже то, зачем сюда ходили клиенты. Вероятно, уж она‑то знала их секреты!
Сэмюэль нахмурился.
– Вот ведь бедолаги! – возмущенно произнес он. – Какая нужда побуждает человека обращаться к такой особе в поисках ответов, которые следует искать в церкви или в своей собственной душе, полагаясь на здравый смысл? Нет, правда… о чем они могли ее спрашивать? – На его хмуром лице появилось выражение отвращения. – «Где вы сейчас пребываете? Как там обстановочка?..» Она могла наплести им все, что взбредет в голову… и как, интересно, они узнавали, правду ли она говорила? Нет, грешно наживаться, играя на горе людей, – он отвернулся. – А с их стороны глупо было давать деньги.
Питт не сразу уловил смысл этого нового поворота мысли, но он понял, что его коллега пытается побороть душевный гнев и смущение, избегая вывода о том, что он невольно жалел одного из этих клиентов, которому пришлось убить женщину, безмолвно сидевшую в ближайшем кресле, надавив ей коленом на грудь, поскольку она боролась за жизнь, задыхаясь от странной субстанции, закупорившей ей горло. Телман пытался представить неистовую ярость, подвигнувшую убийцу на преступление. Оставаясь покамест холостяком, он не привык к личному общению с женщинами, кроме тех, кого официально допрашивал в полицейском участке. И сейчас инспектор ждал, чтобы его бывший шеф сам разобрался с трупом, достав ключ оттуда, куда он, Сэмюэль, не мог даже посмотреть без неловкости и смущения.
Томас подошел к креслу, спокойно поднял кружева и ощупал тело под вырезом лифа. Его пальцы наткнулись на тонкую золотую цепочку, и он медленно вытаскивал ее, пока в его руках не оказался нужный ключ. Приподняв цепочку, с осторожностью снял ее через голову убитой, стараясь не нарушить прическу, хотя потом вдруг мысленно усмехнулся, осознав всю нелепость собственной осторожности. Какое значение сейчас могла иметь прическа? Но всего несколько часов тому назад эта женщина была еще жива, и ее лицо озарялось умом и чувствами. Тогда было бы немыслимо грубо коснуться ее шеи и груди.
Питт передвинул мешавшую ему руку, не обращая внимания на ее безжизненность и действуя чисто машинально. Именно тогда он заметил длинный волос, зацепившийся за пуговку на рукаве платья, резко отличавшийся по цвету от волос жертвы преступления. Убитая была брюнеткой, а зацепившийся за пуговицу светлый волос блеснул на мгновение, словно стеклянная нить. Когда полицейский положил руку на место, волосок вновь исчез из виду.
– Какое это может иметь отношение к Специальной службе? – вдруг спросил Телман, выдав голосом сильное раздражение.
– Понятия не имею, – ответил Питт, выпрямляясь и укладывая голову покойной в исходное положение.
Сэмюэль пристально взглянул на него.
– А вы собираетесь позволить мне ознакомиться с ее записями? – спросил он с вызовом.
Об этом Томас еще не подумал и поэтому теперь ответил не раздумывая, уязвленный абсурдностью ситуации:
– Разумеется, позволю! Мне необходимо выяснить гораздо больше, чем просто фамилии людей, приходивших сюда вчера вечером. Может понадобиться почти чудо, чтобы узнать все, что возможно, об этой женщине. Поговорить с остальными ее клиентами. Выяснить любые известные им мелочи. Какого рода люди приходили к ней и почему? Много ли они платили за услуги? Достаточно ли, чтобы она могла обзавестись таким домом? – Полицейский машинально окинул взглядом комнату, отметив затейливые обои и изысканную резьбу дорогой восточной мебели. У него хватило знаний, чтобы оценить стоимость, по крайней мере, некоторых предметов.
Телман нахмурился.
– Как же она узнавала, что надо говорить тем людям? – озадаченно произнес он, закусив губу. – В чем тут хитрость? Может, сначала она наводила нужные справки, а потом полагалась на свою догадливость?
– Вероятно. Она могла также очень тщательно относиться к выбору клиентов, предпочитая только тех, о ком уже что‑то знала или не сомневалась, что вполне сможет выяснить нужные подробности.
– Я успел обыскать всю эту комнату. – Инспектор скользнул пристальным взглядом по обоям, газовым рожкам и высокому лакированному шкафу. – Не могу понять, как она обделывала свои трюки. Чем она их развлекала? Появлением призраков? Загробными голосами? Или устраивала трюки с летающими в саванах привидениями? Чем? Что заставляло их поверить, что они общаются с духами, а не просто слышат чей‑то голос, говорящий то, что им хочется услышать?
– Не знаю, – честно ответил Питт. – Поспрашивайте других ее клиентов, Телман, но действуйте мягко. Не высмеивайте их доверчивость, какой бы смехотворной она вам ни казалась. Большинству из нас нужно больше того, что могут дать сиюминутные потребности или волнения жизни; у всех нас есть мечты, не осуществимые в земном мире, и мы стремимся приобщиться к вечности.
Ничего больше не добавив и не дожидаясь никакого ответа, Томас вышел, предоставив Сэмюэлю возможность продолжать обыск комнаты в надежде найти что‑то неведомое ему самому.
Подойдя к малому кабинету, Питт открыл дверь. Высокий стол сразу бросился ему в глаза – это была, как и говорила Лина Форрест, красивая вещица из золотисто‑коричневого дерева с изысканной инкрустацией, включавшей узор из фигурных пластинок более темных и светлых оттенков.
Он вставил ключ в замочную скважину и повернул его. Крышка конторки легко открылась, и Томас увидел рабочую поверхность стола, обтянутую кожей. Внутри оказалось два ящичка и с полдюжины разнообразных отделений. В одном из ящиков обнаружился ежедневник, и полицейский быстро нашел в нем страничку с записями на вчерашний день. Он увидел два имени и похолодел, мгновенно осознав, что оба они ему знакомы: Роланд Кингсли и Роуз Серраколд. Теперь Питт наконец понял, почему Наррэуэй привлек его к расследованию.
Продолжая спокойно стоять у стола, он попытался переварить эту информацию и все, что из нее следовало. Не мог ли длинный светлый волос, зацепившийся за манжет убитой женщины, принадлежать Роуз Серраколд? Неизвестно, ведь он никогда не видел ее, но это легко выяснить. Стоит ли ему показать тот волос Телману – или подождать, посмотрев, не найдет ли он его сам или не обнаружит ли его судмедэксперт, снимая одежду с покойной перед вскрытием?
Лишь через несколько мгновений Томас осознал, что на третьей строчке нет имени, зато изображен странный рисунок, похожий на письменность древних египтян: в таких овальных рамочках они писали разные слова и в том числе имена. Кто‑то рассказывал ему, что рамочки, окружавшие имена фараонов, назывались картушами. В данном случае на строчке нарисовали овал с дугой внутри, над символом, похожим на строчную букву «f», но написанную как бы в зеркальном отражении. Рисунок выглядел очень простым и лично для Питта не имел никакого смысла.
Почему кто‑то стремился к такой секретности, что даже сама Мод Ламонт предпочла изобразить в ежедневнике его (или ее) имя в виде загадочного рисунка? Общение с духовным медиумом вовсе не запрещалось. В этом не было ничего скандального, и такое общение не могло даже послужить темой для насмешек, за исключением тех случаев, когда к медиуму могли тайно обратиться люди, известные как ярые противники подобных увлечений – тогда, если б эта тайна раскрылась, их могли бы заклеймить как лицемеров. Спиритизмом увлекались многие: одни пытались проводить серьезные научные исследования, другие просто делали это ради удовольствия. В мире хватало одиночества, сомнений и печалей, и поэтому любой мог нуждаться в подтверждении того, что их покойные возлюбленные по‑прежнему существуют где‑то и заботятся о них даже после смерти. Возможно, христианские ценности, по крайней мере в виде нынешних церковных проповедей, любителям спиритизма больше не помогали.
Томас пролистал ежедневник, выискивая другие картуши, но не нашел их. Зато на полудюжине страниц, за прошедшие май и июнь, попадался тот же самый рисунок. Похоже, этот картуш появлялся здесь примерно каждые десять дней, но не строго регулярно.
Вновь просмотрев предыдущие страницы, Питт обнаружил, что Роланд Кингсли успел побывать в спиритическом салоне семь раз, а Роуз Серраколд – на три раза больше. И только три раза все они приходили на сеансы одновременно. Изучив ситуацию с другими именами, полицейский заметил, что многие клиенты ходили на сеансы месяцами, некоторые одну, две или даже три‑четыре недели подряд, но потом больше не упоминались. Удовлетворились ли они результатом или, напротив, разочаровались? Телман мог бы разыскать их и выяснить, чем порадовала их Мод Ламонт и не могла ли эта «радость» стать причиной появления странного вещества, обнаруженного у нее во рту и в горле.
Почему такая утонченная женщина, как Роуз Серраколд, приходила сюда в поисках голосов, призраков… Какие ответы ее интересовали? И существовала ли какая‑то определенная причина тому, что она посещала те же сеансы, что и Роланд Кингсли?
Питт не увидел, а скорее почувствовал, что Сэмюэль стоит на пороге. Он повернулся к нему. На лице его коллеги читался немой вопрос.
Томас передал ему ежедневник и подождал, пока он пару раз пройдется взглядом по странице.
– Что это означает? – спросил Телман, показывая на картуш.
– Понятия не имею, – признался Питт. – Кому‑то так отчаянно хотелось сохранить инкогнито, что Мод Ламонт даже в личном дневнике не написала его имени.
– А может, она и не знала его? – предположил инспектор и вдруг, втянув в себя воздух, выпалил: – Может, потому ее и убили? Когда она выяснила имя клиента…
– …и попыталась шантажировать его? Чем же?
– Тем, что заставило его тайно ходить сюда, – ответил Телман. – Может, он вовсе не был клиентом? Может, он был тайным любовником? Это может стать поводом для убийства. – Он скривил губы: – Может, именно этим заинтересовалась ваша Специальная служба? Ведь он мог быть каким‑то политиком и считал совершенно недопустимым, чтобы во время выборов его уличили в предосудительной любовной истории.
Глаза Сэмюэля возмущенно горели, показывая раздражение тем, что его помимо собственной воли привлекли к этому делу и при этом не сообщили никакой полезной информации.
Питт ждал проявления подобной обиды. Он почувствовал ее удар, однако испытал почти облегчение, что она наконец прорвалась наружу.
– Возможно, но я сомневаюсь в этом, – заявил он прямо. – По крайней мере, мне об этом ничего не известно. Я не имею ни малейшего представления, почему вдруг этим заинтересовалась Специальная служба, но раз уж меня привлекли к делу, то могу сообщить, что пока меня лично интересует только миссис Серраколд. И если окажется, что она убила Мод Ламонт, то я буду разбираться с ней как с любым другим преступником.
Телман немного успокоился, но изо всех сил старался скрыть это от Питта. Он слегка расправил плечи.
– От чего мы пытаемся защитить миссис Серраколд? – Если инспектор намеренно употребил множественное число, включив себя в дело, то никак не показал этого.
– Политические интриги, – коротко бросил Питт. – Ее муж баллотируется в парламент. А его соперник может воспользоваться подкупом или любыми незаконными средствами, чтобы дискредитировать его.
– Вы имеете в виду, использовав выходки его жены? – Теперь Сэмюэль выглядел потрясенным. – Значит, получается что‑то вроде… политической ловушки.
– Возможно, и нет. Я надеюсь, что это не имеет к ней отношения, разве что она случайно попала в эту историю.
Телман не поверил Питту, что и отразилось на его лице. Впрочем, на самом деле Томас и сам не верил в сказанное. Он слишком хорошо ощутил на себе власть Войси, чтобы посчитать случайным любой удар в его пользу.
– А что представляет собой эта миссис Серраколд? – спросил его бывший помощник, с легкой озабоченностью нахмурив лоб.
– Понятия не имею, – признался Томас. – Пока я лишь начал собирать сведения о ее муже и, что еще важнее, о его противнике. Серраколд вполне состоятелен, он второй сын старинного рода. Изучал искусство и историю в Кембридже и много путешествовал. Проявляет большой интерес к реформам и, будучи сторонником Либеральной партии, претендует на место в парламенте от Южного Ламбета.
Лицо Телмана, точно зеркало, отражало все его чувства, хотя он пришел бы в ярость, узнав об этом.
– Привилегированный богач, не работавший ни дня за всю жизнь, вдруг вздумал, что ему хочется попасть в правительство, чтобы учить остальных уму‑разуму. Или, скорее, запрещать нам жить своим умом, – интерпретировал он услышанное на свой лад.
Питт не стал утомлять себя спором. С точки зрения Сэмюэля, эти заключения, вероятно, были близки к правде. В той или иной степени.
Телман медленно сник. Не услышав аргументов, которые он надеялся оспорить, инспектор не испытал никакого удовольствия.
– Какого рода человек придет посмотреть на женщину, которая заявляет, что умеет общаться с духами? – вызывающе спросил он. – Неужели непонятно, что все это чепуха?
– Люди пребывают в поисках, – задумчиво ответил Томас. – Лишаясь своих любимых, уязвимые и обездоленные, они цепляются за прошлое, сознавая горестную невыносимость будущего. Не знаю толком… но слабых и доверчивых людей легко могут использовать дельцы, полагающие, что они наделены некими способностями или умеющие создать убедительные иллюзии… В общем‑то, в сущности, не так неважно, чем именно они их заманивали.
Теперь на лице Сэмюэля застыла маска отвращения, скрывавшая внутреннюю борьбу с сочувствием.
– Это надо запретить! – процедил он сквозь зубы. – Какая‑то смесь проституции и трюков ярмарочных шарлатанов, но те, по крайней мере, не наживаются на чужом горе!
– Мы не можем запретить людям верить в желаемое или необходимое им, – ответил Питт. – Или выяснять ту правду, которая им нравится.
– Правду? – насмешливо произнес Телман. – Почему они не могут просто ходить в церковь по воскресеньям?
Впрочем, на последний вопрос он не надеялся получить ответ. Инспектор знал, что ответа не будет: он и сам не знал, что можно сказать в таком случае. А он предпочитал не задавать вопросы, ответы на которые затрагивали очень личные сферы веры.
– Что ж, нам придется выяснить, кто это сделал! – решительно заявил он. – Полагаю, эта женщина имела право не быть убитой, как и любой из нас, даже если она совала любопытный нос не в свои дела. Я лично предпочел бы, чтобы моих предков не тревожили!
С этими словами он отвернулся от Томаса, но затем продолжил с озабоченным видом задавать вопросы:
– Как же им удается проделывать подобные трюки? Я обыскал всю ту комнату от пола до потолка и ничего не нашел: ни рычагов, ни педалей, ни проводов. Совсем ничего. И служанка тоже клянется, что она ничего такого не устраивала… Но все‑таки, по‑моему, тут дело нечисто! – Телман на некоторое время озадаченно умолк, но потом снова подал голос: – Как же, ради всего святого, внушить людям, что они видят, как вы взлетаете к потолку? Или что ваше тело растягивается и вы становитесь ростом с фонарный столб?
Питт задумчиво пожевал губу.
– Для нас важнее, как можно узнать то, что клиенты хотят услышать, чтобы удовлетворить их интерес.
Телман озадаченно уставился на него, и постепенно лицо его озарилось пониманием.
– Надо собрать сведения о клиентах, – еле слышно произнес он. – Эта служанка рассказывала нам кое‑что утром. Говорила, что ее хозяйка очень привередливо выбирала клиентов. То есть выбирала только тех, о ком могла все разузнать. Это же просто – выбрать кого‑то знакомого, послушать его, поспрашивать, а потом добавить то, что вы слышали. Может, даже можно поручить кому‑нибудь проверить их карманы или сумки… – Инспектор загорелся этой версией, и в глазах его сверкнуло негодование. – А можно еще нанять кого‑то поболтать с их слугами. Или тайно проникнуть в их дома, почитать письма, документы, сунуть нос в шкафы… Поспрашивать в магазинах, выяснить, сколько они тратят и кому задолжали…
Питт вздохнул.
– И когда вы выясните достаточно об одном или двух клиентах, – заключил он, – то, вероятно, осторожно попытаетесь использовать шантаж. Да, Телман, это дело может оказаться на редкость отвратительным, чертовски отвратительным.
Губы Сэмюэля жалостливо дрогнули, но он мгновенно поджал их, чтобы скрыть свои чувства.
– С кем из этих трех клиентов она могла зайти слишком далеко? – задумчиво произнес он. – И в какую сторону? Надеюсь, это не ваша миссис Серраколд… – Инспектор слегка вздернул подбородок, вытянув шею, словно воротник стал ему туговат. – Но если окажется, что это она, я не буду искать других виновных, чтобы порадовать Специальную службу!
– Мне все равно, что будете искать вы, – ответил Питт. – Я буду искать правду.
Телман постепенно успокоился. Он слегка склонил голову и впервые за все время улыбнулся.
Глава четвертая
Айседора Андерхилл сидела за роскошно накрытым обеденным столом и с благоприобретенной утонченностью гоняла по тарелке кусочки изысканного блюда, иногда отправляя один из них в рот. Не то чтобы еда ей не нравилась – это было традиционное меню, и блюда на столе стояли почти те же самые, что подавали в последний раз, когда они ужинали в этом великолепном зеркальном зале со старинными буфетами в стиле рококо времен Людовика XV, ярко освещенными позолоченными люстрами и канделябрами. Более того, насколько помнила миссис Андерхилл, даже гости за столом собрались практически те же самые. Во главе стола, разумеется, восседал ее муж, епископ. Ей показалось, что он выглядел слегка подавленным – бледным, с припухшими глазами, словно плохо спал или страдал от последствий чревоугодия. Однако же она заметила, что он еще практически не притронулся к еде. Может, опять неважно себя чувствовал или, что более вероятно, как обычно, слишком увлекся разговорами.
Беседуя с викарием, Андерхилл превозносил добродетели какой‑то давно усопшей святой, о которой Айседора никогда даже не слышала. Как можно рассуждать об истинной добродетели и даже о святости, о преодолении страха и об оправдании мелочной суеты повседневной жизни, о великодушии прощения обид и порицаний, о радостном добродушии и о любви ко всем живым тварям – и при этом, однако, умудряться преподносить все эти достоинства с поистине утомительным занудством? Ведь жизнь святой исполнена чудес!
– А она вообще когда‑нибудь смеялась? – внезапно поинтересовалась супруга епископа.
За столом все мгновенно притихли. Каждый из пятнадцати сотрапезников обернулся и взглянул на хозяйку так, точно та опрокинула бокал вина или пустила газы.
– Так смеялась? – повторила она.
– Она же святая, – снисходительно произнесла жена викария.
– Можно ли стать святой, не имея чувства юмора? – спросила Айседора.
– Святость является крайне серьезным испытанием, – строго взглянув на нее, попытался объяснить викарий, крупный мужчина с ярко‑розовым лицом. – Господь избрал эту женщину, приобщив ее к святости.
– Нельзя стать избранницей Бога, не возлюбив ближних, – непреклонно заявила миссис Андерхилл, сверкнув глазами. – Но можно ли возлюбить людей, не осознав в полной мере смехотворность их бытия?
Викарий изумленно моргнул:
– Не понимаю, что вы имеете в виду.
Айседора посмотрела на его маленькие карие глаза и прижимисто поджатые губы.
– Не понимаете, – согласилась она, отлично сознавая, как ничтожно в этом смысле его понимание.
Впрочем, миссис Андерхилл и сама была далека от святости, по ее собственной оценке. Она не могла представить, что кто‑то, даже святая, могла бы полюбить этого викария. «Какие чувства на самом деле испытывает к нему его жена? – рассеянно подумала Айседора. – Почему она вышла за него замуж? Может, в молодости он выглядел лучше? А может, это был выгодный брак или даже акт отчаяния?»
Бедняжка…
Миссис Андерхилл перевела взгляд на епископа. Она попыталась вспомнить, почему сама вышла за него замуж и изменились ли они, в сущности, за тридцать лет брака. В молодости ей хотелось детей, но ее желания не сбылись. Когда‑то Реджинальд представлялся ей целомудренным молодым человеком с многообещающим будущим. Он вел себя с ней вежливо и уважительно. Но что же именно она навоображала, что же тронуло ее в его лице, руках или речах настолько, что она согласилась на физическую близость и готова была внимать ему всю оставшуюся жизнь? Какие его мечты ей хотелось разделить с ним?
Если она и знала это когда‑то, то давно успела забыть.
Сейчас за столом беседовали о политике, бесконечно обсуждая достоинства и недостатки разных парламентских кандидатов и рассуждая о том, что самоопределение Ирландии может стать началом распада, который в итоге расколет всю Империю и тем самым помешает стараниям миссионеров озарить светом христианской добродетели весь земной мир.
Окинув взглядом собравшихся за столом, Айседора подумала, много ли женщин прислушиваются к мужским рассуждениям. Все они вырядились в изысканные вечерние туалеты: закрытые платья, рукава с буфами, туго затянутые талии – все по последней моде. Несомненно, хотя бы некоторые из дам, глядя на эту белую льняную скатерть, изысканные блюда, наборы специй и традиционные букеты тепличных цветов, представляли лунный свет, играющий в пенном прибое бурных морей, и большие волны с барашками гребней, взмывающие и с непрерывным шумом разбивающиеся о скалы, или бледные пески выжженных солнцем пустынь, где на горизонте темнеют силуэты всадников в раздуваемых ветром балахонах…
Убрав лишние тарелки, слуги принесли новую перемену блюд, но Айседора даже не взглянула на очередные разносолы.
Как много времени она потратила впустую, мечтая о дальних странах и даже желая жить там?
Епископ отказался от предложенных угощений. Должно быть, он опять страдал от несварения желудка, но оно не помешало ему продолжать разглагольствовать о порочных слабостях, особенно о недостатке религиозной веры у парламентского кандидата Либеральной партии от Южного Ламбета. Похоже, особую неприязнь вызывала у него жена этого несчастного политика, хотя Андерхилл открыто признавал, что пока, насколько ему известно, он еще не знаком с нею лично. Но, по информации из достоверных источников, она восторгалась самыми прискорбными особами из круга крайних социалистов, так называемым Блумсберийским кружком[15], члены которого имеют радикальные и абсурдные понятия о реформах.
– Не примкнул ли к этому кружку и Сидни Уэбб? – поинтересовался викарий, неприязненно поморщившись.
– Наверняка он с ними заодно, может, даже числится в лидерах, – ворчливо внес свою лепту другой слегка сутулый критик. – Именно он, кстати, вдохновил на борьбу тех несчастных женщин!
– Неужели это приводит в восторг кандидата от Южного Ламбета? – недоверчиво произнесла жена викария. – Но это же может привести к беспорядкам, к полному хаосу! Его избрание грозит катастрофой.
– По правде говоря, такие взгляды, по‑моему, высказывала миссис Серраколд, – уточнил епископ. – Но, разумеется, если б ее муж был состоятельным и мудрым человеком, он не позволил бы ей подобных заблуждений.
– Точно. Абсолютно точно, – подхватил викарий, энергично кивнув головой.
Слушая их и глядя на осуждающие чопорные лица, Айседора невольно прониклась симпатией к миссис Серраколд, хотя тоже никогда не встречалась с ней. Если б она имела право голоса, то отдала бы его за мужа этой женщины, который, видимо, баллотировался в парламент от Южного Ламбета. И поступила бы не глупее большинства мужчин. Чаще всего они голосуют, основывая свой выбор лишь на том, что за это голосовали прежде их отцы.
А епископ уже пустился в рассуждения о святости роли женщины как защитницы домашнего очага и хранительницы особой атмосферы покоя и невинности, где мужчины, сражавшиеся в мировых баталиях, могут найти исцеление для своих душ и восстановить духовные силы, готовясь утром вновь вступить в ожесточенную схватку.
– Звучит так, словно наши святые обязанности сводятся к горячей ванне и стакану теплого молока, – заметила Айседора в момент молчаливой паузы, пока викарий собирался с духом для ответа.
Супруг пристально посмотрел на нее.
– Превосходно сказано, дорогая, – согласился он. – Очищение и бодрящие напитки, бальзам для души и тела.
Как он мог ничего не понять? Он же знает ее больше четверти века – и все еще думает, что она одобряет его?! Неужели епископ не заметил сарказма в ее голосе? Или он достаточно хитроумно решил направить его против нее самой, разоружив ее этим поверхностным восприятием сказанного?
Миссис Андерхилл бросила на него взгляд через стол, почти надеясь увидеть в его глазах насмешку. Это было бы, по крайней мере, подтверждением их понимания, разумной связи. Но ничего подобного. Муж безучастно посмотрел на нее и, повернувшись к жене викария, пустился в воспоминания о своей благословенной матушке, которая, насколько помнила Айседора, была действительно весьма забавной, но, безусловно, не такой бесхарактерной особой, как он теперь описывал.
Однако много ли она знала людей, склонных видеть своих родителей объективно, не предпочитая наделять мать и отца шаблонными родительскими чертами и относиться к ним просто с традиционным почтением? Возможно, и сама она не так уж хорошо понимала собственных родителей?
Женщины за этим столом говорили крайне мало. Вмешательство в мужской разговор вообще могли счесть невоспитанностью, да они и не обладали достаточными знаниями, чтобы поддерживать его. Дамам полагалось быть кроткими и добронравными – по крайней мере, лучшим из них. Худшие же, по существу, были достойны лишь осуждения. Такие не так уж часто попадались в их кругу. Но быть добронравной и понимать что‑то в добродетелях – не одно и то же. Такова смиренная участь женщин, а мужчины, рассуждая о хороших качествах характера, при необходимости указывали женщинам, как им следует себя вести.
Поскольку, за исключением любезного и заинтересованного выражения лица, ее участие в этой дискуссии считалось излишним и даже предосудительным, миссис Андерхилл позволила себе помечтать. Странно, как часто в галерее ее мысленных образов встречались дальние страны, особенно морские пейзажи. Она представляла безбрежные просторы океана, протянувшегося во все стороны до горизонта, пытаясь вообразить, что ощущает человек, оказавшийся там, на корабельной палубе, которая вечно раскачивается под ногами, под безжалостными ветрами и солнцем. Женщина думала о том, как такой человек пытается понять, что поддерживает хрупкую целостность его корабля и что необходимо для выживания и нахождения нужного пути в этих пустынных водах, способных вдруг вздыбиться ужасными штормовыми волнами и обрушиться на борт, равно как и смести и сокрушить его неукротимой стихийной силой. Или прихотливое течение вяло повлечет куда‑то ваше судно под бессильно поникшими парусами…
Какая жизнь скрывается за океанскими просторами? Красивая? Пугающая? Невообразимая? И лишь звезды в небесах указывают путь – и, конечно, солнце и безупречные часы, если вы владеете мореходным ремеслом.
– …надо действительно поговорить кое с кем об этом, – заключила особа в коричневатых, табачной расцветки кружевах. – Мы полагаемся на вас, епископ.
– Всенепременно, миссис Ховарт. – Хозяин дома глубокомысленно кивнул, коснувшись салфеткой губ. – Всенепременно.
Айседора отвела глаза. Ей не хотелось быть вовлеченной в этот разговор. Почему бы им, ради разнообразия, не поговорить об океане? Прекрасная аналогия с тем, как одинок человек в своем жизненном плавании, как ему приходится справляться со всеми нуждами, и лишь понимание небесного закона может подсказать, в каком направлении следовать…
Капитан Корнуоллис, вероятно, это понимает. Внезапно миссис Андерхилл смущенно покраснела, осознав, как легко всплыло у нее в уме его имя, да еще и с каким‑то креном в удовольствие. Ей показалось, будто все ее мысли вдруг стали очевидными. Заметил ли кто‑то ее смущение? Они с Корнуоллисом, разумеется, никогда не разговаривали непосредственно на эту тему, но Айседора понимала его чувства гораздо лучше, чем любые речи. Он мог передать очень многое всего одной или двумя фразами, а эти пустословы, ее гости, целый вечер упражняются в красноречии, но не сказали почти ничего путного.
Епископ все еще разглагольствовал. Супруга взглянула на его самодовольное, равнодушное лицо, и вдруг по ее телу побежали мурашки, и она с омерзительным ужасом осознала, что на самом деле не любит его. Давно ли у нее возникло такое чувство? После знакомства с Джоном Корнуоллисом или раньше?
Что заставило ее провести целую жизнь в ежедневной близости – она не могла сказать «в приятном обществе» – с человеком, который ей на самом деле даже не нравился, не говоря уже о любви? Долг? Мораль? Равнодушие?
Как повернулась бы ее жизнь, если б тридцать один год назад она встретила Корнуоллиса? Может, тогда она и не полюбила бы его или он не увлекся бы ею. Ведь в то время оба они были совершенно другими людьми, жизнь еще не преподала им уроки досужей скуки и одиночества. В любом случае бессмысленно думать об этом. Прошлое невозможно исправить.
Но Айседора могла не упустить хотя бы будущее. Что, если она сбежит с этого глупого фарса, избавится от него раз и навсегда? Возможно ли это – уйти к Корнуоллису? Разумеется, никто из них даже в разговорах не заходил так далеко – это было бы немыслимо, – но миссис Андерхилл знала, что он любит ее, так же как и сама она постепенно обнаружила, что тоже полюбила его. Он обладал честностью, смелостью и простодушием, словно чистый родниковый источник для ее духовной жажды. Айседора вспоминала его шутки, ждала их, и они всегда оставались добрыми в ее памяти. Воспоминания о нем заставляли ее страдать. И из‑за этого нелепый сегодняшний прием и ее присутствие на нем становились еще более мучительными. Имеет ли кто‑то из гостей хоть малейшее представление о том, куда занесло ее воображение? Лицо хозяйки дома вспыхнуло от тайных мыслей.
Разговор по‑прежнему шел о политике – тему опасности крайних либеральных идей обострили подрывом христианских ценностей. Либералы несли угрозу умеренности, посещению церкви, священным дням отдохновения, общественному смирению и подобающему почтению – и даже самой святости домашнего очага, охраняемого женской благопристойностью.
О чем Айседора могла бы поговорить с Корнуоллисом? Безусловно, не о том, что должны делать, говорить или думать другие люди! Они могли бы побеседовать об удивительных странах, о древних городах на берегах дальних морей, таких, к примеру, как Стамбул, Афины или Александрия – средоточиях древних легенд и опасных приключений. Перед мысленным взором жены епископа поблескивали согретые солнцем камни и сияла синева небес, такая яркая, что приходилось жмуриться. И воздух вокруг был напоен теплыми пряными ароматами. Достаточно будет уже просто поговорить об этом с капитаном – вряд ли ей суждено поехать туда, но можно просто слушать и мечтать. Она удовольствовалась бы даже молчаливым общением, зная, что их мысли одинаково прекрасны.
Что произойдет, если она уйдет отсюда к нему? Что она теряет? Репутацию, конечно. Ее ждет оглушительное осуждение! Мужчины будут возмущены и наверняка напуганы тем, что их собственные жены могут счесть эту идею достойной подражания и поступить точно так же! А женщины разозлятся еще больше, поскольку будут завидовать ей и ненавидеть ее за это. Те, кто тащил семейную лямку из чувства долга – а таких подавляющее большинство, – решительно сдвинут щиты добродетели. Она больше никогда не сможет общаться с ними. Они будут игнорировать ее на улицах. Она станет невидимкой. Забавно быть невидимой распутницей. Казалось бы, наоборот, она должна бросаться всем в глаза!..
Айседора улыбнулась своим мыслям и вдруг заметила смущение на лице сидящей напротив нее женщины. Видимо, разговор едва ли побуждал к веселью!
Реальность вернулась. Видения рассеялись, а с ними исчез и очаровательный и трудный путь избавления миссис Андерхилл от скучного вечера. Даже если у нее хватит сумасбродства пойти к Корнуоллису, он сам откажется от ее предложения. Крайне бесчестно было бы воспользоваться слабостью чужой жены. Испытает ли он хотя бы искушение? Вероятно, нет. Он придет в замешательство, устыдившись ее дерзости или того, что она могла даже подумать, будто он мог принять от нее такое предложение.
Будет ли этот удар невыносимым?
Нет. Если б он был человеком, способным принять ее измену, она не полюбила бы его.
Журчание разговора за столом стало более бурным из‑за нового расхождения в теологических вопросах.
Но смогла бы она уйти, если б Корнуоллис мог принять ее? В своих мыслях миссис Андерхилл колебалась лишь мгновение – и сразу же испугалась собственной нерешительности, услышав удушающую напыщенность речей за этим окостеневшим безрадостным столом… Да… да! Она могла бы воспользоваться шансом и сбежать!
Конец ознакомительного фрагмента – скачать книгу легально
[1] Полиция безопасности или отдел Департамента уголовного розыска, осуществляющий функции политической полиции, а также охраны членов королевского семейства, английских и иностранных государственных деятелей.
[2] Уильям Юарт Гладстон (1809–1898) – английский государственный деятель, неоднократно возглавлявший правительство.
[3] Психиатрическая больница в Лондоне. Первоначально была названа в честь Марии из Вифлеема. Впоследствии слово «Вифлеем» – в английском произношении «Бетлиэм» – преобразовалось в Бедлам.
[4] Джеймс Кейр Гарди (1856–1915) – известный деятель рабочего движения Великобритании, ратовавший за реформы и основавший в 1888 году Шотландскую рабочую партию.
[5] Одним из лидеров новых тори в конце XVIII – начале XIX в. был выдающийся английский политик и государственный деятель Уильям Питт‑младший.
[6] Уэбб Сидни Джеймс (1859–1947) – английский экономист, лидер фабианства, философско‑экономического течения, получившего свое название от имени римского военачальника Фабия Максима Кунктатора и провозглашавшего постепенное, медленное преобразование капитализма в социалистическое общество.
[7] Уильям Моррис (1834–1896) – английский поэт, издатель, социалист.
[8] Джордж Бернард Шоу (1856–1950) – ирландский писатель, общественный деятель, социалист‑фабианец.
[9] Вошедший в историю призыв полковника Уильяма Прескотта (1726–1795) к американским бойцам экономить патроны во время битвы при Банкер‑Хилле, первого существенного сражения Войны за независимость 17 июня 1775 г.
[10] Сторонники Чарльза Стюарта Парнелла (1846–1891) – ирландского политического деятеля, лидера движения за самоуправление.
[11] Согласно парламентской реформе 1884 г., право голоса на выборах имели владельцы домов или мужчины, платившие за аренду домов или квартир не менее 10 фунтов стерлингов. Тем не менее число избирателей и тогда составляло тринадцать процентов всего населения.
[12] Речь идет о героях сказок английской детской писательницы и художницы Беатрис Поттер, в замужестве Уэбб (1866–1943). Русскому читателю миссис Тигги‑Винкль известна под именем Ухти‑Тухти.
[13] Дэниел Данглас Хьюм (1833–1886) – шотландский медиум‑спиритуалист, прославившийся на весь мир феноменальными способностями к ясновидению, левитации и демонстрации проявлений так называемого психического феномена.
[14] Генри Лабушер (1831–1912) – английский политический деятель и публицист ярких представителей радикальной группы Либеральной партии.
[15] Название произошло от богемного района Лондона, где и собирался «Блумсберийский кружок» – элитарное объединение английских интеллектуалов, писателей и художников, выпускников Кембриджа, связанных сложными семейными, дружескими и творческими отношениями.
Библиотека электронных книг "Семь Книг" - admin@7books.ru