
Медная шкатулка (сборник) – Дина Рубина
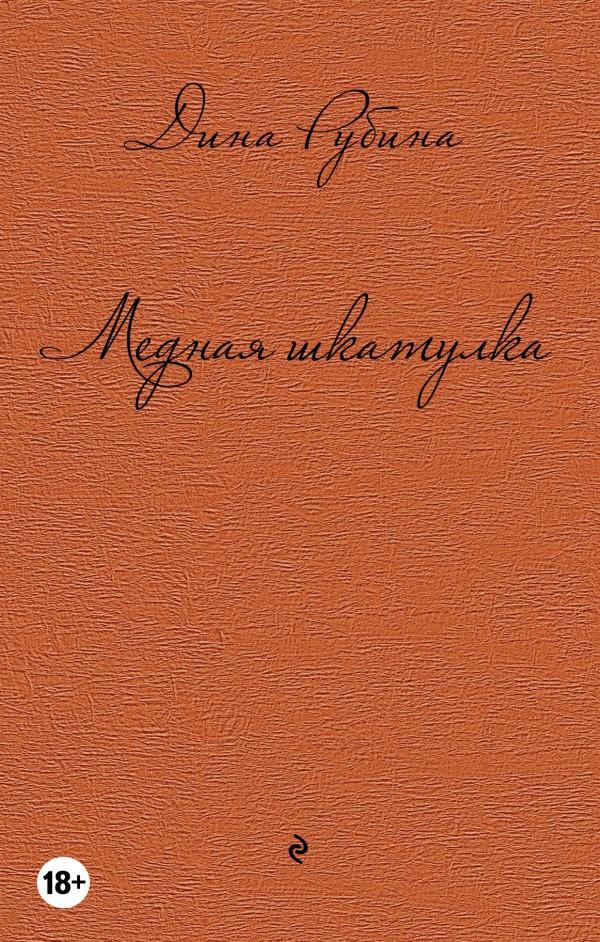
Дина Ильинична Рубина
Медная шкатулка (сборник)
* * *
Если что и волнует меня с годами, так это истории человеческих судеб. Рассказанные без особых подробностей, просто, даже отстраненно, – они как монолог попутчика в поезде дальнего следования. И после бессонной ночи все смешается: имена людей и городов, даты встреч и расставаний. Останутся в памяти желтые полосы света от фонарей на полустанках, слуховое окно, мелькнувшее в заброшенном доме, и глуховатый голос, временами зависавший в попытке подобрать слово… Самое дорогое тут: голос рассказчика. Как пресечется он в неожиданном месте, или вдруг смягчится в улыбке, или замрет, будто заново удивившись давно прожитому.
Кстати, многие из этих историй я услышала именно в поезде или в самолете – словом, в пути. Видимо, само ощущение дороги побуждает нас заново осмыслить давние события, вслух размышляя о том, что изменить уже невозможно.
Дина Рубина
Медная шкатулка
– Ничего, что я все болтаю, болтаю?.. Скажите, когда надоем, не стесняйтесь, ладно? Просто вы так хорошо слушаете, а в поезде так славно разговор течет…
Вот мы говорили о семейном предопределении. Если позволите, я – о своей семье. Не пугайтесь, скучно не будет. Истории прошлого века в любом случае занимательны.
Итак, представьте девушку из мещан, гимназисточку?егозу, пророманенную книгами до последней легчайшей кудряшки. Подмосковный городок с летними павильонами, где на подгнивших от дождей подмостках дают спектакли наспех сколоченные труппы заезжих актеров. Как можно не влюбиться в плечистого?речистого героя? Как можно не пропасть в его улыбке, в рокоте его баритона, как можно унять восторженную дрожь, когда он – Гамлет – произносит начальные фразы своего знаменитого монолога?
Не буду утомлять вас атрибутами романтической страсти: всеми этими букетами, записочками, условленными встречами в беседке над рекой. Скажу сразу: она сбежала с труппой. Это была моя бабушка.
Лет через пять герой оставил ее уже в другом подмосковном городе одну, с двумя детьми; старшему было четыре, младшему, моему отцу, – годик. Теперь вообразите ее положение: к тяжелой работе не приучена, денег ни копейки, дети голодают, малыш вяжет руки. Чем зарабатывала? Изредка давала уроки немецкого или латинской грамматики девочкам из не слишком щепетильных семей, ибо столь безнравственную особу тоже ведь не на каждый порог пустят. Написала она родне покаянное письмо, но в ответ ни слова не дождалась; мой прадед и без того крутоват был, а тут случай особый: эдак?то его дочь ославила – на весь город! Трудно ему было позор проглотить. Словом, беда, настоящая беда, хоть вешайся.
И в такой?то тяжкий момент к ней с тайным визитом вдруг приезжает семейная пара: ее троюродная сестра с мужем. Адресок, стало быть, добыли из того самого ее письма, каждая буква которого вопила о спасении. Люди они были состоятельные, порядочные и уж десять лет как женаты, но… ребеночка все бог не давал, и надежда на это совсем истаяла. А я и сейчас восхищаюсь их расчетом: как всё толково обмозговали, как грамотно ловушку расставили! Часа через два пустой болтовни бабушкина сестра вдруг заплакала и сказала:
– Соня, отдай нам младшенького! Мы тебе помогать станем, вроде пенсиона положим. Ты вздохнешь, подкормишься, оглядишься. Человеком себя почувствуешь. И себя сохранишь, и старшего вытянешь…
Такое вот выгодное предложение: продай, мол, сына. Если, конечно, не хочешь сгинуть вместе с обоими… А куда деваться? Жизнь штука подлая, злая. И сидели они трое: женщины ревели белугами, мужчина тоже сильно переживал. Сами понимаете, речь ведь не о болонке, а о живом малыше.
И решилась она. Приняла этот неминучий выбор судьбы. А как еще могла обоих детей спасти?
Только одно условие ей и поставили, зато уж жестокое: не появляться. Раз в году могла она приехать и глянуть на сыночка издали, из?за угла дома или в витрину кондитерской, куда его нянька водила пирожными угощать. Страшно тосковала, страшно! Но и радовалась каждый раз, потому как видела: сынок одет?обут, да при няньках, да такой красавчик и… так на нее похож!
Вот поглядите?ка на меня внимательно: заметили легкую косинку в левом глазу? Это родовая печать. Такая у бабушки была, у моего отца, у меня. И хотя договорилась она с приемными его родителями, что шкатулку с документами о рождении они закопают под грушей у себя в саду – мало ли что с людьми случается, целее будет, – эта легкая характерная косинка, ежели что, лучшим доказательством родства служила. Сразу было понятно, кто кому и кем приходится.
А дальше что? Дальше грянула революция. Парню уже лет семнадцать исполнилось, и он – рослый, красивый, дерзкий – ринулся в эту самую революцию очертя голову и сердце. По характеру, понимаете ли, заводилой был. Как это сейчас говорится: прирожденный лидер. Сквозь революцию и Гражданскую войну прошел, как нож сквозь масло, со всех трибун в светлое будущее народ зазывал. Видимо, артистизм родного папани унаследовал. Был он уже крупной шишкой в НКВД, женатым человеком, отцом двоих сыновей. Его приемный отец давно, еще в начале революционной мясорубки, скончался от разрыва сердца. Еще бы: видеть, как отнимают твою ткацкую фабрику, забирают дом и все нажитое. А главное – видеть, что возглавляет всю эту банду взращенное тобою дитя! Тут любой от ужаса и горя концы бы отдал. Ну а жена его несчастная вслед за ним последовала. Не захотела жить. Наглоталась чего?то, уж и не знаю – чего именно, и померла.
И тогда…
Знаете, люблю я этот поворотный круг в любой истории, исконный, древний, еще из греческих трагедий поворот ржавого рычага, выпускающий на сцену нового либо подзабытого персонажа. Бывает, слушаешь, слушаешь чью?то историю, и ждешь не дождешься: когда же наконец будет произнесено это самое и тогда?..
И тогда на сцене появилась родная мать.
Знаете, что интересно, – я ведь помню тот день. Не поверите: крошкой был, три годика, но почему?то запечатлелась в памяти эта сцена. Наверняка был в ней такой накал, такая драматическая сила… ведь дети, они как животные – чувствуют напряжение в воздухе. Мы со старшим братом играли на полу, строили из кубиков конюшню для деревянного коня, из?за которого постоянно дрались. А мать в кухне крутилась, тесто на пирожки раскатывала. Почему помню, что тесто? А у нее руки были в муке. Ну слушайте…
Позвонили в дверь, мать открыла. На пороге стояла пожилая женщина. Вот закрою глаза, и передо мною – стоит она и стоит. Молчит и порога не переступает. И мать молчит и тревожно так, вопросительно смотрит на нее.
Понимаете, на трезвый внимательный взгляд ей ничего и доказывать не надо было – сын был похож на нее, как две капли воды. Просто одно лицо. Косинка эта характерная, которая так особенно, так лукаво направляет взгляд. И что поразительно: невестка, наша мать, приняла ее с распростертыми объятиями, – помню, на спине у гостьи отпечатались на макинтоше обе мучные мамины пятерни. Нам, детям, сказала: это ваша бабушка, «мамашей» ее сразу стала называть.
А отец…
Он, когда с работы вернулся, выслушал историю с каменным лицом и сказал: у меня мать одна, та, что меня воспитала. Другой у меня нет и не будет. Не верю я в эти байки… Тогда гостья ему говорит: «Сынок, я тебе могла бы доказать, ведь там у вас в саду под грушей шкатулка медная с документами о твоем рождении закопана…» А отец ей: «Кан?е?ешна, шкатулка! «Всадник без головы!» Рукой махнул и отвернулся.
В том доме давно, уже лет десять, как дворец пионеров был. Но сад сохранился, и груша старая как росла, так и осталась, правда, не плодоносила. Можно было бы выкопать ту шкатулку. Но только зачем: какая там шкатулка, когда на одно лицо мать и сын. Но отец даже говорить с ней не желал. И впредь оставался как кремень…
Бабушка к тому времени совсем одна осталась. Старший ее сын, Семен, дядя Сеня, от тифа еще в Гражданскую помер. И видно, так обожгло ее в юности, что женская ее судьба прошла неинтересно, скудно.
Она приходила смотреть за нами, возилась по хозяйству, всю работу делала по дому, очень помогала маме, и та ее уважала и любила. А отец молчал, и так, по молчаливому обоюдному уговору, ко времени его возвращения с работы бабушка должна была уйти. Редко?редко задержится, если кто?то из нас, детей, болеет.
Помню один такой день. Я лежу с камфарным компрессом на шее, а бабушка напекла мне горячих шанежек, чтобы мягко глотать… И тут отец вернулся, и она суетливо так на стол ему – тарелку с горячими шанежками, и чай крепкий, сладкий. А он, опустив голову, с такой горечью вдруг:
– Софья Кирилловна, почему ж вы отдали меня, а не брата?
И в ответ – тишина…
Я вам не надоел еще со своими родичами? Интересная штука: начинаешь рассказывать новому человеку события чуть не восьмидесятилетней давности, а как вспомнишь эту бездонную беззащитную тишину на вопрос взрослого мужчины, так горло и перехватит…
Ну дальше все просто: трагедию нашей семьи разрешил НКВД – отца арестовали в 39?м и, как потом уже я узнал, сразу и расстреляли. Бабушка переселилась к нам и так дожила с нами до смерти.
У нее знаете какой талант был? Она в уме считала мгновенно. Под старость с палочкой ходила по магазинам, стояла в очередях. И если кассирша обманет на копеечку?две, она протянет руку со сдачей и стоит, смотрит, смотрит, пока взбешенная тетка в ладонь ей не бросит недостающую монетку.
Так и вижу ее: стоит и смотрит, молча смотрит в свою ладонь с двумя грошами…
Вот что мучает меня всю жизнь: как вы думаете, горевала она, когда обретенного сына на смерть забрали, или испытала облегчение? А еще простить себе не могу, что, выросши, не откопал под грушей ту медную шкатулку с документами о рождении отца. Зачем? А бог ее знает. Все ж семейная реликвия…
Медальон
– О?о… такая это даль незаглядная – мама ж родилась в восемнадцатом году!
Между прочим, отличная идея – давать в газете галерею судеб двадцатого века. Получается настоящий портрет эпохи. Лично я считаю, в этом деле, как в антиквариате: любая, даже незамысловатая вещица через сто лет становится ценной. И жаль, что припоздали: еще три года назад вы могли бы взять интервью лично у мамы – она до последней минуты оставалась в ясной памяти. Но я попробую.
Значит, восемнадцатый год, окраина рухнувшей империи, Владивосток, власть гуляет от белых к красным, а банд этих разных, шаек?леек зеленых?коричневых, – тех вообще без счету. И дед мой, отец моей мамы, точно так же переходил от белых к красным и обратно, а по пути еще заруливал к каким?нибудь бандитам. Тот еще был деятель, как я понимаю. В семье появлялся, будто полная луна – хорошо, если раз в месяц.
И вот пришла пора бабушке рожать; прихватило ее прямо на бульваре, а поскольку никто не подходил помочь (многие знали ее мужа и обходили роженицу за сто метров), – так она и загибалась форменным образом. Присела на скамейку, обхватила живот, и уж ни встать, ни двинуться – никакой возможности.
В эти именно минуты проезжала по бульвару кавалькада во главе с любовницей атамана Семенова.
Вы когда?нибудь слышали, читали о ней? Очень жаль: это была фигура удивительная, из тех, кого называют харизматической личностью. Впрочем, ее по?разному называли: Маша?цыганка, Мария Нахичеванская, Маша?ханум. Красивая была, экстравагантная, на собственном поезде разъезжала, вся в мехах и драгоценностях. Японские журналисты называли ее королевой бриллиантов. Словом, истинно: атаманша.
Увидев душераздирающую сцену стремительных родов, Маша?цыганка остановилась, спешилась и велела своим бугаям отнести роженицу в ближайший дом. А хозяевам этого дома велела помочь женщине, пригрозив, что собственноручно спалит «халабуду» до последнего уголька, если те сей момент не сбегают за акушеркой. И те, само собой, очень быстро побежали, ветер в ушах свистел. Акушерка была привезена, за пролетку уплачено, и бабушка благополучно родила мою маму.
На другой день любовница атамана приехала навестить спасенных ею мать и дитя, нарекла девочку Марией (в честь себя, несравненной), сняла с шеи медальон и подарила крестнице. Сказала: на память и счастливую судьбу.
Ну, поначалу судьба у малышки оказалась не очень счастливой: через четыре года ее мать, моя бабушка, умерла от каких?то таинственных «печеночных колик», папаша, и ранее вполне бесполезный, к тому времени вообще растаял в дымке морской, улепетнув на последнем корабле в неизвестном направлении. А девочку дальняя родня определила в… как это называлось тогда: дом сирот? детский приют? – неважно, потому как пробыла она там недолго. Видимо, назначенная атаманшей счастливая судьба очнулась и принялась раздувать пары и устраивать «случайные обстоятельства».
Случайным обстоятельством оказалась командировка во Владивосток известного советского писателя, очень доброго и, между прочим, бездетного человека, который прилетел собирать материал для большого очерка об ударных портовых буднях советских дальневосточников.
И все на том же Приморском бульваре, где московского гостя радушные портовики угощали пивом, а воспитательница прогуливала группу детей?сирот, к писателю подбежала маленькая девочка – под скамейку, видите ли, где он сидел, закатился резиновый мячик, ее любимая игрушка… Скажите после этого, что судьба не играет в фанты! Еще как играет – а иначе с чего бы известному советскому писателю всю ночь промаяться без сна в гостиничном номере, вспоминая бледное личико, и это по?взрослому вежливое: «Спасибо, гражданин!», когда он вручил девочке мяч?
Так моя мама попала в семью известного писателя, автора нескольких книг, о которых сейчас мало кто вспоминает, а в те годы читали запоем.
Собственно, семьи?то было – он, «дядя Рува», и его жена, Ирина Марковна, «Ируся». У них моя мама и выросла в любви и уважении.
– К дяде Руве, – вспоминала мама, – часто приходили гости. Ируся хорошо готовила и пекла божественно, так что застолья у нас не переводились. Это были Паустовский, Федин, Бабель… Я тогда не знала, что они – небожители. Для меня они были просто друзья дяди Рувы.
Разумеется, мама закончила одну из лучших московских школ, играла на фортепиано – до старости, знаете ли, и очень бегло! – знала четыре иностранных языка. Как говорит одна моя приятельница: в девочку вложили целое состояние. Ну, «состояние» – это, конечно, метафора, но… Да, я заметила: вы внимательно посматриваете вокруг. Иногда люди восхищаются, иногда осуждают, кто?то однажды назвал нашу квартиру «антикварной лавкой». Но я привыкла жить среди красивых старинных вещей, я выросла среди них. Видите ли, дядя Рува был большим ценителем и коллекционером разных диковин, и маму с детства пристрастил, как сам говорил – «к восхищению, к любованию красотой и мастерством». А позже, когда она стала дипломированным врачом, хирургом, да еще и женой дипломата, она и сама любила бродить по лавочкам, развалам всяким, рынкам?скупкам. Глаз у нее был, папа говорил, «хирургически точным»: из кучи хлама вдруг выудит мизинцем какую?нибудь старинную бутылочную пробку венецианского стекла за один франк…
Вот, например… Гляньте?ка на полку – там, рядом с синей вазой, неприметный такой, тускловатый. Это невероятно драгоценная вещь, музейная вещь: кубок Скандербега… Как – не знаете? Национальный албанский герой. Ну да, вы так молоды, для вас слово «албанский» означает нечто интернетное, да? Вы, конечно, не видели старого фильма 53?го, кажется, года «Великий воин Албании Скандербег»? На слух звучит как?то… замшело, по?советски. Его звали Георгий Кастриоти, он был венецианских корней, жил в пятнадцатом веке, принял ислам, потом отрекся от ислама, возглавил восстание против турок, завоевал такую военную славу, что албанцы назвали его в честь великого Александра (Искандера): Скан?дер?бег.
Так вот, на этот кубок мама наткнулась бог знает где – в деревушке в Албанских Альпах. Понимаете, ее муж, мой отец, был известным дипломатом, и в расцвете своей карьеры бывал послом и во Франции, и в Великобритании, и в Швеции… А по молодости лет им с мамой приходилось жить и в Монголии, и в Афганистане. Вот и в Албании. И мама никогда не сидела сложа руки, никогда не была «супругой посла» – в том смысле, в каком были многие посольские жены. Она всегда работала, и работала по специальности. Много оперировала, порой в немыслимых условиях.
Едва обосновавшись на новом месте, сразу находила себе применение в какой?нибудь клинике. И всюду оставалась собой, только собой. Она, знаете ли, не была красива в расхожем представлении обывателей о красоте. Но в ней столько шарма было: невысокая, хрупкая, шапка чудесных пепельных кудрей; знакомясь с ней, люди представить не могли, что перед ними – врач, кардиохирург.
А я?то помню силу маминого характера! Однажды в детстве я вознамерилась пройти на спор по перилам балкона третьего этажа – я тогда занималась гимнастикой и мнила себя будущей чемпионкой мира. Успела влезть на стул и даже поставить ногу на перила. Глянула вниз… и оцепенела от страха. А отказаться – значит струсить, позор невозможный! Боженька, думаю, спаси меня от этого идиотства!.. И спас! Откуда ни возьмись, мама влетела, как вихрь, стащила меня за волосы и такую трепку задала – до сих пор помню увесистую тяжесть ее изящной руки.
Да… Мама прожила блестящую жизнь, – как в таких случаях пишут в некрологах и монографиях? – жизнь, богатую событиями. Я вам, конечно, покажу все семейные альбомы, вам же нужно – для статьи. Страны, города, конференции разные… сотни спасенных жизней, и так далее. Не в этом дело! Понимаете, она объездила с моим отцом чуть не весь мир, была знакома со знаменитыми актерами, писателями, художниками, встречалась с президентами и премьер?министрами, обедала в королевских дворцах в компании чуть не всей европейской знати. Дружила с Пикассо, Жаном Габеном, Симоной Синьоре… Невозможно все перечислить. А я представляю себе скамейку на бульваре и несчастную роженицу, которую прихватило прямо на людях. И еще представляю благодетельницу в роскошных мехах да бриллиантах и подарок новорожденной – медальон, снятый прямо с лебединой шеи. Такую вот «путевку в жизнь» дала девочке Мария, любовница атамана Семенова.
Ага, я вспомнила: ее называли еще Маша?шарабан, по известной кабацкой песне, которую лучше нее, говорят, никто не исполнял. Незатейливые такие куплеты:
Ах, что ж ты, милай,
Да не приходишь,
Аль заморозить
Меня ты хочешь?
Продам я шалью,
Продам сережки,
Куплю я милому
Эх, ды сапожки!
Рай?рай?рай?рай?да,
Рай?рай?рай?рай?да…
Ну, и так далее… Забавно, правда? Между прочим, когда в 1920 году отец Серафим вез через Читу тело казненной большевиками великой княгини Елизаветы Федоровны, сестры последней императрицы, именно Маша?шарабан помогла ему – и деньгами, и личным участием – благополучно довести до конца скорбную миссию. Так что благодаря ей останки Елизаветы Федоровны ныне покоятся в усыпальнице храма Марии Магдалины в Гефсимании, в Иерусалиме! Маша и сама присоединилась к этой миссии и в конце концов очутилась в Бейруте, где и начала новую жизнь – разумеется, не на пустом месте, а с некоторым количеством золотых слитков. Позже она вышла замуж за хана Георгия Нахичеванского, в который раз сменив имя на Марию?ханум, родила ему двоих сыновей (они потом стали офицерами египетской армии), – короче, жила долгую жизнь, аж до 1974 года! И похоронена в Каире, на кладбище греческого православного монастыря.
– А судьба медальона? – спросила вдруг гостья, которая так и не сделала в своем блокноте ни единой пометки, – слушала, боясь прервать хозяйку.
Та помолчала, поднялась и ушла в соседнюю комнату. Минуты через две вернулась. С руки ее свисал, покачиваясь на длинной цепочке, небольшой медальон, обсыпанный мелкими бриллиантами: старое золото, неразборчивый вензель… Изящная вещица, залог счастливой судьбы.
Ах, шарабан мой,
Эх, шарабан мой,
Не будет денег,
Тебя продам я,
Рай?рай?рай?рай?да,
Рай?рай?рай?рай?да,
Эх, шарабан мой,
Мой шарабан…
Золотая краска
Это был типичный завсегдатай пивной: красномордый, высоченный, с толстой шеей и победоносным брюхом… Короче, он был таким, каким хочется представлять себе немецкое пивное быдло. И прицепился к нам именно в пивной, огромной мюнхенской пивной, простиравшейся чуть не на сотни метров. Наша местная приятельница, уроженка вообще?то Днепропетровска, но ныне патриотка Германии, уговорила нас взять по кружке пива – здесь, мол, особое место, и пиво везут из какой?то особой пивоварни.
Мы стали обсуждать сорта, повышая голос, чтобы перекричать франтоватое, в баварских шляпах с перышками, трио в центре зала – скрипка, контрабас и барабан без продыху лупили что?то бравое, чему горласто подпевали румяные пивцы с кружками. И тогда от шумной компании за соседним столом отделился утес – он казался особенно высоким, потому, что мы сидели, – и с широченной улыбкой направился к нам. Если б не эта улыбка, явное послание добрых намерений, то впору было бы испугаться его буйволиной мощи.
Тут надо кое?что пояснить…
Эта встреча произошла лет пятнадцать назад, в нашу первую поездку по Германии. И длилась она минут сорок от силы, и разговор был коряв, отрывист, иногда мы просто перекрикивали друг друга, если трио вступало со свежим энтузиазмом. Вообще?то первое путешествие по Германии, с заездом в Гейдельберг, Берлин и Франкфурт, Нюрнберг и Дрезден, с десятком выступлений перед новой публикой, с музеями и невероятными парками и дворцами, было настолько сильным впечатлением, что сейчас остается только удивляться: что заставило меня записать тем же вечером рассказ нашего случайного собутыльника? что заставляло меня время от времени вспоминать его и думать о нем, а главное: что заставило сейчас извлечь его буквально из праха распавшейся на горстку ветхих страниц записной книжки и отвести законное место в цепочке этих коротких историй?
Господи, да он с трудом изъяснялся по?русски! А наша приятельница с еще большим трудом балакала по?немецки, хотя и была лучшей ученицей в их группе по изучению языка.
Понятия не имею, почему это въелось в меня: дымная полутемная пивная, красномордая глыба рядом, попытки связать непослушные слова…
Само собой, я не стану буквально изображать его языковые потуги. Он оказался восточным немцем, родившимся еще до войны, в школе учил русский язык. Он и подсел к нам потому, что услышал знакомые слова. И все повторял восторженно: Россия, Россия… – будто лучшая часть его жизни прошла в каком?нибудь Ленинграде.
– Очевидно, он дурак? – пожав плечами и отвернувшись, сказал мне муж. – Что за восторги перед страной, искалечившей его детство?
И будто из упрямства перебил собеседника и поправил: мы вовсе не из России, а из Иерусалима, столицы Израиля. Тот ошалел. Восхитился… «Это тоже нам знакомо, – подумала я, – радостное участие немцев в благобытии страны, созданной по причине и по следам их преступлений».
Но этот… Я пригляделась: у него была симпатичная физиономия трудяги. Он сразу доложился, что по профессии он – шофер?дальнобойщик и в данный момент отдыхает между рейсами. А завтра с утра – тю?тю! – возвращается в Дрезден на своем трейлере.
Свою историю, свою настоящую историю, стал рассказывать с ходу, без предисловий, будто торопясь вывалить все и вернуться к товарищам. Так и запомнила его: взлохмаченный, с потным красным лицом, время от времени он отмахивается большой ладонью от призывов собутыльников вернуться за стол и то и дело запинается в попытке подобрать правильное русское слово.
Пересказываю буквально так, как двадцать лет назад записала в блокноте, чуть ли не конспективно. Почему?то кажется, что таким вот, бедноватым и торопливым, слогом правдивей всего предстает судьбинная мощь его простого рассказа.
Первым браком его отец женат был на еврейке. Молодыми были, влюбились друг в друга, дело нормальное. Но не поладили, очень уж разными были, и разбежались. Мало ли, бывает! Отец женился вторично, уже на немке, и через год родился он, Вилберт, – да, приятно познакомиться…
И вот, когда Гитлер пришел к власти и все это началось… словом, когда по?настоящему запахло жареным, однажды ночью отец молча ушел и вернулся не один, а с молодой женщиной – черноволосой, кудрявой, с огромными зелеными глазами, в блестящем черном плаще (шел сильный дождь!). И мать ее приняла. Мать была замечательным человеком, хотя и излишне прямолинейным. Он, Вилберт, тогда совсем был маленьким, года четыре, поэтому не следил за лицом матери, а жаль: сейчас дорого бы дал, чтоб посмотреть, как эти две женщины друг друга разглядывали.
Отец помог той спуститься в подвал и – знаете что? – до самого конца войны Эстер (ее звали Эстер) из подвала не выходила. Она просидела там все эти годы! Все годы войны отец и мать Вилберта прятали у себя в подвале еврейку. Родной брат отца, Клаус, тот был настоящий наци, служил в гестапо, знал, что брат прячет свою первую жену, но не выдал… А когда Вилберт подрос, ему стали поручать носить ей еду. И он справлялся. Лестница была крутовата, но он же взрослый, почти мужчина, и не боится крутизны и темноты! К тому же там, в подвале, горела лампочка, и хотя Эстер стала бледная как смерть и ее огромные глаза в полутьме так странно светились, он совсем ее не боялся. Наоборот: страшно к ней привязался. Они очень подружились.
– Мы с ней были ближе друг к другу, чем я к матери… – сказал он.
Давно, до войны, Эстер закончила академию искусств, участвовала в выставках. Она писала небольшие пейзажи, пока не… словом, до всего этого дерьма. В подвале очень тосковала без дела, говорила, что это – самое трудное: руки без работы ноют, болят по?настоящему. Тогда Вилберт украл для нее золотую краску. Просто спер, прости господи! В их церкви неподалеку, во Фрауэнкирхе, в подсобке работал мастер, подправлял то и сё, какие?то завитки на алтаре, на деревянных хорах. Уходя на обед, так все и оставлял. Надо было так украсть, чтоб незаметно. Больше всего было банок с золотой краской… и Вилберт не то чтобы грабил мастера, а так… подворовывал. Подкрадется, снимет крышку с ведра и зачерпнет в баночку. Зато бумаги было навалом! Покойный дед до войны владел писчебумажным магазином, и ее много осталось – хорошей, толстой упаковочной бумаги… Эстер писала и писала золотой краской свои пейзажи: золотые деревья, золотое озеро, золотой мостик над ручьем…
И знаете, она пересидела фюрера! Когда пришли советские войска, выползла из подвала, стала получать продовольственные карточки и кормила их всех – всю семью. Они и выжили за счет этих продовольственных карточек.
– У меня родители умерли рано, – говорил он. – Я еще сопляком был. А вот Эстер дожила до восьмидесяти девяти и умерла совсем недавно. И всю жизнь была для меня самым близким человеком.
Конечно, работала до последнего, писала акварели – пейзажи в основном. Была известным художником. Но знаете что? Никогда больше не использовала в работе золотую краску. Зачем? Другой полно, всякой?разной. Все ее пейзажи такие прозрачные, легкие, – прямо ангельские. Словом, искусствоведы и критики знали Эстер именно по этим невесомым пейзажам.
После ее смерти – а Вилберт, само собой, остался единственным наследником, – после смерти в мастерскую Эстер хлынули эксперты музеев и галерей.
– Увидели ее золотые подвальные пейзажи – чуть с ума не сошли! Она ж их никогда не выставляла, не хотела. Говорила: это совсем особый, нетипичный этап в творчестве. Вцепились, давали огромные деньги. Я отказался… И потом всё письма слали, с музейными печатями да гербами, подсылали каких?то своих гонцов, увеличивали сумму, пытались уломать. Но я – на?а?йн! Я не продал! Я развесил их по всему дому – пусть сияют! Золотой лес, золотое озеро, золотой собор…
– Я шофер?дальнобойщик, – добавил он, и кружка в его рыжей волосатой лапе казалась небольшой чашкой. – Дома не бываю по пять?шесть дней. А когда возвращаюсь и вхожу к себе, особо если полдень и солнце в окна, навстречу мне – волны золотого света!
Супчик
Татьяне Гинзбург
«…Пишу тебе из Полтавы, где сейчас все в цветущих старых каштанах, в ошеломляюще душистой сирени, а на закате вжикают?вжикают над головой маленькие сине?зеленые пульки: майские жуки, хрущи по?украински.
Во дворе нашего дома под старой орешиной по?прежнему стоит колченогий стол. Папа, помнится, то и дело подбивал ему копыто, а он все качался. Так и качается. А папы нет… Обещала написать, как прошли похороны. Но никак не соберусь с силами: тоскливо. Лучше опишу тебе ежевечерние разговоры с мамой. Она никак не может прийти в себя, хотя все время по?детски уговаривает меня и сестру, что папа «умер радостно». Мы не противоречим: да, мгновенно умер, что называется, – легко. Но – радостно? В этом вся мама с ее странностями.
Так вот, лучше я опишу тебе наши с ней ежевечерние беседы. Я пытаюсь ее отвлечь и по твоему совету расспрашиваю, расспрашиваю – обо всем. О детстве ее, например. Она говорит: а что? детство как детство, как у всех было… Но мне так не кажется. Посуди сама.
Мама родилась в 1928?м. Отец у нее рано погиб, а мать в голодомор заболела, да так тяжело, кажется, тифом, что от болезни и с голодухи подняться уже не могла, совсем доходила…
Трехлетняя моя мама со своей старшей сестрой (той шесть едва исполнилось) по шпалам дошли из своей деревни до Кременчуга, – дорогу любезно указали родственники… Я все пытаюсь себе представить эти несколько дней, когда девочки топали вдоль железнодорожного полотна. Старшая, Ната, искала между шпалами остатки еды – твердила, что пассажиры (они богатые, кто ж еще может в поездах ездить!) объедки в окно выбрасывают. Однажды с радостным воплем подняла кусок: думала корка хлеба, укусила – оказался кусок засохшего дерьма…
Но добрели они благополучно до города, не померли, и поезд их не раздавил, и какое?то время жили на помойке, пока на них не набрела одна женщина. Она работала нянечкой в детском доме; утром шла на работу, увидела двух девочек, что рылись в куче отбросов, вспомнила, что они и вчера, и позавчера тут копошились. Просто взяла обеих за руки и отвела в большой теплый дом, где первым делом налили им полные миски горохового супа.
Этот суп произвел на мою трехлетнюю маму такое неизгладимое впечатление, что потом всю жизнь слова «суп», «супчик», «супец», «супенций» произносились с придыханием, чуть ли не наравне со словом «Всевышний», – и я не помню у нас обеда без первого. Серьезно: не знаю другой семьи, где бы варилось столько видов супов, рассольников, щей, ухи, свекольников, бульонов… Это я к тому, что детские потрясения влияют на нашу жизнь посильнее иных мудрых воспитателей.
Так вот, детский дом… Он стал для сестер самым родным местом в мире.
Однажды младшая группа возвращалась домой, мама с подружкой Галкой замыкали шеренгу, и вдруг она увидела: у забора в рваном платке, в каком?то допотопном зипуне стоит старушка и сверлит каждого из детей неотрывным взглядом ввалившихся глаз. Мама говорит: – Не понимаю как, не потому, что узнала, нет, а просто ее толкнуло навстречу! А старушка только головой замотала и палец к губам:
– Молчи! Не подходи! Не подходи!!!
Когда все ребята вошли в ворота, мама отстала и, прячась, подбежала к решетке забора. Ее мать плакала навзрыд, трогала дочку через прутья решетки, целовала ей руки и умоляла вернуться назад и никому ничего не говорить. Боялась, что при живой матери детей прогонят из детдома, и тогда – конец, голодная смерть.
Вот когда мама с Натой стали потихоньку собирать горбушки, прятать в кулаке слипшиеся кусочки гречневой каши, осколки желтого сахара. А вечером, после отбоя, через лаз в заборе бежали на железнодорожную станцию, где их мать, моя бабушка, ночевала на скамейках, чтобы отдать ей эту жалкую, эту прекрасную кучку объедков.
Я смотрю на маму – она располнела за последнее время, да я и не помню ее худой, и представить себе не могу эти опасные ночные вылазки, эту могучую детскую преданность, это благородство…
– Мам, – спрашиваю я, заметив, что она опять застыла, положив обе руки на стол, и смотрит на обручальное кольцо, значит, опять о папе думает. – А война? Как вы ее встретили?
– Ну что война. Это июнь, детдом был в летнем лагере. Мы занимали сельскую школу, каждое лето ездили. Очень любили эти каникулы: лес, речка, завхоз дядя Саша таких лещей нам ловил! Помню, как раздетыми бежали под бомбежкой. Наш директор Гуревич Давид Самойлович всех детей – сто пятьдесят человек! – в целости довез до Урала. А вот собственную семью эвакуировать не успел, все погибли в оккупированном Кременчуге…
Понимаешь, – говорит мама, – довезти благополучно живыми всех своих подопечных, – это, конечно, подвиг. Но куда большей удачей было то, что Давид Самойлович устроил нас, старших, на военный завод. Это ж продуктовые карточки! Причем работали мы человек тридцать, а продукты делились на всех. Очень малыши страдали от недокорма. Потому что зима началась…
– И как же вы утеплялись?
– Ну, выдали спецодежду: ватные штаны, фуфайку, ушанку. Шапку надо было непременно завязывать под подбородком, чтоб не сорвали. А на ногах – чуни.
– Это что, сапоги такие?
– Да ты что. Сапоги! Кто тогда мог мечтать о сапогах? Просто толстые стегано?валяные чулки, которые вдевались в деревянные колодки. Ух, и грохот стоял, когда мы бежали, – за километр бывало слышно. На базаре хозяйки все с прилавков прятали, мы ж как саранча, одно слово: «детдомовские»… Воровали, конечно! Самое большое лакомство было блюдечко молока. Оно замерзало, так и продавалось, замерзшими дисками. Вот и лижешь его – долго, упоительно. Точнее, передаешь по кругу, и лижут все по очереди. У нас, знаешь, насчет равенства было очень строго. Никаких привилегий… Еще смолу везде продавали, жевательную смолу, нечто вроде современной резинки: ее жуешь, и голод не так мучает.
– Слушай, мам… А когда ты впервые наелась?наелась? Прям так вот наелась, чтоб до отвалу, до самого «ни крошки больше»?
Тут она оживляется:
– А в Улан?Удэ, в столовой, на военном аэродроме. Это моя первая работа была после войны. Тоже Давид Самойлович пристроил. Там его дальняя родственница работала. Он написал ей, и она прямо?таки приняла меня к себе, как свою, родную. Я три года у нее прожила. Очень много хороших людей на свете, Таня, – говорит она мне строго.
– Так чем же ты так наелась, а?
– Позами! – отвечает мама. – Такое блюдо позы, вроде мантов среднеазиатских. В Улан?Удэ даже вывески: вместо «Пельменная» – «Позная». Смешное слово… Мы так с папой познакомились.
Они на рассвете прилетели, военные летчики с Большой земли. Долго летели, холодно, декабрь… Я в тот день раньше всех пришла, мое дежурство было. Столовая еще закрыта, но я как увидела через стекло их посиневшие лица, сразу отперла, впустила. Говорю: «Ребята, мы еще не открылись, вы пока согрейтесь чаем, а я вам быстренько сделаю позы». Смотрю, они как?то так странно переглянулись, и один, самый молодой, говорит мне, улыбаясь: «Ой, спасибо, нам не до варьете. Нам бы чего горяченького. Может, у вас какой супчик со вчера остался?»
И я как услышала «супчик», так и прикипела к этому летчику. Сразу поняла, что буду всю жизнь ему готовить, когда поженимся.
И, будто спохватившись, отрывается от рассказа и кричит в дом, где сестра топчется на кухне у плиты:
– Ира, добавь щепотку базилика! И огонь прикрути до малого.
И сидим мы под орешиной за столом, что так и качается уже лет сорок, – сколько супов?супчиков за ним выхлебано! – а над нашими головами и плечами вжикают, вжикают, как пульки, золотые закатные хрущи…»
Блокадные истории
Елене Недошивиной
– Видите ли, я – бутафор. Бу?та?фор! Слово?то какое: емкое, смекалистое, игровое! Зрители приходят в кукольный театр, смотрят представление и редко когда задумываются над тем, кто все это соорудил – все эти забавные рожицы, ужасные хари, оскаленные морды… А это всё мы, художники?бутафоры. И сколько тут нужно… что, думаете, скажу: мастерства? Нет, отваги! Хотя и мастерство, конечно, – штука нелишняя, без него?то никуда.
Вот заходит к нам в мастерскую молодой нахальный режиссер, год как закончил институт; держит в руках какие?то разрозненные предметы и с виноватым видом говорит:
– Это голова зайца. А это туловище греческого солдата из «Лисистраты»… В общем, не знаю как, из них надо сделать Муху. Причем, заметьте, мне это нужно – вчера!
И что прикажете делать бутафорам? Штатным волшебникам, мастеровым его величества Кукольного Театра?
А я?то себя знаю: мне чем сложней поставленная задача, тем азартнее сердце бьется, тем больше риск, а результаты ослепительней. Правда, голову Зайца мне стало жалко под Муху пускать, может, пригодится еще для какого?нибудь Слона. Нашла я завалявшуюся в ящике головку Чиполлоне, нарастила глаза, скрутила из проволоки хоботок. И все это отмашировала. Голова состоялась! Теперь, используя доселе невиданную в кукольном деле технику, вырезала и склеила Мухе туловище.
Тут нервный режиссер нагрянул:
– Ну что, ну как?! Лена, вы эту технику где подсмотрели?
– Да нигде, сама сообразила.
– Ой, чувствую, вы с вашей дерзостью таких мне кукол понаделаете, что у детей ум за разум зайдет!
И убежал. Ну, им положено нервными быть, режиссерам?то. Ничего, вот актер эту Муху оценит… Стала я ей бархатной оснасткой брюшко и лапы наращивать, она у меня в руках чуть не зажужжала! Крылья сделала такими насекомистыми, а глаза фасеточными… и вся Муха зашевелилась, вот?вот взлетит!
И тут он прибегает, в двух шагах от премьеры, смотрит на эту Муху безумную, минуту, другую смотрит… И вдруг произносит слова, которые мне слаще признания в любви:
– Гениально! Гениально! Гениально!
* * *
Мне иногда кажется, что своим искусством… ну ладно, скажем скромнее: ремеслом своим я обязана бабушкам. Их обеих прекрасно помню: бабушку Нину и бабушку Таню. Обе родились и жили в Ленинграде, обе пережили блокаду – ровесницы, им было лет по двадцать, совсем молоденькие. Поразительно, как по?разному они относились к этому своему страшному опыту. Бабушка Нина никогда ничего про войну не рассказывала. Как будто той и не было. Она, казалось, жила в каком?то своем уютном мире, который неустанно вокруг себя создавала.
Я обожала оставаться ночевать в ее комнате в большой коммунальной квартире. Весь широченный подоконник единственного окна был у нее уставлен горшками, банками, вазами, в которых росли розы. И аромат стоял такой, что, войдя и вдохнув, человек останавливался, слегка оглушенный. «Томный дух», – довольно приговаривала бабушка, наверняка имея в виду «томительный, сладостный». Но больше всего меня в ее комнате завораживал трельяж, – я могла в нем увидеть собственный затылок, с двумя кренделями косичек за ушами. Вообще, мне все здесь нравилось: круглый стол, за которым мы с бабушкой пили чай из красивых тонких чашек, вприкуску с сахаром. Тот лежал в квадратной стеклянной банке, и его надо было колоть крокодилом?щелкунчиком: бабушка вкладывала кусок меж крокодильих зубов, прикрывала рукой длинную крокодилью морду, нажимала… крэк! – и протягивала на пухлой ладони осколки сахара. Как же это было вкусно!
Еще была печка, рядом с которой зимами томились валенки, и большая барская кровать с крутобедрой периной. Завершали обстановку напольные мозеровские часы и шифоньер, а на нем – радио. Очень высоко. Я сейчас думаю: ведь невозможно было так просто убавить или увеличить звук, или вообще его выключить? А об этом никто и не задумывался. Радио не отключалось никогда.
Часов в одиннадцать мы укладывались спать, и ритуал отхода ко сну всегда был одним и тем же. Сначала бабушка загадывала мне загадки, давно известные. «Сидит на ложке, свесив ножки – что это?» – «Вермишель!» – радостно угадывала я. Потом еще минут двадцать мы шептались, хихикая и вздыхая. Наконец последним, уже в туманном полусне, отсчитывало полуночное время радио, которое потом всю ночь только попискивало каждые полчаса…
Недавно я смотрела блокадные хроники, там диктор за кадром говорил, что у блокадников на всю жизнь осталась привычка никогда не выключать радио. Пока работало радио – город был жив. Кстати, я и за собой замечаю болезненную привязанность к постоянно бормочущему звуковому фону. Видимо, по наследству передалось.
Так вот, вся моя любовь к рукоделию, лоскутам, кружевам, пуговицам и проволочкам – от бабушки Нины. Сколько у меня всего осталось после нее – всех этих бессмертных вязаных вещей: сумочек, салфеток, перчаток и воротничков… и, конечно же, тряпичных кукол, которых она очень быстро вывязывала мне в детстве, а потом и я, наученная ею, вязала и дарила всем вокруг. Они были удивительно живые, просились в руки, даже ласкались – наверное, с тех самых пор, еще с детства я выбрала мягкие материалы. И сейчас их в работе предпочитаю.
А от второй бабушки, от Тани, у меня, как мама говорит, «вся экзальтация». А я думаю, это такая врожденная «кукольность», которая и отличает человека нашей профессии от других нормальных людей. Я убеждена, что в бабушке Тане умерла актриса, причем актриса именно кукольного театра. У меня осталась ее фотография в позе женщины?вамп, с кинжалом в руке и с надписью: «Буду мстить!»
Вот уж ею, бабушкой Таней, было рассказано мне столько блокадных историй! И почему?то все они, даже самые страшные, казались невсамделишными, какими?то… кукольными, хотя знаю, что все они произошли в действительности. И еще мне кажется, что всех этих людей – и родных, и незнакомых – я могла бы смастерить так подробно, так доподлинно, что наш молодой нахальный режиссер надолго бы замер, рассматривая эти истории, а потом воскликнул бы от души: «Гениально! Гениально! Гениально!»
История первая
Как мою бабушку чуть не съели
В годы блокады бабушка Таня была донором. Сдавала кровь для раненых солдат, получала за это усиленный паёк. Наверное, не выглядела такой доходягой, как остальные.
Однажды ей передали записку от незнакомого человека, якобы вернувшегося с фронта и привезшего ей посылку. И ждет ее эта посылка по такому?то адресу, где?то на Петроградской стороне. По странному совпадению, это был день, когда бабушка получала свой усиленный паёк. После работы она отправилась пешком за посылкой.
Квартира, указанная в записке, оказалась в большом мрачном доме, в бельэтаже. Дверь открыла старуха, пригласила войти в дом, сказала, что посылку вот?вот должны принести. Бабушка Таня прошла в комнату, села за стол, огляделась… Старуха эта выглядела почему?то запуганной, какой?то прибитой, и Тане стало ее жалко. Она развернула паёк и предложила ей хлеба. Старуха взяла кусочек и вдруг расплакалась. «Беги отсюда, дочка! – сказала она. – Беги из этого проклятого дома! Никакой посылки тебе не будет, а будет нож и смерть…» И торопливым шепотом призналась, что это двое ее сыновей задумали мою «упитанную» бабушку убить и мясо продать. Такой был в те годы страшный промысел из?за повальной голодухи, если уж вспоминать о блокаде честно и до конца.
Как только старуха это произнесла, в дверях заклацал ключ. Бабушка, даже без «спасиба», не попрощавшись, метнулась к окну (напоминаю – бельэтаж, довольно высоко от земли), вспрыгнула на подоконник, рванула створку и бросилась вниз. Хорошо, на земле была накидана куча какого?то хлама и ветоши, и все обошлось удачно… «Я кинулась бежать, очертя голову, как заяц от гончей!» – восклицала бабушка Таня.
В детстве я представляла себе эту историю в духе сказок братьев Гримм, и всегда сердце начинало учащенно биться на этой фразе: «…в дверях заклацал ключ!» – потому что бабушка театрально прикладывала руку к груди и закатывала глаза. Сейчас почему?то мне представляется маленькая кукольная сцена, и моя бабушка в роли Петрушки, который «очертя голову», с воплем бросается куда?то вниз, в преисподнюю…
История вторая
Как беспричинная смешливость спасла бабушку Таню от гибели
Однажды бабушка Таня шла куда?то с подружкой. Вдруг – воздушная тревога! По инструкции, надо было немедленно бежать и прятаться – куда получится: в бомбоубежище, в подворотню, в подъезд. Девочки забежали в подъезд ближайшего дома, прижались спинами к стене… Но все?таки они же были девчонки, совсем юные, и, договаривая, продолжали хихикать над чем?то смешным. Тогда люди вокруг стали шикать на них и стыдить: война, мол, беда, люди гибнут, а вы тут смеетесь, бесстыжие! Девочки, чтобы не раззадоривать народ на скандал, выскочили и перебежали в другой дом. И когда, пригнувшись, бежали через дорогу, за их спинами раздался взрыв: в дом, где только что они хихикали и где их так стыдили, попала бомба…
Когда бабушка рассказывала мне в детстве этот случай, она не забывала добавить: «Так смех спас мне жизнь». И ты смейся! – говорила она. – Никогда не стесняйся смеяться во все горло!» – И сама принималась театрально хохотать, закидывая голову и хлопая в ладоши.
История третья
Как фокстерьер уберег мою бабушку от каннибализма
Как?то бабушке Тане по случаю удалось купить на рынке кусочек мяса. Драгоценность невероятная! Принесла она его домой, и все оставшиеся в живых жильцы квартиры собрались на кухне, чтобы не растранжирить даже запаха варившегося мяса. Но как?то вид его и запах – сладковатый – показались странными.
– Знаешь что, Татьяна, – сказала соседка Мирра Григорьевна, – надо бы проверить это мясцо на Черчилле.
Черчиллем звали фокстерьера дяди Фимы, профессора с третьего этажа. Настоящим чудом было то, что Черчилль до сих пор жив – ведь в годы блокады домашних животных не существовало, их всех давно съели, как и голубей, мышей, бродячих кошек и крыс. А дядя Фима надежно прятал своего друга от чужих людей, и главное, делил свой паёк ровно пополам. Так что Черчилль не то чтобы процветал, но все же лапами продолжал загребать потихоньку.
Сбегали на третий этаж, позвали «Даму с собачкой». Скрепя сердце, бабушка отрезала ма?а?аленький кусочек от своего сокровища и предложила псу. А тот вдруг ка?ак зарычит, как попятится, да как затрясет башкой. И сразу всем стало ясно: человечина!
И пока соседи спорили, что правильней – выбросить этот кусок на помойку или похоронить его по?христиански, закопав в землю, бабушка Таня мчалась в уборную, где ее с полчаса выворачивало и выворачивало наизнанку.
– Бывают страшные годины, дитя мое, – сказал ей потом дядя Фима, прижимая Черчилля к груди, – когда животные могут преподать человеку урок человечности… Взять, к примеру, тезку моего благородного пса. Говорят, он – личность достойная. Но не сомневаюсь, что по части нравственной в наших условиях мой Черчилль дал бы тому сто очков вперед!
История четвертая
Крысы на Лештуковом мосту
– Нет, не верно, – поправляет меня мама, прочитав эти записки. – Крысы были, да еще как были, – огромное количество. И истории с ними связаны такие жуткие… даже рассказывать не хочу. Одну только расскажу – о крысе?хозяйке.
У нас в комнате, где бабушка Таня жила со своей мамой, твоей прабабушкой Лизой, стояла большая старинная печь в стиле ренессанс. Чугунная, роскошная, с узорной решеткой, с выпуклыми розами. В мирное время ее накрывали скатертью и использовали как стол. А во время войны она прямо?таки спасала семью: ее топили обломками мебели, кипятили на ней воду, варили какую?нибудь баланду, просто сидели вокруг нее, впитывая тепло.
Так вот, когда бабушка Таня оставалась одна в комнате, откуда?то из подпола, из?за печи выходила старая огромная крыса с поседелой мордой и неторопливо, по?хозяйски, не обращая на Таню внимания, обходила свои владения… Крысу не пугало ни топанье ног, ни брошенные в нее предметы. Вскинет морду, замрет и уставится на бабушку черными острыми бусинами глаз, будто колет. Это было очень страшно!
Бабушка залезала на печку, подтягивала ноги и отчаянно стучала конфорками, следя за каждым шажком жуткой квартирантки. Да какой там – квартирантки! Таня чувствовала, что не она тут хозяйка, а именно крыса.
Многие годы потом ей снились эти неторопливые визиты. А еще, в особо тяжелые ночи, вспоминалась картина, увиденная неподалеку от театра БДТ. Там, возле деревянного мостика, его называют еще Лештуков мост, стояла одинокая запряженная в повозку лошадь, оставленная хозяином минут на десять. Совсем тощая лошаденка… И вдруг, откуда ни возьмись, на мост хлынула и потекла упругая река серых крыс. В одно мгновение хищная масса взмыла на лошадь, облепила ее, и минут пять шевелящееся чудовище вздыхало и попискивало… Потом рухнуло на землю и рассыпалось на серые шкурки. Остался на земле только обглоданный дочиста лошадиный скелет.
– Знаешь, – говорит мама, помолчав. – Я всегда была уверена, что разные медицинские эксперименты проводят на крысах потому, что они во многом человека напоминают. И в поведении, и по интеллекту. Может, это какая?нибудь цивилизация, которая существует рядом с нами?
Отражение в зеркале
А еще в комнате, кроме роскошной печи, было роскошное зеркало – в ореховой раме, волнами вздымавшейся над безупречной гладью. И самая большая волна как бы нависала над овальным зеркалом, не смея пролиться вниз. Не знаю, может, из какого дворца это зеркало к нам попало, но все его страшно любили и очень им гордились.
До войны в нем отражалась большая и красивая семья, в том числе прабабушка Лиза. Она всегда была хрупкой, изящной женщиной, с пышной каштановой волной надо лбом, а во время блокады так отощала и ослабела, что стала ходить с клюкой, как старуха. Не говоря уж о том, что от недостатка кальция повылезли все ее роскошные кудри. И– вот ведь неистребимая природа женщины! Не могла видеть себя такой, занавесила зеркало тряпкой.
Когда блокада уже подходила к концу и с продуктами стало чуть полегче, у прабабушки Лизы возникло ощущение, что она поправилась и похорошела. Может, тут сказалось ожидание скорой развязки, конца войны, приподнятое настроение, надежда на будущее.
Короче, она осмелилась, она решилась – взглянуть на себя. Подошла, расчехлила зеркало…
Тут непременно надо заметить, что, по рассказам мамы и бабушки, прабабушка Лиза была человеком терпеливым и добрым, невероятно кротким была человеком. Шутка ли: двадцать семь лет преданно ухаживала за своим парализованным мужем.
Так вот, взглянув на себя в роскошное дворцовое зеркало, гордость и любовь всей семьи, она со всего маху ка?а?ак саданет по нему своей клюкой! Вдребезги расколошматила. Видимо, так потрясла и ужаснула ее старуха, которую увидела она там вместо себя.
О?о?о, я бы решила это сцену двумя разными куклами, я даже знаю – из чего бы обеих смастерила. Одну, молодую и красивую Лизу, сделала бы с очаровательной фарфоровой головкой. А другую… тут еще надо подумать. Тут что главное? Чтобы у зрителя от сострадания и любви сердце зашлось, чтобы слезы полились, которые в нашем деле – самые настоящие!
«Красная Москва»
А вот это не семейная история, и не «кукольная» – я бы не взялась по ней мастерить персонажей. Потому что все в ней связано… с запахом. А запах – это не театральная сущность: это не цвет, не звук и не жест. Хотя тот запах, о котором речь пойдет, был знаком большинству населения советской страны. Это были знаменитые духи «Красная Москва». И мамина подруга Люся, которой в начале блокады исполнилось лет пять, тоже отлично различала этот запах. Каждое утро она самостоятельно бежала в детский сад – детские сады в годы блокады продолжали работать. Каждое утро она бежала на «свидание» с любимым запахом духов, которыми пользовалась одна очень красивая женщина: она приводила в тот же садик и в ту же группу своего сына. От нее несказанно, волшебно пахло «Красной Москвой»! Видимо, голод как?то обострял обоняние; во всяком случае, едва переступив порог, Люся чувствовала аромат духов и понимала, что женщина с мальчиком уже пришли. Это был совсем новый у них мальчик, так бывало, когда несколько групп сливали в одну, – ведь очень часто группы редели. Люсе хотелось подружиться с ним, но она стеснялась и каждый день думала: вот сегодня… сегодня. Иногда даже провожала женщину с сыном до самого дома, просто шла в нескольких шагах позади, как будто ей в ту же сторону; шла в тончайшем шлейфе запаха «Красной Москвы», пока те не входили в свой подъезд.
Однажды утром, прибежав в сад, Люся по унылой пустоте воздуха поняла, что женщина с мальчиком сегодня почему?то не пришли. Она волновалась весь день, просто места себе не находила. А вечером, едва воспитательница отпустила детей по домам, побежала к знакомому дому. Повернула за угол и встала, онемев… Долго смотрела на проломленную крышу, на выбитые от удара бомбы окна. Потом медленно подошла к подъезду и, задыхаясь, стала взбираться вверх по полуразрушенной лестнице. На третьем этаже остановилась: слабый аромат «Красной Москвы» прощально витал над вонью известки и гари…
Она заплакала, поняв, что никогда больше не увидит эту удивительной красоты женщину, никогда не узнает ее истории, никогда не подружится с мальчиком.
Я эту девочку, ее легкие ноги, взбегающие вверх по разрушенным ступеням, вижу так ясно, будто это я и была.
Понимаете, кукольный театр, настоящий Кукольный Театр – это ведь не «Золушка», вернее, не только она. На кукольном языке можно рассказать обо всем: о великой любви, о предательстве, об упоительной радости жизни, даже о неизбежности смерти. Но вот эту историю перевести на кукольный язык невозможно. Почему? Да я все о запахе. Не театральная сущность…
Наследство
Ричарду Кернеру
Скульптора Ежи Терлецкого я помню отлично. Он дружил с моими родителями еще с тех времен, когда мой отец, атташе по культуре посольства Польши в Москве, выхлопотал ему польское гражданство. Вернее, помог с возвращением оного. Как вы знаете, в тридцать девятом польские евреи бежали от Гитлера в СССР, а вот обратно в Польшу вернуться после войны оказалось совсем не просто. К тому же несовершеннолетние сироты, а Ежи как раз и был таким, затерялись по колхозам, по маленьким городкам или просто были вывезены в азиатские республики по детдомам… Короче, в подробностях я не силен, но так уж вышло, что мой отец помог Ежи вернуть исконное гражданство.
Ежи возвратился в Варшаву, оттуда – в 1963?м – перебрался в Париж и, прожив там большую часть жизни, умер в 1997?м уже почтенным стариком лет под восемьдесят.
«Почтенным» – это я брякнул не подумав. «Почтенным» Ежи никогда так и не стал, но прожил длинную и бурную жизнь, был известным скульптором.
Между прочим, если придется побывать в резиденции премьер?министра Израиля, обратите там внимание на несколько бюстов израильских президентов, выполненных Ежи Терлецким. Сильная, выразительная лепка… В Москве помню памятник Александру Герцену его работы, и барельеф «Пушкин и Мицкевич», – на мой взгляд, слегка напыщенный: у эпохи соцреализма были свои понятия о величии.
Так вот, на похоронах Ежи Терлецкого на кладбище в Банье произошел неожиданный скандал. Впрочем, почему неожиданный? Этого человека по жизни сопровождали бесконечные скандалы, можно сказать, он, как король скандалов, тащил за собой целый эскорт давно горящих или недавно вспыхнувших, а также затухающих интрижек, бесчинств, историй, анекдотов и драм. И все исключительно были связаны с его слабостью к слабому полу. Внешне Ежи ничего особенного собой не представлял. Физиономию имел скорее нагловатую, чем приятную, во всяком случае, мне всегда казалось, что эта его физиономия с порога сама себя и объявляла – знакомьтесь, мол, я принадлежу первейшему прохвосту. Но был он высок и широкоплеч, – вероятно, это что?то значит в дамском представлении о красоте мужчины? И был силен физически, как, собственно, и положено человеку его профессии. Одно время, помнится, увлекался карате, да не философией учения, а этой показушной чепухой, когда ребром задубелой ладони разбивают доски, кирпичи или что там под руку попадется… Потом он это бросил, но однажды я видел, как в окружении потрясенных дам Ежи разбивал ладонью какой?то там предмет, наверняка вполне еще полезный, – так, что веером вокруг летели мраморные осколки.
Короче, над его могилой сошлись в скорби, вернее, подрались на славу две его вдовы, симпатичные, хотя и не очень молодые женщины, совершенно незнакомые друг с другом, причем, каждая была убеждена, что является единственной законной подругой Ежи за последние десять лет его жизни.
Но не это самое примечательное и грустное в его истории; к этому, напротив, можно подойти даже с изрядной долей юмора, как и сделала «главная» его женщина, Руфка, одна из липовых вдов, которая до сих пор рассказывает о надгробном турнире всем желающим с милой бесшабашной улыбкой.
Самое печальное, я бы даже сказал трагическое, в истории Ежи, в бездумной истории его жизни – это два сына, брошенные им на произвол судьбы. Два сына, которых он никогда в жизни так и не увидел.
О существовании одного из них, «московского» сына, Ежи, кажется, совсем забыл, так как не платил на него алименты. Уж очень гордой оказалась мать этого ребенка, чтобы унизиться до просьб или судебных разбирательств. Известная переводчица с польского на русский, она и вообще была личностью в русской литературе заслуженной: это она с известным риском переправила в Польшу рукопись «Доктора Живаго» Бориса Пастернака, откуда потом ее переслали в Италию. Несколько раз мы с ней встречались в Москве, подолгу чаевничали. Ей было что рассказать. Ее сын от Ежи Терлецкого, Саша Большаков, стал физиком, доктором наук, и отлично обошелся без внимания такого никчемного папаши…
А вот на первого сына, Марека, рожденного некой польской девушкой Катаржинкой, Ежи платил увесистые алименты, как и положено, до совершеннолетия, – хотя сына в глаза не видал и даже признавать за своего не желал, скотина. А все из?за того, что страшно зол был на Катаржинку, которой виртуозно просто удалось заставить его платить. Вот послушайте, как она это проделала.
Забеременев от Ежи, к тому времени уже перелетевшего на другой цветок в поисках сладостной пыльцы, она написала ему письмо, в котором известила о своем, вернее, об их общем положении. Ежи взбесился, запаниковал и в ответном письме, по сути, приказал избавиться от ребенка – мол, у него нет ни времени, ни средств возиться с младенцами, и вообще, как пишут в таких случаях, – «мы разошлись, как в море корабли»…
Но эта самая Катаржинка, видимо, оказалась крепким орешком и далеко не дурой. И когда, положенное время спустя, Ежи вызвали в суд, он завертелся ужом, отбиваясь от отцовства и даже прозрачно намекая на якобы недостойное поведение истицы, которая, по его словам, уделяла внимание каждому, кто попросит, так что ребенок – он в этом убежден – не имеет к нему, высоконравственному Ежи Терлецкому, ни малейшего отношения.
После этих его слов судья (между прочим, женщина) извлекла из папки то самое, сильно помятое его письмо к Катаржинке.
– Тогда потрудитесь объяснить, – сухо поинтересовалась она, – какого черта вы вмешивались в чужие дела и требовали избавиться от ребенка, к которому не имели отношения?
Короче, Ежи, как и сам потом говорил, «обделался по уши». Ему присудили выплачивать алименты, и, кроме того, новорожденный получил фамилию отца. Знакомьтесь: Марек Терлецкий…
Алименты Ежи платил по закону, но о сыне и слышать не желал, а когда ему удалось слинять в Париж, то и вовсе забыл бы о его существовании, если б не изрядная сумма, ежемесячно сходившая с его банковского счета – автоматически, но чувствительно.
Но все это – зачин, так сказать, истории. А сама история начинается в начале восьмидесятых, когда уже взрослый и женатый сынок Ежи, Марек Терлецкий, перебрался с женой и двумя сыновьями в Швецию, стал там водителем автобуса, а для души в свободное время играл на гитаре в джазовом клубе. И, знаете, хорошо играл, – видать, унаследовал музыкальные способности отца. Ежи, по воспоминаниям моих родителей, сам любил присесть к фортепиано и сбренчать какую?нибудь популярную мелодию, что помогало ему охмурять прекрасный пол.
К тому же Марек прибился там, в Стокгольме, к землячеству польских евреев и активно участвовал в разных встречах, собраниях и благотворительных концертах. Словом, как раз в этом оказался полной противоположностью отцу – тот терпеть не мог с кем бы то ни было кооперироваться. И вот там, в этом землячестве, Марек Терлецкий повстречал одного старого парижанина, месье Лихтенштейна, который навещал в Стокгольме родственников. Они разговорились, Марек признался, что давно разыскивает своего отца, тот якобы тоже проживает в Париже, и вполне вероятно…
– Позвольте, а как его фамилия?
– Терлецкий.
– Ежи?! Господи, да я же с ним прекрасно знаком!
И хотя знал, что Ежи терпеть не может никаких упоминаний о своих отпрысках и сына не желает признавать, так расчувствовался, что решил дать Мареку адрес отца – не квартиры, само собой, а мастерской, в одном из маленьких переулков Латинского квартала.
К сожалению, наш добрый месье Лихтенштейн не умел держать язык за зубами, и, вернувшись в Париж, растрезвонил про свою доброту всем, на кого попадал, – моим родителям в том числе. Более того, он знал, когда Марек собирается приехать навестить отца.
От этой неожиданной напасти Ежи изрядно струхнул – в те годы у него уже стала развиваться паранойя, что все вокруг только и жаждут его обобрать – и удрал на все лето в Испанию, оставив ключи от ателье Руфке, своей главной любовнице.
Прибывший на нежную встречу с родителем Марек Терлецкий помотался по Парижу, съездил на экскурсию по замкам Луары и несолоно хлебавши вернулся в Стокгольм, перед отъездом бросив письмо в почтовый ящик на дверях мастерской.
Это письмо мне показала Руфка, она и вытащила его из ящика. Написано по?польски, и, читая, трудно удержаться от слез:
«Дорогой Отец! Мне от Тебя ничего не надо, я всем обеспечен, мечтаю только об одном: показать Тебе своих мальчиков, чтобы и у них был дедушка, которым они вправе гордиться»… – ну и так далее, еще полстраницы в том же роде.
Руфка понятия не имела ни о каких сыновьях, скрытный Ежи никогда ей ничего не говорил. По возвращении его из Испании она поскандалила, конечно, обещала спустить его с лестницы «за обман». Но потом все утряслось. В конце концов, дело давнее…
В последние годы жизни Ежи, как Адама Козлевича, охмуряли какие?то ксендзы. Они обещали ему устроить заказ на бюст папы римского, того самого, что был поляком. Такой заказ, мерещилось Ежи, уж точно принес бы ему мировую славу, это вам не портреты каких?то израильских президентов. К тому времени он успел наваять бюсты многих знаменитых людей, например, Чеслава Милоша, польского поэта и Нобелевского лауреата, но ему и того было мало, все казалось, что он недостаточно отмечен премиями и критикой.
Однако всем этим планам и мечтам не суждено было сбыться: Ежи хватил удар. Его прооперировали в парижской больнице Hotel?Dieu, но в себя он так и не пришел. Правда, когда я навестил его в палате интенсивной терапии, мне показалось, что он узнал меня и даже попытался поднять в приветствии левую, не отнявшуюся, руку… Но возможно, мне это только почудилось.
Между прочим, в палате на меня накинулись медсестры, выясняя, кто я такой и какое отношение имею к больному. «Тут все время шастают какие?то женщины, а кем ему приходятся – не разберешь. Понимаете, у нас в реанимацию только родных пускают… Неужели у него нет никого из родственников?»
– Да нет, никого, – сказал я. – Никого не припомню…
Через неделю все мы, знакомые и приятели скульптора, встретились на его похоронах. Приехал из Стокгольма и сын его Марек, извещенный о кончине отца все тем же сердобольным и хлопотливым месье Лихтенштейном.
И вот тут выяснилось, что, ввиду отсутствия письменного (равно как и устного) завещания, Марек Терлецкий – единственный законный наследник всего имущества Ежи, которое, собственно, заключалось в его скульптурах… Ксендзы, которые на похороны явились подозрительно монолитной группой, подкатывались к Мареку, утверждая, что Ежи будто бы завещал свои скульптуры польскому католическому центру, но за неимением документального тому подтверждения вынуждены были отвалить. Руфка, связанная с еврейским культурным центром в Париже, пробовала уговорить Марека подарить Центру хоть часть скульптур – тех, в которых можно было углядеть что?то более или менее еврейское. Но и она получила от ворот поворот, и даже не слишком вежливый.
После похорон отца Марек честь по чести получил от нотариуса соответствующий документ, подтверждавший его исключительные права на наследство, и Руфке, как ни противилась она, пришлось отдать ему ключи от мастерской…
…Пару недель спустя старик Лихтенштейн с ужасом рассказывал мне, что произошло в ателье Ежи Терлецкого в ночь перед возвращением его сына в Стокгольм.
– Вы даже вообразить не можете, что сотворил этот молодой вандал! Он разбил все скульптуры!
– Как разбил?! Чем?!
– Ну, в инструментах недостатка там нет. Скульптурный молоток, долото… не знаю, что еще скульпторы в работе используют. Перебил все абсолютно, осколки вынес в мешках на помойку.
– Но почему соседи… там же грохот ужасный стоял?
– Помилуйте, какие соседи? Мастерские ночами пустуют. А если кто и оставался на ночь, так шум и попойки среди этой публики кого могут удивить?
Он тяжко вздохнул и проговорил:
– Подумайте только: его и деньги не привлекли. Страшно представить, какая горечь скопилась в его душе!
Больше я ни о чем не спрашивал, да и особой охоты узнавать подробности, по правде говоря, не было никакой. Но перед глазами почему?то немедленно возникла картина: молодой Ежи ребром затвердевшей ладони рубит на куски перед восторженными дамами то ли скульптурку, то ли цветочный горшок… Вполне полезную вещь.
Зато некоторое время спустя в Париже вынырнул Саша Большаков, другой непризнанный сын Ежи Терлецкого. Приехал он на какую?то там конференцию по физике и (мать его к тому времени уже умерла) решил поискать следы своего незнакомого отца. Знаете, когда уходит старшее поколение, возникает нестерпимое желание разыскать хоть крупицы правды об их молодости, драмах, предательствах и любви. А тут еще после смерти Ежи я прислал Саше несколько молодых фотографий его отца, которые нашел в нашем семейном альбоме, два?три каталога выставок и вырезки из газет, – в те дни я и сам разбирал архивы собственного отца после его смерти. Для Саши все это было единственным доказательством связи между Ежи и матерью, не считая главного и самого значительного доказательства, отражаемого каждым зеркалом.
– Скажите, по?вашему, я похож на скульптора Терлецкого? – Это был первый вопрос, который Саша задал, встретившись со мной в Париже. – Вы считаете, я действительно его сын?
И казалось, никакие слова, никакие уверения до конца убедить его не в состоянии. Бог знает, почему это было так ему важно.
В первый же день он наведался по адресу бывшей мастерской Ежи. Постучал в дверь консьержа?алжирца, спросил – не здесь ли работал скульптор Терлецкий.
– Как же, как же, – последовал ответ. – Неплохой был мужик, хотя и странноватый. А вы, часом, не сынок ли его?
– С чего вы так решили? – оживился Саша.
– С чего?! Господи… Бера, иди?ка сюда! – позвал тот жену. – Смотри, парень спрашивает о месье Терлецки. Глянь?ка на лапы его, на плечи… – вылитый отец! Оказывается, у него еще сын был, ты подумай… Жаль, все наследство пропало. Братец ваш расстарался… Всю ночь долбил, как дятел. Я сначала думал – не вызвать ли полицию? А потом сказал себе: не лезь не в свое дело. В конце концов, он был законным наследником, не так ли? Значит, имел право с папашей счеты свести. – Он вздохнул: – А скульптур этих было… – и руками развел: – До потолка! Надо же, ни одной не пощадил. И чем это отец так его допек?
Цветок сливы
Ричарду Кернеру
…Я абсолютно уверен, что у каждого народа можно поучиться особой мудрости – поэтической. Разумеется, трудно проникнуть в культуру народа без знания языка. Но иной раз кое?что можно ухватить даже из такой «мелочи», как пословицы?поговорки, частушки?считалочки, какие?нибудь прибаутки или даже анекдоты. По части мелочей: есть такие формы творчества, которые присущи лишь данному народу. У японцев это хайку, коротенькие стихи.
Возьмите еврейские анекдоты. Они напрямую исходят из традиции мидрашей – кратких поучительных историй, содержащих вопрос, над которым стоит задуматься. Причем, ответ на вопрос часто содержится в самой истории, надо лишь мозгами пораскинуть.
Нечто похожее есть и у японцев – коан. Это крошечная загадочная зарисовка или неожиданный вопрос, такой, например: «Хлопнув двумя ладонями, ты извлекаешь звук. Но что можно извлечь одной ладонью?»
Ответ на это: «Вряд ли ты преуспеешь, если действуешь в одиночку». Поучительно, согласитесь?
А вот другой коан, посложнее: «В темную безлунную ночь по площади бредет слепец, держа перед собой зажженную лампу. На что она ему?»
И ответ… ни за что не догадаетесь: «Он?то, положим, ничего не видит, но зажженная лампа поможет зрячему, что идет навстречу слепому. Иной раз не мешает подумать и о других». О как! Тут уж пахнет кой?какой нравственной позицией.
Вообще, японцы часто прибегают к цитированию коанов или хайку, когда считают неудобным сказать человеку что?то прямо в лицо. Чтобы намекнуть на излишнюю болтливость собеседника, японец процитирует двустишие:
Вот уже опали лепестки вишни,
А мудрец все медлит с ответом…
Если же неловко говорить на какую?то тему, он процитирует известное двустишие:
Соловей просил Поэта: «Воспой стихами мои трели!»
Поэт же ответил: «Я ничего не знаю…»
К чему я морочу вам голову всей этой японской преамбулой? Простите мою многолетнюю учительскую привычку все разъяснять, разжевывать и предварять каждую историю предисловием. А рассказать я хотел вот о чем.
С месяц назад меня навестил в Париже мой японский коллега Икуо Согами, профессор Университета Киото.
Познакомились мы с ним давно, лет пятнадцать назад, на одном из конгрессов по теоретической физике (отлично помню его интересный доклад). Потом еще несколько раз встречались на других научных сборищах подобного рода в Париже, Нью?Йорке, Лондоне…
В последний раз – на конференции в Киото, где я и мой коллега из Марселя оказались единственными европейцами, при том, что более половины докладов прочитаны были на японском языке. К счастью, математические формулы универсальны во всем мире и кое?какой смысл отдельных выступлений все же удалось ухватить.
Пользуясь положением заслуженного профессора, Икуо раз в году путешествует то в Европу, то в Америку, участвует в семинарах и заодно навещает старых приятелей. Он написал мне по электронке, что собирается в Париж, спросил, могу ли я выделить время для встречи, – хотел показать свои последние статьи, посвященные физике элементарных частиц, и обсудить их. Я, конечно же, с радостью отозвался, пригласив его поужинать где?нибудь в уютном заведении.
Когда?то Икуо прожил несколько месяцев в Париже, тепло поминал улочки Латинского квартала, куда ходил обедать со своими французскими коллегами из Эколь Нормаль. Так что я повел его вечером на улицу Глиняного горшка (Pot de Fer), в знакомый ресторан «У Роберта». Я люблю там бывать… Знаете, живешь в какой?нибудь знаменитой европейской столице лет сорок, в твоем распоряжении бесчисленное множество ресторанов, кафе, тратторий, брассерий… Но ты непременно выберешь и обживешь пяток милых твоему сердцу и желудку заведений и всех гостей, приезжих родственников и дальних знакомых водишь туда из года в год. Сила человеческой привычки, что ли? А может, лучше сказать – рутина предпочтений.
Так вот, у Роберта подают традиционные французские блюда: улиток, петуха в красном вине, колбаски из свиных потрохов, говядину по?бургундски. Не пробовали? Она похожа на венгерский гуляш. Короче, мы провели приятный вечер, обсудили последние новинки из ЦЕРНа, потолковали о наших взглядах на будущее теоретической физики… и довольно плотно поужинали, не отказав себе в хорошем вине. Кажется, мой японский друг остался доволен, о себе я уж и не говорю – приятно вырваться из застенков домашней диеты.
На другой день Икуо, как положено приезжим, гонял по музеям и магазинам, а на третий, последний день его парижского гостевания, решил отблагодарить меня, пригласив в японский ресторан на одной из неприметных улочек, ведущих от площади Пантеона к Сене. Я пробовал отнекиваться, но выяснилось, что Икуо успел даже заглянуть туда и заказать на вечер столик на двоих.
– Должен же ты побывать в настоящем японском ресторане, – сказал он. – Большинство местных забегаловок, названных «суши?бар», содержат китайцы, что прикидываются японцами, а на кухне у них – арабы или индусы. Ничего общего с настоящей японской едой…
И вечером мы встретились в ресторане «У мэтра Кенжи». Нас проводили к лучшему столику, обращаясь к каждому по имени, с добавкой «сэнсэй».
Пока мы изучали меню, краем глаза наблюдая за тем, как японский повар аккуратно чистит и нарезает рыбу, миловидная официантка принесла нам по коктейлю с креветками.
– Это – в знак уважения, – объяснил Икуо. – Креветки – символ старого умудренного сэнсэя.
– Почему именно креветки?
Он улыбнулся:
– Они согнутые, как сгорбленные старики.
Сразу же нам в миниатюрные пиалы налили саке, рисовый алкогольный напиток, который ошибочно называют рисовой водкой или рисовым вином. Вы знаете, что саке полагается пить, когда его температура равна температуре человеческого тела, 36 градусов? Крепость напитка была, по нашим меркам, небольшой, градусов восемнадцать, но надо учитывать, что японцы вообще довольно чувствительны к алкоголю. И даже после мизерной его дозы разрумяниваются и веселеют, как европейцы после литра вина, а русские или поляки после пол?литра водки, только не рисовой, а настоящей. Но я опять пустился в свое учительство, простите!
Ну, пили?то мы умеренно: оба в возрасте и с набором родных болячек, да и саке в горшочке было всего грамм двести пятьдесят – воробьиная порция! Нарезанная тонкими ломтиками сырая рыба под соевым соусом, с рисом и с зеленым японским хреном «васаби» оказалась отменной, а после нее еще подали темпуру – это креветки, телятина и ломтики овощей в тесте, прожаренные в кипящем масле. Одним словом, объедение, да и только. Притом, что пища необыкновенно легкая.
Сначала мы поговорили все о той же физике, о знакомых, потом как?то невзначай перешли на семейные дела. Икуо спросил, есть ли у меня уже внучата? Больная тема! Я вкратце пожаловался на троих своих сыновей, двое из которых уже успели жениться и развестись, и лишь младший благополучно женат на своей школьной подруге. Но всем троим до сих пор как?то недосуг заводить детей, всеобщая европейская проблема, какая?то бездумность и безответственность – уж простите мою категоричность. Видимо, не суждено нам с женой испытать эти радости, которые, по рассказам многих, даже глубже и трепетнее, чем радости отцовства.
– Погоди, не горюй, – заметил Икуо. – Все еще может случиться. Вот послушай, что я тебе расскажу.
И он спокойно и даже бесстрастно, как и полагается представителю своего народа, поведал мне, что несколько лет назад они с женой пережили трагедию: внезапно умер их старший сорокалетний сын, оставив вдову – бездетную, так что эта ниточка рода оборвалась.
– Оставался у нас еще младший сын, которому тогда стукнуло тридцать девять, – тоже женатый, и тоже – как моя супруга говорила – «пустопорожний». Мы уж смирились с мыслью, что не увидим продолжения путей рода… И вдруг в прошлом году произошло чудо: наша невестка родила дочку! Невестка только на два года младше нашего сына, старовата для первородящей, но роды прошли благополучно, и вот… Дай?ка я тебе покажу!
Он извлек из внутреннего кармана пиджака бумажник, достал небольшую пластиковую карточку величиной с кредитку и протянул ее мне. Это была фотография внучки – крохотной японской куколки не старше шести месяцев, лежащей на роскошно вышитой подушке, обрамленной цветами… Само дитя было одето в миниатюрное, расшитое золотом красно?синее кимоно, а на почти лысой головке красовался капюшон, тоже расшитый цветами и украшенный бубенчиками.
– Это моя внучка, – с торжественной гордостью произнес Икуо.
– А как ее назвали?
– Юно, по имени древнеримской богини, супруги Юпитера. Мой сын помешан на древней мифологии с тех пор, когда еще комиксы читал. Но имя Юно и по?японски звучит неплохо.
– Она так изысканно разодета… – заметил я, рассматривая очень дорогой, судя по всему, наряд для такой крошки: ведь, как и все младенцы, она скоро из него вырастет. «Довольно затратно», – отметил я про себя.
– Это традиционный свадебный японский наряд, – пояснил Икуо с загадочной улыбкой.
Ну да, как я сам не догадался! Два года назад мы с женой побывали в Японии, в Киото, и в один из воскресных дней вышли пройтись по аллеям роскошного парка в центре города. И там, неподалеку от старинного храма, увидели несколько пар в ожидании обряда бракосочетания. Очень красочное зрелище: женихи в костюмах самураев, а невесты в шелковых, изумительно расписанных кимоно, в высоких головных уборах с бубенчиками. Едва слышный тоненький звон сопровождал шаги прекрасных девушек…
– Невестка придумала заказать специально для меня этот снимок, – проговорил Икуо, по?прежнему улыбаясь. – Вручая его мне, поклонилась, как подобает по традиции, в пояс, и сказала: «Многоуважаемый тесть мой, Икуо?сан! Да продлятся ваши годы до ста лет и больше! Но духи предков могут затосковать и призвать вас к себе раньше срока. И когда придет пора вашей внучке Юно ступить на свадебный ковер, может случиться, что вы не будете присутствовать на ее свадьбе, и это омрачит ее радость. Тогда я покажу ей этот снимок, чтобы она знала, что и вы видели ее в свадебном наряде, и значит, как бы присутствовали на ее свадьбе…»
Довольный и гордый дед, Икуо?сан вложил в бумажник фотографию внучки, подмигнул мне и вдруг нараспев произнес:
Помни, друг: в лесной глуши
Прячется сливовый цветок…
Даже произнесенные по?английски, эти строки были японскими по самой сути своей. Как и утешение моего коллеги. Я поблагодарил его за сочувствие и намек на счастливое будущее, и мы расстались наилучшими друзьями.
А утешение его подействовало на меня самым странным образом. Я полностью отдал себе отчет, что и мне не придется присутствовать на свадьбе внучки, тем более что она даже не родилась. И на душу легла еще одна прозрачная тень.
Дома я заглянул в Интернет и нашел тот загадочный, как все японское, неуловимо грустный стих Мицуо Басё, написанный в семнадцатом веке. Пожалуй, надо родиться японцем, чтобы понять его до конца:
Он дыни растил
В этом саду, а ныне –
Холод вечера тут.
Пальму посадил,
И впервые огорчен,
Что взошел тростник.
Помни, дружище,
В чаще лесной
Прячется сливы цветок.
Снег кружит, но ведь
В этом году – последний
День полнолунья.
Баргузин
Маргарите Черной
Имя такое – Баргузи?н – вы, конечно, слыхали? «Эй, баргузин, пошевеливай вал!» – это из песни; помните, в романе «Мастер и Маргарита» ее под управлением черта поет хор советских чиновников?
В песне имеется в виду могучий байкальский ветер, предвестник солнечной погоды. А есть еще река Баргузин, впадающая в Байкал, – места все на редкость живописные…
Но мало кто знает, что это и название старинного поселения на берегу реки, которое в середине семнадцатого века возникло как казацкий острог. Там родилась моя мама (хотела пошутить: «в остроге», да удержалась, а зря: настоящим острогом ее жизнь там и была). Но я забегаю…
Городок, значит, крошечный, одно название, вокруг на необозримые версты исконно местное население – буряты и орочи, всё отменные охотники и рыболовы. Можете вообразить, сколько зверья в тех лесах водилось: красный волк, манул, снежный барс, а главное, знаменитый баргузинский соболь; в реке и в озере полно нерпы да почти вымершего ныне омуля.
А сейчас – не возражаете? – чуток истории, вам не слишком известной. В первой половине девятнадцатого века Баргузин стал местом ссылки политических и неблагонадежных, короче, тех, кто представлял угрозу «устоям общества». Ну и бывших каторжан там поселяли, дальше ведь некуда, дальше – Китай. Чуть не первыми ссыльными были братья Кюхельбекеры; старший так и похоронен на Баргузинском кладбище.
И вот уж не знаю, по какой причине, но именно Баргузин стал местом ссылки многих опальных евреев.
Эти поселенцы, в основе своей образованная интеллигенция, оказавшись во власти здешних ледяных ветров, вынуждены были приняться за натуральное хозяйство да торговлю – как?то надо было выживать! И по мере освоения ими этих мест, а также с притоком населения городок расширялся и оживлялся неимоверно, ибо, помимо пушнины и соленого омуля, источником прибыли стали… правильно, золотые прииски!
Время шло, с годами стихийные торговые операции баргузинских перекупщиков и лабазников приобретали все более цивилизованные формы товарообмена, так что, несмотря на труднодоступность этого поистине медвежьего угла, к концу девятнадцатого века блеск золотых самородков привлек в Баргузин даже ушлых китайцев.
Странно, знаете ли… Вот я задумалась сейчас: русские поселенцы в городке надолго не оседали, уж и не знаю почему. Но факт остается фактом: «во глубине сибирских руд», в местечке, окруженном высоченными скалами Баргузинского хребта, на живописных берегах реки, берущей начало в отрогах лесистых гор, сложился такой вот своеобразный бурято?еврейско?китайский интернационал. И, знаете, вполне гармонично сложился. Может, природа этой «сибирской Швейцарии», с ее суровыми буранными зимами и обжигающе коротким летом способствовала гармонии такого необычного буддийско?иудейского симбиоза?
По воспоминаниям моей матери (к рассказу о жизни которой я скоро подберусь), жил этот «Вавилон в миниатюре» трудно, но дружно, во взаимовыручке и взаимоподдержке. Кстати, от матушки досталось мне в наследство материальное подтверждение еврейско?китайской кооперации тех времен – распавшееся на две половинки «безразмерное» золотое кольцо с драконом. «Потому и развалилось, – говорила она, – что беспримесное золото очень хрупкое».
Кольцо было заказано дедом для красавицы жены и сработано китайцем?ювелиром из золотого самородка, найденного на берегу реки кем?то из Майзелей самолично.
Вот мы и прикатились к моим таёжным предкам…
Первый баргузинский Майзель, с классическим именем Абрам, появился здесь во второй половине (если не в середине) девятнадцатого века. Семейная легенда всегда уклончива, но что у нас есть, кроме обрывочных сведений, поставляемых памятью предыдущих поколений? Так вот, по семейной легенде, Абрам Майзель, человек необузданного нрава, в молодости был замешан в политических беспорядках то ли в Польше, то ли в Германии, из?за чего был вынужден бежать в Россию – или бегать по России – выбирайте, что больше нравится. Но безудержный размах окаянной души привел?таки его в лоно народовольчества, и можно только догадываться, что совершил или по крайней мере замыслил этот неистовый человек, если в результате был закован в кандалы и отправлен по этапу в Сибирь.
История о кандалах и этапе даже печаталась в газете. Была ли это «Правда», «Сибирская правда» или «Баргузинская правда» (как и была ли это правда вообще) – припомнить не могу. Помню только мятую, полузатертую на сгибах страницу, которую довелось держать в руках. Давно это было, в подростковом возрасте, когда человеку плевать на историю семьи, корни рода и прочие стариковские глупости; так что содержание статьи из памяти улетучилось. Но вот портрет легендарного прародителя – «рэволюционэра», восстановленный по старинной фотографии (из этапных сопроводительных документов?) впечатлил на всю жизнь. С пожелтевшей газетной страницы на меня сурово смотрела совершенно разбойничья, даже зверская физиономия прадеда Абрама: свирепый взор из?под кустистых бровей, сходящихся на переносице орлиного носа, растрепанная борода… Насколько удалось мне позже выяснить, «политических» в кандалы не заковывали, а уж кандалы по всему этапу были уделом особо отъявленных головорезов. Так что склонна я думать, что в Баргузине прадед появился, выйдя на поселение с каторги. А уж за что на каторгу угодил… хотела бы я знать!
Что собой представлял Баргузин в годы, когда там нарисовался мой разбойничий предок? Словно какой?то магнит свободомыслия притягивал разномастных «ниспровергателей» к тем глухим таежным местам! По окрестным лесам там еще Кропоткин хаживал – будучи молодым офицером, участвовал в геологических экспедициях.
В конце девятнадцатого века в Баргузине уже проживало немало «политических» евреев, в том числе «бабушка русской революции» Брешко?Брешковская, впоследствии совершившая дерзкий, но неудавшийся побег. Поселилось здесь и разрослось высланное из Одессы семейство знаменитого талмудиста Новомейского, чей сын развернул золотодобычу во впечатляющих масштабах. Он владел несколькими приисками и неустанно стремился внедрить на них прогрессивные по тем временам технологии: даже отправил своего сына Моше учиться горному делу в один из лучших университетов Германии.
Но тут подоспела революция, национализировав все сибирские прииски и предприятия Новомейских, так что Моше, о котором в нашей семье поминали всегда с большим пиететом, бросив весь свой бизнес, включая первую в Сибири промышленную драгу, с большим трудом и хлопотами перевезенную из Англии, очень вовремя, в 1920 году перебрался с семьей туда, где пожарче, но поспокойнее – в Палестину. Да, вы правы: это тот самый Моше Новомейский, основатель химической промышленности Израиля, который, еще учась в Германии, увлекся идеей освоения минеральных чудес Мертвого моря.
Но вернусь к родне. Неудивительно, что при таком количестве «рэволюционэров» на душу всего лишь трехтысячного населения, к семьям ссыльных в Баргузине относились с уважением. Может, поэтому в основу семейной легенды баргузинских Майзелей и была положена «политическая» версия, которая потом, при советской власти, пришлась очень кстати, хотя от раскулачивания не уберегла.
Итак, возникнув «на карте местности», мой предок, бывший каторжник Абрам, огляделся, обустроился, основал крепкое хозяйство и, несмотря на устрашающе свирепый вид, женился на милой еврейской девушке, которая за короткий срок нарожала ему кучу детей, целый взвод крепких, жилистых и своенравных Майзелей – в том числе моего деда Александра.
Сам прадед Абрам Майзель протянул не слишком долго, – видимо, годы каторги свое взяли, а вот жена его прожила на диво долгую жизнь, сохранила хозяйство, подняла детей, пережила раскулачивание, ужасы Гражданской войны, в которую затянуло и перемололо почти всех ее сыновей, и хотя ослепла, оплакивая шесть гробов одновременно, прожила аж сто шесть лет! – до глубокой старости оберегая семью и хлопоча над многочисленными внуками.
Мою мать, свою внучку Гиту, она почему?то называла прокурором.
Вот я и добралась до истории моей матери, о которой не перестаю думать даже спустя годы после ее ухода: о жизни ее и поступках. Не было дня, чтобы хоть на мгновение я не задумалась о ее судьбе, о врожденном авантюризме, о сопротивлении обстоятельствам и азартном преодолении препятствий. О моем незадачливом рождении… Короче, о том, что не дает мне покоя уже много лет.
Матушка моя, Майзель Гита Александровна, родилась в семье Александра Абрамовича Майзеля и Ревекки Яковлены Потехиной, представителей последнего поколения «настоящих» баргузинских евреев: работящих, многодетных, истово привязанных к местности и своему хозяйству. Знаете, где я видала такие семьи? В израильских кибуцах, но не буду отвлекаться. В их семье все дети с малолетства были приучены к постоянному труду: кто стайки за скотом чистил, кто коней пас, кто за младшими приглядывал, кто за печью присматривал, кто – как старшие братья Яков и Иосиф – сено на зиму заготавливал. Хозяйство было не маленьким, зажиточным – и скот имелся, и кони, и подворье большое, так что работы хватало на всех.
Про своего отца Александра мать мало что рассказывала: он был немногословен и суров. А вот про свою маму, мою бабушку Риву, всегда говорила с обожанием, называла мудрой терпеливицей. Я?то не застала ни деда, ни бабушку, но их фотографии у меня и сейчас за стеклом книжной полки стоят: дед – почти точная копия Абрама Майзеля, бабушка даже в старости – библейская красавица с добрым усталым лицом. Между прочим, в семье так и продолжались два этих физиономических типа: либо по деду грубоотесанные «христопродавцы», либо по бабке, даже в смеси с другими кровями: хоть иконы Христа и Богоматери с них пиши. А вот в характерах многих Майзелей всегда доминировал авантюризм и свободолюбие предка Абрама.
Внешне мать в бабушку Риву пошла, очень красивая была! А вот по части характера огребла всю волю Майзелей, всю властность и презрение к любой рефлексии. Ее любимая фраза, ставшая кошмаром моих детских и юношеских лет: «Через тернии к звездам!» – произносилась ею на латыни по любому поводу. Самой ей этого семейного стремления «через тернии» к любой цели хватило сполна, чтобы вырваться из глухого таежного угла, выучиться в Иркутске на врача, стать «звездой Владивостока», влюбить в себя самого молодого и блестящего контр?адмирала Тихоокеанского флота… И разом потерять все в тот миг, когда я появилась на свет.
Но по порядку.
В школе она училась хорошо, но главное, выделялась такой артистичностью и бойкостью в драматическом кружке, что руководительница даже посоветовала ей ехать в Москву «на курсы чтецов» или что?то вроде этого. Дед Александр услышал эти новости не в лучшую минуту и прямо взбесился. Рявкнул: «Моя дочь – актерка?! Убью! Иди вон в стайку, Зорьку почисть…»
А она уже закусила удила, уже ощутила зуд в лопатках, уже поняла, что вся ее будущая жизнь будет погребена в стайке для скота.
Ночью собрала узелок с самыми необходимыми вещами, подговорила младшего брата Абрашку помочь ей и утром вышла из дому якобы «на минутку, к подруге». Дождавшись за околицей брата, она – без денег! на перекладных! попутками! – добралась до Иркутска, где поступила… в медицинский почему?то институт (может, именно там место в общежитии нашлось?), о чем, впрочем, никогда не пожалела.
Дед потом простил свою блудную дочь – не сразу, конечно, – но когда она приехала в гости уже дипломированным врачом; простил, обнял, поцеловал… и гордился всю оставшуюся жизнь. Но все это было потом, потом, а учеба ее пришлась как раз на годы Великой Отечественной, и мать, работая после лекций медсестрой в эвакогоспитале, успевала еще бегать в «студию Плятта», организованную при эвакуированном Театре Моссовета. И когда все успевала?
Специализацию выбрала она странную, мужскую: дерматовенеролог. Но эта специализация удивительно подходила к ее характеру: резкому, упертому, поистине мужскому. Никаких сантиментов!
После окончания института получила распределение в Тувинскую автономную республику: сифилиса и прочих «болезней от любви» там хватало. Об этих трех годах суровой практики у матери столько историй было! Она их охотно рассказывала в моем присутствии, ничуть не оберегая мое детское воображение от суровой прозы взаимоотношения полов. Наоборот. Вырастая при ней, я много чего из первых рук узнала в самом раннем возрасте и много чего понимала о настоящей, а не книжной жизни, за что до сих пор матери благодарна.
«Дали мне коня, благо я в седле с детства! – рассказывала мать. – Велели отправляться в какой?то отдаленный район. Прискакала я, значит, туда, смотрю: юрта, вокруг нее шаман бегает, в бубен колотит, а в юрте – женщина рожает, к потолку подвешенная… Ну и целых три года я жила одна в отдельной юрте – как королева Тувинская, – с шаманами сражалась, дважды отравления избежала, дважды в меня стреляли, вши чуть не заели меня до смерти… А сколько роскошной практики: сифилис, гонорея, триппер, твердый шанкр! Напрактиковалась на всю жизнь! Но простые тувинцы меня уважали, на прощание даже шубу подарили!»
Эту шубу, кстати, я отлично помню: из запрещенного к отстрелу соболя, тяжелая, маслянистая, черно?коричневая с золотистой искрой… она служила нам много лет.
Оттрубив в Туве, как положено, аккурат три года, матушка перебралась в Улан?Удэ, где какое?то время работала в железнодорожной больнице; и вот там некий пациент, попросивший у молодой, но опытной докторши тайную консультацию по «внезапной проблеме», настигшей его после дальнего рейса, – этот довольно высокопоставленный пациент предложил ей перевод во Владивосток.
Предложение по тем временам было заманчивым, даже ошеломительным: закрытый военный порт, дальневосточная надбавка к зарплате, хорошее снабжение, отдельная комната в коммунальной квартире, романтика, море… Наконец, моряки. Верх мечтаний молодой незамужней докторши.
Она согласилась, разумеется. Говорила: «И я открыла новую страницу своей жизни!» Она всегда была немного экзальтированна, и все это как?то уживалось с профессиональной врачебной жесткостью и насмешливым цинизмом.
Тут надо бы как?то описать, как?то «нарисовать картинку», чтобы вы ощутили уникальную, овеянную морской романтикой атмосферу Владивостока тех лет, – закрытого тихоокеанского форпоста, украшенного кумачовыми растяжками со знаменитой ленинской цитатой: «Владивосток далеко, но город?то нашенский!»
Несмотря на закрытый режим, культурная жизнь города была гораздо богаче и насыщенней иных центральных и вполне открытых городов Союза. Известные артисты – музыканты и эстрадники – стремились на гастроли перед восторженно?благодарными ценителями искусства гостеприимного и щедрого города. Слава труппы местного драмтеатра гремела по всему Дальнему Востоку, интеллигенция и офицеры флота встречались на литературных и музыкальных вечерах в Доме офицеров – своего рода элитном клубе, по роскоши и блеску уступавшему только легендарному ресторану «Золотой Рог», где кутили вернувшиеся из дальних походов моряки и их шикарные подруги – как правило, выпускницы Института искусств и гуманитарных факультетов Дальневосточного университета… А летом ко всему этому культурному пиршеству добавлялись еще и радости приморской жизни: ежевечерние променады по набережной, выезды на дальние бухты с экзотическими названиями Шамора и Юмора (загорать на городских пляжах считалось тривиальным), а также поездки в живописнейший Сихотэ?Алинский заповедник ради изысканного зрелища: цветущих лотосов.
И в этом?то городе моя матушка, как перспективный молодой специалист, получила комнату с балконом в просторной коммуналке: всего на шесть семей две кухни и два санузла – невероятная роскошь! – в доме, у жителей Владивостока известном под названием «Серая лошадь» (то ли скульптуры лошадей на фронтоне поспособствовали странному названию, то ли цвет формы железнодорожников, основных обитателей этого ведомственного жилья).
А ведь это и вправду была «новая страница» в ее судьбе!
Она быстро обустроилась, моментально обросла подругами и целым штатом поклонников (ее собственные усмешливые слова: «самцов всегда хватало!») и зажила жизнью молодой светской львицы.
Одевалась моя матушка всегда стильно, что показалось бы удивительным тем, кто знал истоки ее судьбы, начавшейся в стайке для скота. За новыми нарядами, пользуясь, как врач железнодорожной поликлиники, бесплатным проездом в любой конец страны, наведывалась в Рижский Дом моды. Ее подруги рассказывали мне, уже после ее смерти, что соседки по «Серой лошади» караулили каждый матушкин выход из дома: «фасончик слизать».
Она регулярно посещала литературные вечера в Доме офицеров флота, да и сама участвовала в театральных постановках, где с удовольствием и немалым успехом декламировала. Вот где выплеснулся, где расцвел ее задавленный сценический дар! Особой популярностью пользовались в ее исполнении сцена расставания Катюши Масловой с Нехлюдовым, сцена у фонтана Марины Мнишек с Лжедмитрием и поэма Ольги Берггольц «Ленинградский метроном». Тексты эти помнила до глубокой старости.
В ее ближний круг входили известные в городе артисты, журналисты, врачи. Да она и сама считалась одним из лучших врачей в своей области…
Словом, жила «звезда Владивостока» красиво, элегантно и весело. А вот замуж выйти как?то не получалось. То ли характер был слишком уж независимый и резкий, то ли принца своего не встретила, но годам к тридцати пяти стали ее навещать обычные мысли нормальной бабы про то, что молодость не вечна, что годы летят; про тот самый пресловутый стакан воды в старости…
Всю жизнь моя мать привыкла ставить перед собой цели и добиваться их. Вот и к новой цели – родить ребеночка – она устремилась в свойственной ей манере: не сломя голову, а выстроив четкий план. Сама мне в этом неоднократно признавалась, никогда не скрывала, никогда не накидывала романтический флер на свои мысли и поступки. Ее знаменитая фраза «самцов всегда хватало!» так и звучит в моих ушах. Но тут ведь не о самце речь шла, а об отце будущего ребенка. Уж если рожать для себя в плановом, так сказать, порядке, так, конечно же, от производителя с высокими качественными параметрами: чтоб и здоровье отменное, и интеллект какой?никакой, и внешне… чтоб материнские гены не подпортил. Мужчинку с таким сочетанием физических и умственных качеств в условиях Владивостока можно было найти – где? А вот где: среди штурманов дальнего плавания. Они и морем закалены, и медкомиссию регулярно проходят, и профессию имеют нешуточную, не для дураков.
План этот требовал перемещения из железнодорожного ведомства в морское, а именно – в медкомиссию поликлиники Дальневосточного морского пароходства, через которую проходил практически весь «плавсостав». Место блатное, попасть туда непросто. Но препятствий на своем пути матушка не признавала. Она их сметала чуть ли не силой мысли. Для решения задачи были задействованы все связи, не говоря уже о личном обаянии и бешеном напоре, перед которым рассыпались любые преграды и никла чужая воля. Так что и эта, промежуточная, вершина вскоре была покорена.
Дело теперь оставалось за малым: просканировать кадры и выбрать оптимальный вариант «производителя», а уж в своих способностях очаровать и влюбить в себя кого угодно матушка никогда не сомневалась.
Довольно часто я рассматриваю ее фотографии того времени. Они черно?белые, поэтому ни глубокой синевы ее выразительных глаз, ни изумительного цвета лица на них не видно. Однако именно бескомпромиссная черно?белая картинка дает бесстрастный отчет о гибкой фигуре, пышной волне черных блестящих волос и улыбке, сопротивляться которой просто невозможно.
Не знаю, как долго длился процесс изучения потенциальных отцов, но в результате выбор пал на идеального, по мнению матушки, кандидата: статного красавца эстонца, будущего капитана дальнего плавания.
Матушка никогда особо о нем не распространялась и считала, что мне не обязательно знать подробности. Думаю, будь ее воля, она вообще представила бы мое появление на свет результатом непорочного зачатия. Из тех скудных сведений, что удалось мне вытянуть из нее в минуты хорошего настроения, я поняла лишь, что на момент их короткого романа «производитель» был женат и имел трехлетнюю дочку. Все это матушку устраивало: дочка – подтверждение способности стать биологическим отцом, семья – предлог для ее отказа от дальнейших отношений. Правда, гораздо позже подруги матушкины рассказывали, что скромный немногословный «донор» был настолько ослеплен вниманием к нему «звезды Владивостока», что ради нее готов был расторгнуть свой брак.
Я так и не узнала, как его звали – мать упорно молчала. По воспоминаниям ее подруг, непривычное какое?то имя – то ли Хольгер, то ли Хярмель… Все звали его просто Женя. После романа с матушкой – ослепительной вспышки, озарившей его сдержанную жизнь, – он вернулся в семью и впоследствии стал отцом еще двух девочек. Так что где?то у меня есть три сестры… Был период, когда я порывалась их найти и каждый раз натыкалась на непонятное яростное сопротивление матери. А сейчас уже, как говорится, ушел поезд. Ну сестры… Ну и что? Что, в конце концов, такое – все эти ДНК, или что там идентичное в крови и внешности чужих друг другу людей?
Словом, матушка своего добилась: после нескольких встреч она с торжеством удостоверилась, что беременна. Оставалось лишь благополучно выносить и родить дитя, а дальше… Дальше ее ожидали счастливые материнские заботы.
И вот тут жизнь отвесила ей оплеуху! Она впервые влюбилась… Влюбилась так, что все ее способности планировать, командовать, настаивать и добиваться покатились куда?то к чертям!
Они встретились на вечеринке у общих друзей и через час просто ушли вместе, не в силах разнять сцепленных рук. Он был самым молодым контр?адмиралом Тихоокеанского флота, ей даже имя его – такое нарядное, броское: Борис Орестович Корсак! – кружило голову. Красавцем не был, и роста невысокого, но обаятелен чертовски, галантен, выправка чеканная… Смоляные волосы, тонкий нос, жгучие черные глаза, порывистые движения, очаровательный юмор… Одним словом, блестящий офицер! Они чем?то даже были с матушкой похожи – замечательная пара. Роман был стремительным и бурным. Потерявший голову контр?адмирал давал в матушкину честь «салют со всех тихоокеанских кораблей», заваливал ее подарками, конфетами и ежедневными корзинами цветов…
Стоит ли говорить, что матушка мгновенно развернула на сто восемьдесят градусов все еще «путавшегося под ногами» эстонца в сторону прежней семьи, чтобы даже на фоне картинки случайно не возникал, и…
Вот тут эта умнейшая хладнокровная женщина дала слабину, совершила главную ошибку своей жизни. Она представила Борису зачатого с эстонцем ребенка плодом их, с Борисом, сумасшедшей любви!
По некоторым проговоркам знаю, что незадачливый и ни в чем не повинный «производитель» несколько раз предпринимал попытку выяснения отношений, за что на всю жизнь получил в ее устах клеймо «бастарда» (возможно, она не вполне понимала, что «бастардом» был как раз не он, а я, так лихо и так глупо зачатый ею ребенок). Словом, «бастард» сопротивлялся и не желал своих позиций уступать. Ей пришлось даже задействовать все доступные ей рычаги и связи, чтобы перевести его – правда, с повышением, – в Южно?Сахалинское пароходство, где потом много лет он протрубил капитаном дальнего плавания.
Стоит ли говорить, что на протяжении всей беременности матушка была окружена трепетной заботой контр?адмирала. Он практически ушел из семьи, бросив жену и двух подростков?сыновей. Единственная незадача: матушка уже дохаживала срок, когда Борис Орестович вынужден был отправиться на пять месяцев командовать каким?то учебным походом, так что в роддом на Тигровой горе матушка отправилась одна, пешком – благо, недалеко было.
И вот я родилась…
Думаю, это было самым тяжким ударом в ее жизни. Почему?то она решила, и все эти месяцы себя уговаривала, что жгучая еврейская кровь возобладает над прохладной прибалтийской, и внешне ребенок пойдет в ее родню, заодно напоминая и Бориса… Но вопреки ее уверенности, я родилась беленькой, сероглазой, «чужой» – точной копией «бастарда» и полной противоположностью матери. В роддоме все умилялись, поздравляли ее и нахваливали «беляночку», «одуванчика», мать же окаменела… Ее дневник сохранился до сих пор, она даже и годы спустя не сочла нужным вымарать эту запись – ей всегда было плевать, кто и что о ней подумает, пусть даже это и была я, ее единственный ребенок. Иногда я листаю этот дневник, размышляя, отчего же она не уничтожила его? В дате записи ошибиться невозможно, это день моего рождения: «Вся в него, в этого бастарда! Как я его – мужлана, чурбана этого! – ненавидела всю беременность! Все меня поздравляют, радуются за меня, и никто не знает, ЧТО сейчас творится у меня в душе!»
А контр?адмирал из своего учебного похода слал ей горячие письма с глубоким подтекстом, захлебывался в страстных признаниях в любви и мечтах «поскорее увидеть свою малышку», для которой, во время захода эскадры в Индонезию, «папа купил прелестное платьице!». Мать это платьице потом всю жизнь берегла как самую драгоценную реликвию, периодически извлекая из красивой картонной коробки и приговаривая: «Это тебе контр?адмирал из Индонезии привез!», а я в юности никак понять не могла – ну адмирал, ну из Индонезии, ну красивое… Что ж так трястись?то над ним?
И вот он вернулся! И прямо с корабля – к ней, вернее, к ним – к его дорогой возлюбленной и дорогой малышке…
Я часто пыталась представить себе этот момент: как он трезвонит, не отрывая пальца от кнопки звонка, врывается, обхватывает ее в прихожей, как бросается в комнату, склоняется и замирает над моей кроваткой… И каждый раз мое воображение смущенно отступало, тушевалось, как бы отворачиваясь от этой кощунственной сцены.
Странно, что из всех его писем – пылких, горячечных, влюбленных – она оставила не уничтоженным только это, холодно?вежливое письмо, жирную точку над «и», будто хотела, чтобы оно всю жизнь напоминало ей… о чем? О провале блистательного плана? Или служило бы неким бичом, дабы хлестать себя по плечам, по щекам до конца жизни?
Там всего несколько предложений, довольно бесцветных для такой силы оскорбленных чувств. Видимо, контр?адмирал, истинный джентльмен, офицер, настоящий мужчина сдерживал себя из последних сил, чтобы не затоптать женщину, которую любил, не уничтожить словом. Неинтересное, в сущности, письмо: мол, «ты сама понимаешь, что после такой чудовищной обдуманной лжи отношения между нами более не могут…» и так далее.
Ничего, она выжила… Она всегда выживала.
В графу «отец» моего свидетельства о рождении вписала какого?то никому не известного Черного Леонида Семеновича – бог весть, что это был за фантом.
Работала тяжело, меня поднимая, всегда прихватывала лишнее дежурство – непросто было одной, веселая жизнь «звезды Владивостока» закончилась по всем статьям. Наверное, могла бы устроить свою судьбу – кажется, так оно звучит? Но не устроила, – хотя еще много лет была в отличной форме и, по любимой ее присказке, самцов по?прежнему хватало. Никто, никто ее не задел…
Когда – уже глубокой старухой – она в беспамятстве уходила из жизни, много дней внятного слова не произнося, перед самым концом вдруг позвала ясным голосом:
– Борис! Борис! Не уходи…
Между прочим, мне?то жаловаться не на что, она была хорошей матерью: старалась дать наилучшее по тем временам образование, с шести лет водила на фигурное катание, на музыку. Определила в самую престижную на Дальнем Востоке английскую школу. С четвертого класса на все лето отправляла меня в лучший лагерь «Моряк», а позже, когда я подросла, брала с собой в разные путешествия: то на целый месяц через всю страну на туристическом поезде, куда на время отпуска устроилась врачом, то на корабль, в тур «По островам и землям Дальнего Востока»…
Да, она была хорошей строгой матерью, всегда с гордостью подчеркивала, что держит меня в «ежовых рукавицах». И это, ей?богу, было нелишним: росла я своевольной, настырной дерзкой девчонкой: все ж на какую?то часть да унаследовала характер таежных Майзелей – характер, без которого никто бы из них не выжил там, у подножия Баргузинского хребта.
Иерусалим, сентябрь, 2015 г.
Тополев переулок
Софье Шуровской
1
Тополев переулок давно снесен с лица земли…
Он протекал в районе Мещанских улиц – булыжная мостовая, дома не выше двух?трех этажей, палисадники за невысокой деревянной оградкой, а там среди георгинов, подсолнухов и «золотых шаров» росли высоченные тополя, так что в положенный срок над переулком клубился и залетал в глубокие арки бесчисленных проходных дворов, сбивался в грязные кучи невесомый пух.
Чтобы представить себе Тополев, надо просто мысленно начертить букву Г, одна перекладина которой упирается в улицу Дурова, а вторая – в Выползов переулок. В углу этой самой буквы Г стоял трехэтажный дом с очередным огромным проходным двором, обсиженным хибарами с палисадниками. Дом номер семь. Обитатели переулка произносили: домсемь. Это недалеко, говорили, за домсемем; выйдете из домсемя, свернете налево, а там – рукой подать.
Рукой подать было до улицы Дурова, где жил своей сложной жизнью знаменитый Уголок Дурова. Каждое утро маленький человечек в бриджах выводил на прогулку слониху Пунчи и верблюда Ранчо, так что в Тополевом переулке эти животные не считались экзотическими.
Рукой подать было и до стадиона «Буревестник», – в сущности, пустынного места, куда попадали, просто перелезая через забор из домсемя.
Рукой подать было и до комплекса ЦДСА – а там парк, клуб, кино; зимой – каток, настоящий, с музыкой (у Сони были популярные в то время «гаги» на черных ботиночках), летом – желтые одуванчики в зеленой траве и пруд, вокруг которого неспешно кружила светская жизнь: девушки чинно гуляли с офицерами.
Рукой подать было до знаменитого театра в форме звезды, где проходили пышные похороны военных. На них, как на спектакли, бегали принаряженные соседки. А как же – ведь красота!
Смена времен года проходила на тесной земле палисадников. Трава, коротенькая и слабая весной, огромно вырастала ко времени возвращения с дачи в конце августа и всегда производила на Соню ошеломляющее впечатление, как и подружки со двора, которые тоже вырастали, как трава, и менялись за лето до неузнаваемости. Осенью и весной на оголившейся земле пацаны играли в «ножички»: чертили круг, где каждый получал свой надел, и очередной кусок оттяпывался по мере попадания ножичка в чужую долю. Когда стоять уже было не на чем и приходилось балансировать на одной ноге – как придурковатому крестьянину на картинке в учебнике, – человек изгонялся из общества. Хорошая, поучительная игра.
Еще в палисадниках росли шампиньоны, их собирала Корзинкина задолго до того, как в культурных кругах шампиньоны стали считаться грибами. Скрутится кренделем, высматривая под окном белый клубень гриба, а сама при этом с сыном переругивается: «Ты когда уже женишься?» – «А когда ты, мать, помрешь, тогда и женюсь. Жену?то приводить некуда». Сын, мужчина рассудительный, сидел у окна и с матерью общался – как с трибуны – с высоты подоконника.
На Пасху палисадники были засыпаны крашеной яичной скорлупой – зеленой, золотистой, охристой, фиолетовой; радужный сор всенародного всепрощения. А когда соседи Бунтовниковы раз в году принимали гостей на Татьянин день, вся семья выходила в палисадник и чистила столовые приборы, с силой втыкая в землю ножи да вилки. Будто шайка убийц терзала грудь распятой жертвы.
* * *
Окрестности Тополева все состояли из проходных дворов – бесконечных, бездонных и неизбывных, обсиженных хибарами.
Эти прелестные клоповники, большей частью деревянные, в основном заселяла воровская публика. Редко в какой семье никто не сидел. В детстве это почему?то не казалось Соне странным: жизнь, прошитая норными путями проходных дворов, вроде как не отвергала и даже предполагала некую витиеватость в отношениях с законом.
Впрочем, были еще татары, более культурный слой населения. Их ладная бирюзовая мечеть стояла на перекрестке Выползова и Дурова. По пятницам туда ходили молиться чистенькие вежливые старики – в сапожках, на которые надеты были остроносые галоши, а по праздникам толпилась молодежь (искали познакомиться), молитвы транслировали на улицу, и трамвай № 59 всегда застревал на перекрестке. По будням у мечети продавали конину, шла негромкая торговля, хотя не все одобряли этот промысел: что ни говори, лошадь – друг человека.
Но присутствие мечети оказывало на текущую жизнь даже облагораживающее влияние: в 56?м, например, их края посетил наследный принц Йеменского королевства эмир Сейф аль?Ислам Мухаммед аль?Бадр – во как! К приезду шах?ин?шаха с женой Суреей за одну ночь был не только асфальтирован Выползов переулок, но и покрашены фасады ближайших домов. Так что Тополев был, можно сказать, в гуще политических событий.
А на углу Дурова и Тополева стояло здание ГИНЦВЕТМЕТа – Государственного института цветных металлов. За высоким забором виднелся кирпичный ведомственный дом для специалистов – там жила интеллигенция. Дом был привилегированный, как бы отделенный от остального населения Тополева переулка. Например, Сонина семья жила в отдельной квартире. Но без телефона. Телефон был в коммуналке на втором этаже, туда маме и звонили; соседка Клавдия стучала ножом по трубе отопления, и мама ей отзывалась – под ребристой серебристой батареей всегда лежал наготове медный пестик. Клавдия степенно говорила в трубку:
– Минуточку! Сейчас она подойдет…
Эту квартиру – огромную, двухкомнатную – они получили в те времена, когда папа занимал должность замдиректора института по научной части. Мама говорила, что ученый он был талантливый, но несчастливый. По складу интеллекта – генератор идей. Изобретал процессы, опережающие возможности технологий лет на двадцать. До внедрения многих не дожил. В эпоху расцвета космополитизма однажды вечером домой к ним пришли истинные доброжелатели, и папе было предложено… В общем, эта тихая сдавленная речь в прихожей выглядела в маминой передаче примерно так: «Мы вас, Аркадий Наумыч, ценим и не хотим потерять. Пока под нами огонь не развели, уйдите по собственному желанию». Папа так и сделал: взял лабораторию. В детстве Соня не понимала, как это делается: «взять лабораторию». Представляла, как папа берет под мышку всех сотрудников, чертежные столы, приборы, целый коридор на втором этаже… и гордо уходит вдаль. Чепуха! А спросить у него самого возможности уже не было: папа умер, когда Соне было лет пять. Папа умер, но его семья – мама, Соня и сильно старший брат Леня – осталась жить в той же двухкомнатной квартире. И все осталось прежним: в большой комнате стоял круглый стол на уверенных ногах, всегда покрытый скатертью, которой мама очень гордилась – коричневого грубого бархата, с тонкой вышивкой темно?золотой нитью. На тяжелом рижском трельяже стояли две фарфоровые фигурки стройных девушек в сарафанах. Натирая мебель, домработница каждый раз ставила их на двадцать сантиметров правее, чем нравилось маме. И каждый раз мама молча их переставляла. Это продолжалось годами…
* * *
Пальчиков, Барашков, Самарский, Выползов – лет через пятьдесят имена всех этих переулков будут звучать для Сони далекой щемящей музыкой…
Кстати, музыку любили все, отовсюду неслись обрывки песен, маршей, оперных и опереточных арий, концерты по заявкам радиослушателей. Концерты устраивала и сама общественность во дворах. Дядя Леша, наборщик в типографии «Правда», брал свой зеленый перламутровый аккордеон и, положив на него седую голову, чуть ли не со слезами в выпученных за стеклами очков глазах выводил в самом верхнем регистре одно и то же – «По диким степям Забайкалья».
На второй этаж домсемя вела железная наружная лестница. Там усаживались все желающие, артисты наряжались кто во что горазд. Подружка Лидка влезала к себе в открытое окно, ставила на полную громкость пластинку, и концерт начинался: «Летите голуби, лети?и?и?те…»
У Лидки особенно красиво получались тягучие жалостливые песни, у нее было пронзительное сопрано:
Льется и льется,
Словно года,
В диких криницах
Чудо?вода…
Все были талантливы и постоянно воодушевлены. Вова Сулейманов, мальчик толстый, рыхлый, залюбленный мамой и старшими сестрами, складывал грудки до образования ложбинки, перетягивался мамкиным хохломским платком (платье до полу!), объявлял сам себя: «Выступает Маргарита Луговая!» – и запевал:
Вот вспыхнуло утро,
Румянятся воды,
Над озером быстрая чайка летит.
Ей много свободы
И много простору…
Луч соо?о?о?о?лнца у чайки крыло серебрит…
Да какой там, к черту, Робертино! Не выдерживали даже взрослые: «Маргарите Луговой», чтобы не обижалась, давали посолировать пару куплетов, а затем вступал весь двор. Это было сверхмощно! И только пух тополиный взлетал и опадал в такт вздымавшимся грудям.
Стоит ли говорить, что все запросто хаживали друг к другу, помогали в большом и в малом, ссорились, мирились, выпивали, сплетничали, ибо знали друг о друге все самое сокровенное.
И уж если мы о сокровенном…
* * *
…Но сначала – про семью. После папиной смерти их трое осталось: мама, Соня и Леня, брат. Вернее, так: сначала Леня, а пото?о?о?ом уже Соня – на выдохе, как говаривала мама, «женской карьеры». Она любила повторять: от первого мужа у меня сын, от второго – дочь и инфаркт. Леня был невысоким, улыбчивым, с детства помешанным на бабочках. Странно, что при этом закончил он военно?морское училище в Ленинграде, после которого получил распределение на Север – Шпицберген, Новая Земля, Североморск… Так далеко от Тополева переулка! В Москве бывал в командировках, а в отпуск ездил ловить бабочек, какого?нибудь эндемика, что водится на единственном холме за некой маленькой армянской деревней. Однажды был арестован – в трусах и с сачком – в двух шагах от государственной границы. Оттуда связались с его командованием, и те сказали: «Не сомневайтесь, это наш сумасшедший в отпуске»… В Сонином детстве, приезжая в командировку, Леня (форма черная, с золотом, и кортик!) катал ее на лодке в парке ЦДСА и врал?пугал, что не умеет плавать.
Однажды – Соне было лет шесть – он взял ее в гости к известному энтомологу. Тот жил в двух огромных комнатах в бездонной коммуналке где?то на Патриарших, и все стены двух этих комнат от пола до потолка были зашиты стеллажами, на которых вплотную, ребрами, стояли плоские белые коробки, так что казалось: со всех сторон ты окружен глухой стеной. Хозяин по одной вынимал из строя совершенно одинаковые коробки с какими?то скучными капустницами, какие миллионами летали на даче, и Леня потрясенно ахал, вскрикивал, цокал языком…
Наконец брат вспомнил о ней, сказал: «Ах, да, у меня тут сестренка. Не могли бы вы ей что?то показать?»
Тот досадливо пожал плечами, буркнул: «Ну, что ж… вот, пожалуй, это?»
Подошел к противоположной стене, завешенной длинным белым занавесом, отдернул его…
Там прямо на стене висели застекленные коробки с дивным, ошеломительным, дух захватывающим миром! Вероятно, это были не бабочки, такими бабочки быть просто не могли: радужные веера, индийская мечта, волшебный фонарь, цветные россыпи драгоценных камней, – вот что это было! Соня как вкопанная стояла с застрявшим в горле вздохом и смотрела, смотрела, глаз не могла оторвать.
Минут через пять, почти не глядя, хозяин машинально задернул занавес, и они с Леней вернулись к своим скучным капустницам. И долго еще Леня продолжал рассматривать коробки с унылыми белыми капустницами, восхищенно охая и качая головой.
2
Персонажи Тополева переулка за годы после его исчезновения не изгладились из Сониной памяти ничуть, и даже ничуть не потускнели. Они вспоминались в некой перспективе – бесконечный пульсирующий клип, смонтированный из вспышек памяти, пронизанного солнцем тополиного пуха и развесистой лепнины алебастровых июльских облаков.
А на заднем плане – утренний неспешный караван: слониха Пунчи с хоботом, закрученным вверх, как ручка чайника, и верблюд Ранчо с угрюмо?неподкупным лицом. Взрослея, старея, никогда уже теперь не умирая – теперь, когда стремительно преобразились все прежние сущности и возникли новые, невиданные и немыслимые в ее детстве и юности, – персонажи Сониного детства менялись, в то же время оставаясь самими собой.
Например, Лидка?вруха, главная Сонина подружка из домсемя, так и осталась тощей дворовой девчонкой, уверявшей, что папы у нее нет, потому что стоит он в карауле у Мавзолея, и одновременно – молодой женщиной с младенцем на сгибе полной белой руки. Ибо Лидка выросла, стала пригожей, вышла замуж за мелкого сотрудника то ли МИДа, то ли КГБ – что?то из низшего звена, – которого звали замшелым именем Полуэкт. У них все мальчики в роду должны были называться Полуэктами. Лидкин муж, таким образом, звался Полуэкт Полуэктович, словно какой?нибудь купец из пьесы Островского. И когда у Лидки родился сын, он своим должностным порядком тоже назван был Полуэктом – против семейной традиции не попрешь. А вскоре Лидкиного мужа командировали в Париж – то ли охранником, то ли шофером, то ли топтуном каким при посольстве, и Лидка, покачивая мальчика на сгибе полного локтя, нежно сдувая ресничку с его округлой щеки, вдохновенно твердила, как это здорово, что именно Париж, потому что в Париже Полуэктик будет – Поль!
Синдоровские, семья гордых поляков – все высокие, поджарые, надменные! – жили в доме ГИНЦВЕТМЕТа. У них и прислуга Нюра была такая же поджарая и высокая. Клавдия, которая знала всё обо всех, уверяла, что «сам» каждый день берет на работу свежий, накрахмаленный Нюрой носовой платок, и если тот не выглажен безупречно, молча сминает и швыряет в грязное…
В той же квартире огромную комнату занимала Пиковая Дама – старая, прокуренная, плоская, как вырезанная из фанеры, в длинной юбке, с вылезшей лисицей на плечах. (Интересно: она и летом с лисицей ходила или просто Сонина память выбрала для клипа именно эту картинку?) Во дворе говорили, что Пиковая Дама – бывшая фрейлина, но позже Соня пришла к выводу, что это миф, ибо и в детстве и в юности встречала подобных женщин с якобы дворцовым прошлым. Видимо, для простонародного воображения в этом сюжете по?прежнему таилась некая притягательная тайна.
Соню прошлое Пиковой Дамы не интересовало ничуть, зато интересовала ее дочь – мощная женщина с львиной гривой, которая и мужчин себе подбирала, как лев выбирает себе добычу, лениво отбрасывая лапой жертву. Однажды Соня с Лидкой?врухой самолично видели, как по аллее парка ЦДСА шла дочь Пиковой Дамы, а за нею отчаянной припрыжкой, робко хватая ее то за руку, то за плечо, следовал мужчина. Наконец он забежал вперед и как?то внезапно повалился ей в ноги (Соня уверяла Лидку, что споткнулся, та божилась, что рухнул в мольбе!). Это и само по себе было чертовски захватывающим, но то, что за этим последовало, сразило девочек наповал: Львица просто переступила через лежащего ухажера и, не сбавляя шагу, но и не прибавляя его, и не оглядываясь, последовала дальше.
В их квартире жил великан: внук Пиковой Дамы и сын или племянник Львицы, по имени Сергей – очень красивый мальчик очень высокого роста. В десять лет он вымахал с нормального мужчину. В пятнадцать был выше всех в Тополевом переулке. В семнадцать стал настоящим гигантом, так что в городском транспорте мог только сидеть.
* * *
А отдельной блескучей закладочкой в памяти – Коля, первая любовь еще с того дня, когда во дворе (им с Соней было лет по пять), Коля авторитетно сообщил ей, что весь мир состоит из желтка.
Он жил в соседнем подъезде и был гениален от рождения: писал стихи, рисовал, вечно читал какие?то научно?популярные книжки. Учитель физкультуры ходил за Колей по пятам, умоляя семью отдать мальчика в профессиональный спорт, потому что «такая прыгучесть встречается раз в сто лет».
Лет с девяти он учил какие?то непривычные, неглавные языки. Почему?то ему интересны были грузинский, татарский, армянский. Он даже захаживал в мечеть на углу Дурова и Выползова (говорил, для практики), где донимал стариков длинными запинающимися монологами на татарском. Рассказывал Соне, что видел там президента Египта Гамаля Абдель Насера – тот сидел на ковре по?турецки, как обычный татарин: в одних носках, без туфель.
Колина бабка – она происходила из семьи волжских купцов, – хоть и жила в Москве лет сорок, все еще окала и пела, изрекала мудреные рифмованные пословицы: «Раз варить – пригорить, два варить – жирно будить…». А дед был горбун, чернобровый, бородатый, с большими родинками на лице. Похожий на Черномора из книжки «Сказки Пушкина», где он через леса, через моря, волочет на своей косматой бороде упитанного богатыря в серой кольчуге и в шитых золотом сапожках.
Соня боялась его страшно и, когда приближалось время обеда (в те годы все ходили обедать домой), старалась исчезнуть со двора. Но иногда не успевала. Горбун – в рубахе, препоясанной пояском, как Лев Толстой в журнале «Огонек», – подходил к ней, улыбаясь, и целовал. Он непременно ее целовал! Добрый милый человек, он был кошмаром ее детства. Она цепенела посреди переулка, ноги становились ватными, все тело наливалось ледяным ужасом… Горбун наклонялся к ее щеке всеми своими родинками, целовал и шел дальше к себе обедать. Он был главным бухгалтером ГИНЦВЕТМЕТа, Спиридон Самсоныч. Его страшный невинный поцелуй с отвращением стирался обеими ладонями. А мальчик Коля, большая любовь Сониного детства, приходился ему внуком, так?то…
Далее клип разворачивается, кадры наплывают один на другой, в небе стоят алебастровые лепные облака, и под ними струятся стайки тополиного пуха.
Еще подростком Коля влюбился в вертихвостку Ольку Саламатову из девятого «Б». Дома сладости не ел, все ей относил. Бабка его, та, что из волжских купцов, говорила внуку и вертихвостке:
– И хорошо?о, у нас и обручальные кольца есть… Николай и Ольга, хорошо?о…
Но Олькина семья почему?то не приняла Колю. Папаша у нее был каким?то крутышом в городской милиции и Колю считал «чокнутым». Раза два парень получал словесные, так сказать, предупреждения, и в конце концов в одном из самых темных проходных дворов ему крепко намяли бока. Словом, отваживали его от Ольки так упорно, что она сдалась. Коля страшно переживал, потом смирился… Лет через пять женился на какой?то прохиндейке, стал пить, безумствовать, мотаться где ни попадя… Бабка, что из волжских купцов, еще жива была, очень горевала. Вздыхала, приговаривала, выпевая: «Четвертная – мать родная, полуштоф – отец родной…»
Горевала очень: был у нее еще один внук, Леша, младший Колин брат. Нормальный паренек. Обычный. А Коля был ее любимцем…
3
Отдельной шалапутной и шебутной колонией обитали в Тополевом цирковые. Занимали огромную коммунальную квартиру на третьем этаже домсемя, открытую всем ветрам, с вечно выбитой, никогда не запираемой дверью. Относились они не к Уголку Дурова, а к Цирку на Цветном. Это была странная походная семья, и хотя внутри ее, как личинки, роились всамделишные семьи, все же казалось, что, несмотря на драки и бесконечные стычки, каждый сосед имеет к другому именно родственное отношение.
Для окрестной ребятни все цирковые были дворовыми кумирами, друзьями, местными богами… Околачиваясь среди выпивающих цирковых, можно было услышать поразительные истории:
– Шимпанзе – животные дорогие! У них рацион, знаешь, – любой граф позавидует: и фрукты, и рыбка, бывает и винишка им выставляют, а как же… Так чета Буровцевых, дрессировщиков, уехала в прошлом годе в отпуск, оставила своих драгоценных шимпанзе на рабочего сцены с пятью ящиками отменной снеди, включая, извини, мадеру. Вернулись, застали картину: сидит тот пьяный балбес, варит в котелке картошку в мундире. Вокруг него собрались в кружочек пятеро обезьян с протянутыми руками. И он время от времени бросает им через плечо картофелину. Те бедняги ловят, дуют, обжигаясь, перекатывают картофелину в руках и уписывают как миленькие за обе щеки…
Воздушная гимнастка Валька Мазрухина перед каждым выступлением клала копеечку к иконе Николая Угодника, считала его своим покровителем. А после выступления напивалась – неуловимо, незаметно, неизвестно где. И тогда до ночи болталась по двору с мутным оторопелым взглядом, цепляясь к каждому, кто на глаза попадется, нарываясь на драку. Материлась истово, страстно – как молитву творила. В пьяном виде другого языка не знала. Наутро, замазав свежий фингал, как ни в чем не бывало выходила на манеж. Хвасталась, что никогда не репетирует, что номер сделала давно, еще в юности, и до пенсии менять не собирается… Видимо, вытягивала память мышц, наработанная с юности, – так застарелый алкоголик, забывший адрес своего дома, уже не различающий знакомых лиц в чаду шалмана, продолжает враскачку бормотать под нос заученное в четвертом классе: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя…»
Почти на каждое цирковое представление попадала горстка «своих», со двора. А уж Соня с Лидкой?врухой чуть не каждую неделю увязывались за Валькой Мазрухиной, даже в гримерку она их заводила. Если в зале не было мест, представление смотрели откуда придется – даже из прохода, толкаясь плечами и в самые жуткие моменты запредельной высоты отпихивая друг друга или сцепляясь руками. Могучий вихрь цирковых запахов: свежие опилки, крысиная моча, духи многочисленных дам… – этот исконный цирковой запах будоражил, взвинчивал и вливал в жилы счастливое ощущение праздника.
Собутыльница и подруга Валькина Нора Булыгина парила высоко. В молодости работала в номере у мужа Андрюхи – «гимнасты на першах». Андрюха красивый был парень – высокий, обаятельный: атлетический разворот плеч, победительная улыбка и добрые карие глаза. Настоящий Иван?Царевич, и грима не требуется.
Пил Андрюха так, что цепенели бывалые алкаши у точки. Трижды в психушку попадал с белой горячкой.
Наконец оформили ему «легкий труд» – тренерскую работу. А Нора у одной уходящей на пенсию артистки купила номер «Воздушная гимнастка с орлом»: моторчик крутил трапецию над манежем, а на штамберте трапеции обреченно сидел привязанный живой орел – растопыривал крылья при движении, – такая иллюзия полета. Под этим гордым орлом Нора принимала задумчивые позы под мечтательную музыку…
Со своей геральдической птицей она объездила весь Союз. Причем накануне гастролей забирала его к себе. Привязывала старого подагрика на лестничной клетке за лапу к перилам, что создавало изрядные неудобства для соседей: птичка немалая, питается, как известно из мифа о Прометее, исключительно мясом; соответственно, его перерабатывает. Обычно Нора за ним прибирала, но если уж выпьет, забывала обо всем. И тогда при входе в подъезд с ног шибал такой густой дух, что люди падали.
Однажды перед очередными гастролями загудели Валька с Норой по?черному. Несчастная птица совсем одичала, загадила лестницу так, что пройти мимо не было никакой возможности. Да и страшно: орел огромный, клюв, как секира. Люди возмущались, назрел скандал. Вечером третьего дня внизу собрался небольшой взвод разъяренных соседей.
Нора же с Валькой гудели уже третьи сутки; ничтожные проблемы ничтожных людишек их обеих не волновали ничуть.
И когда вконец озверевшие соседи пошли на приступ, Нора, недолго думая, отвязала орла, и с криками: «А?а?а, бляди! По?людски не понимаете?!» – пинками погнала его на захватчиков. Орел был очень старый, но вид имел устрашающий. Да и вонял жутко. После хорошего пинка под зад поскакал в народ. Бунт был подавлен мгновенно, толпа в панике рассеялась, люди разбежались ночевать по знакомым.
Зато утром, перед отъездом на вокзал, Нора аккуратнейшим образом вымыла лестничную клетку.
А Андрюха погиб ни за понюшку табака. От обычной русской причины – от пьяной тоски, что грызла его много лет. Он уже раза два пытался выброситься из окна (этаж третий, но высокий). Однажды чудом кто?то из собутыльников удержал его за свитер, в другой раз, выпивая с другом, он все же выпрыгнул, но упал на беседку под окном, сломал руку и два ребра.
В третий раз ему удалось завершить все путем.
Андрюха выкинулся из окна площадки третьего этажа домсемя и какое?то время был еще жив. Весь переломанный, попросил закурить у сбежавшегося народа. Ему поднесли к губам прикуренную сигарету, и он лежал, жадно втягивая дым, смотрел в синее сентябрьское небо…
– Вон Нора?то, Норка вон идет! – сказал кто?то и побежал к идущей из магазина Норе. Та выслушала новость со спокойным злым лицом. Видать, не выпила еще сегодня, еще не подобрела.
Подошла к расплющенному телу мужа, с торчащей сигаретой из окровавленного, с выбитыми зубами, рта… Несколько мгновений молча смотрела на него пустыми глазами.
Внятно проговорила:
– Ну и хуй с тобой!
4
…Тут не забыть бы Анну Каренину…
С первого по седьмой класс Соня училась в школе за стадионом «Буревестник». Ходили с Лидкой?врухой «дворами», увлекательно и запутанно, среди одноэтажных полуразвалившихся деревянных домов с изумительными, кое?где резными наличниками на окнах, с крохотными палисадами, в которых беспечально желтели подсолнухи.
Обычная была советская школа. Учительницы ходили в тяжелых костюмах с белой блузкой, с непременной брошкой на груди, с косой, выложенной надо лбом от уха до уха. Костюмов, вообще?то, было два: зимний, черная клеточка на зеленом или коричневом поле, и летний бордовый.
Анна Каренина носила точно такой бордовый костюм с белой блузкой и так же выкладывала надо лбом косу, только это была царь?коса: смоляная над белым высоким лбом и голубовато?белыми висками. И не кокошником выглядела, а короной, – так царственно?статно библиотекарша держалась, даже когда боком осторожно пробиралась меж стеллажами, прижимая к груди высокую стопку книг. И костюм сидел на ней как влитой.
Вообще?то, звали ее Зинаида Алексеевна. Она родилась и выросла в Тополевом, и потому, когда раз в неделю Соня с Лидкой появлялись в библиотеке, книги обменять, тепло им улыбалась: «Мои соседушки!»
Девочки брали «Два капитана», «Копи царя Соломона», «Рассказы о Шерлоке Холмсе»… Библиотекарша вздыхала и каждый раз терпеливо повторяла:
– Девочки, читайте «Анну Каренину»!
Соня говорила:
– Так ее ж нет в школьной программе!
Книг в доме было много, но все какие?то скучные – подписные собрания сочинений, приложения к «Огоньку». Несколько лет они получали Золя, том за томом; мама и читала том за томом, прочла все восемнадцать. Они потом навсегда так ровненько встали за стеклом полки, как раз и уместились, на загляденье!
В других домах Тополева переулка книг не держали, там не все старшие и «грамоте знали». Но Соня с Лидкой бегали в библиотеку регулярно. И каждую неделю: «Человек?амфибия», «Айвенго», «Тайна двух океанов», «Женщина в белом»… Лидка стеснялась просить что?нибудь про любовь, подталкивала локтем Соню, и та вежливо просила «что?нибудь с романтическим сюжетом».
Конец ознакомительного фрагмента – скачать книгу легально
Библиотека электронных книг "Семь Книг" - admin@7books.ru