
Одиночество бегуна на длинные дистанции (сборник) – Алан Силлитоу
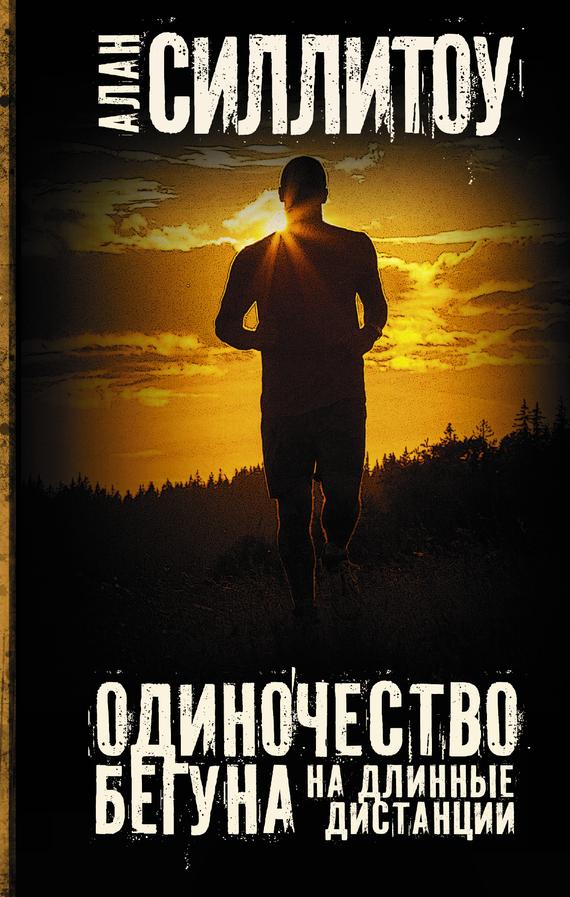
Алан Силлитоу
Одиночество бегуна на длинные дистанции (сборник)
Одиночество бегуна на длинные дистанции
1
Как только я попал в борстальскую колонию для несовершеннолетних, из меня сделали бегуна на длинные дистанции. Похоже, они думали, что я как раз для этого гожусь, потому что тогда я был высоким и тощим (каким и остался). В любом случае я не очень‑то возражал, если честно, поскольку бег всегда ценился у нас в семье, особенно бег от полиции. А я всегда хорошо бегал, быстро и размашисто, но только вот беда: как бы быстро я ни бежал, а скорость я набирал немалую, это не помогло мне улизнуть от легавых после того, как я взял булочную.
Вы, наверное, подумаете, что тут что‑то не так: бегуны на длинные дистанции в исправительном заведении. Вам покажется, что как только такого бегуна выпустят на вольные хлеба, он сразу же захочет удрать и как можно дальше от этого места, так далеко, насколько сможет уйти на запасе казенных харчей. Но вы ошибаетесь – и я скажу, почему. Во‑первых, те уроды, что нас там держат, вовсе не такие дураки, какими кажутся почти всегда. Во‑вторых, я не такой идиот, каким могу показаться, чтобы попытаться сбежать во время тренировки, потому как слинять, а потом попасться – дело неблагодарное, и я на это не поведусь. Главное в этой жизни – обмануть, и даже это надо уметь делать по‑хитрому. Я вам так скажу: они врут, и я тоже вру. Если бы у «них» и у «нас» мысли совпадали, мы бы жили душа в душу, но у нас нет общего языка с ними. Вот так оно есть, и так оно всегда будет. Штука в том, что все мы врем, и поэтому все мы друг друга не жалуем. Так что они знают, что я не попытаюсь слинять: они сидят себе, как пауки на осыпающихся стенах родового имения, как галки, взгромоздившиеся на крышу, наблюдающие за тропинками и полями, как немецкие генералы из танковых люков. И даже когда я мерно бегу за леском, и они меня не видят, они знают, что через час моя стриженая голова покажется за живой изгородью и я доложусь типу, стоящему на воротах. Потому что когда промозглым морозным утром я поднимаюсь в пять утра и встаю на каменный пол, отчего у меня холодом кишки сводит, а остальные могут еще час дрыхнуть до звонка, проскальзываю по коридорам вниз к большой входной двери с зажатым в кулаке пропуском, я чувствую себя одновременно первым и последним человеком на Земле, если только вы понимаете, что я хочу сказать. Первым человеком потому, что меня выгоняют в замерзшее поле в майке и трусах, почти в чем мать родила. А ведь тот чертов первопроходец, выброшенный на землю посреди зимы, знал, как соорудить себе одежонку из листьев или скроить пальтишко из перьев птеродактиля. И вот стою я, окоченевши от холода, ни крошки не евши. Ведь даже кусочка хлеба с какой‑нибудь бурдой не дадут, а согреться можно, только побегав пару часов перед завтраком. Меня дрессируют перед большими соревнованиями, когда слетаются дамы и господа с поросячьими рожами и сопливыми носами, не способные сложить два и два и надрывающиеся от злости, как психи, если вокруг не бегают рабы. Они начинают толкать нам речи о спорте, который приведет нас к праведной жизни, и мы перестанем тянуть шаловливые руки к замкам магазинов, ручкам сейфов и шпилькам, которыми вскрывают газовые счетчики. Они вручают нам кусок синей ленты и призовой кубок после того, как мы до упаду бегали и прыгали, как скаковые лошади. Вот только штука вся в том, что обращаются с нами не так, как со скакунами.
Ну вот, стою я у ворот в майке и трусах, во рту ни маковой росинки, и смотрю на замерзшие цветы. Думаете, я расплачусь? Да ни за что! Не зареву я только оттого, что чувствую себя первым человеком на Земле. Да мне в сто раз лучше, чем когда я лежу в кровати, как и триста остальных ребят. Нет, иногда мне невесело, когда я стою там и чувствую себя последним человеком на Земле. Последним потому, что мне кажется, что триста остальных парней умерли. Они спят так крепко, что, кажется, они ночью откинули копыта, а выжил я один. И когда я гляжу на кусты и замерзшие лужицы, у меня такое чувство, что будет холодать до тех пор, пока все, что я вижу, даже мои покрасневшие руки, не покроется толстым слоем льда – вся земля до самого неба, все моря и океаны. Так что я пытаюсь гнать прочь эти чувства и вести себя так, будто я первый человек на Земле. И мне от этого хорошо, и когда я разогреваюсь от этой мысли, я вылетаю из двери и пускаюсь бежать.
Я в Эссексе. Говорят, это неплохая колония для несовершеннолетних. По крайней мере, так мне сказал ее начальник, когда я попал сюда из Ноттингема.
– Мы хотим доверять тебе, пока ты находишься в этом заведении, – сказал он, разглаживая газету белыми ухоженными руками, пока я читал написанные вверх ногами большие буквы ее названия: «Дейли Телеграф». – Если будешь по‑честному играть с нами, мы станем честно играть с тобой. (Честное слово, можно подумать, что мы тут в теннис играть собрались.) Тебе нужно много и честно трудиться и стать хорошим спортсменом, – добавил он. – И если ты выполнишь оба условия, можешь не сомневаться: мы поступим с тобой по справедливости, и ты выйдешь на свободу честным человеком.
Ну, я чуть не умер со смеху, особенно когда сразу же после этих слов услышал, как старшина рявкнул мне и двум другим парням «смирно!», а потом увел нас строевым шагом, как будто мы гренадеры. А когда начальник все пел мне про то, что «мы» хотим, чтобы ты делал то‑то и то‑то, я оглядывался по сторонам и высматривал, сколько же их, этих «мы». Я конечно же знал, что «их» многие тысячи, но в комнате видел только одного. А «их» точно тысячи по всей этой гребаной стране. В магазинах, конторах, на вокзалах, в машинах, домах, пабах – «правильных» парней вроде вас и их, высматривающих «неправильных» парней вроде меня и «нас» и выжидающих момент, чтобы позвонить легавым, как только мы сделаем неверный шаг. И так будет всегда, говорю я вам, потому что я еще не перестал делать неверные шаги, и добавлю, что не перестану их делать, пока не отброшу копыта. И если «правильные» надеются, что смогут уберечь меня от неверных шагов, то попусту теряют время. С таким же успехом можно поставить меня к стенке и расстрелять. Только так можно остановить меня и несколько миллионов других ребят. И это потому, что я много думал с того дня, как попал сюда. Они могут дни напролет следить за нами, чтобы знать, вкалываем ли мы как проклятые, надрываемся ли мы или занимаемся этим «спортом», но они не могут просветить нам мозги рентгеном, чтобы узнать, о чем мы думаем. Я задавал себе кучу вопросов и прокручивал в башке всю свою жизнь. И мне это нравится. Классное занятие. Это помогает убить время и делает колонию не таким уж плохим заведением, каким его расписывали ребята с нашей улицы. А лучше всего – забеги на длинные дистанции с первым лучом солнца, потому что во время бега думаешь и понимаешь все гораздо лучше, чем лежа ночью в кровати. К тому же думая на бегу, я делаюсь одним из лучших бегунов в колонии. Я пробегаю круг в пять миль быстрее всех, кого знаю.
Как только я говорю себе, что я – первый человек, попавший в этот мир, и как только я делаю первый прыжок на заиндевевшую траву ранним утром, когда еще даже птицы не решаются петь, я начинаю думать, и мне это нравится. Я наматываю круги, как во сне, сворачивая по дорожке или по тропинке, не замечая этого, перепрыгивая через ручьи, не ощущая их под ногами и крича доильщику «доброе утро!», не видя его. Как же классно бежать вот так, совсем одному, когда ни одна живая душа не достает тебя, не поучает и не нашептывает, что можно взять вон тот магазинчик, зайдя с черного хода на соседней улице. Иногда мне кажется, что я никогда не был так свободен, как в эти пару часов, когда я выбегаю из ворот на тропинку и сворачиваю у толстенного дуба с голыми ветвями в конце дорожки. Все мертво, но это хорошо, потому что все умерло, прежде чем родиться, а не отжив свое. Вот так мне кажется. К тому же сначала я часто чувствую, что промерз насквозь. Я не чувствую ни рук, ни ног, ни тела, словно я – какой‑то призрак, не знающий, что у него под ногами земля, если бы время от времени ее смутные очертания не проглядывали из тумана. И даже если кто‑то и называет этот холод пыткой, когда пишет об этом мамаше, я так не считаю, потому что знаю, что через полчаса я согреюсь. К тому времени я добегу до главной дороги и у автобусной остановки сверну на тропку в пшеничном поле, разогреюсь, как печка, и сделаюсь развеселым, как собака, которой к хвосту консервную банку привязали.
Жизнь – хорошая штука, говорю я себе, если не поддаваться всем этим легавым, начальству колонии и прочим «правильным» уродам. Раз‑два‑три. Пуф‑пуф‑пуф. Шлеп‑шлеп‑шлеп ногами по твердой земле. Вжик‑вжик‑вжик руками и боками по голым ветвям кустов. Сейчас мне семнадцать, и когда меня отсюда выпустят – если я сам не слиняю или все не повернется как‑то по‑другому, – они постараются упечь меня в армию. А какая разница между армией и заведением, где я сейчас сижу? Эти уроды меня не проведут. Я видел казармы рядом со своим домом, и если бы снаружи не стояли часовые с винтовками, то их высокие стены не отличались бы от стен нашей колонии. И что с того, что эти сапоги пару раз в неделю выходят выпить пивка? Разве меня не выпускают три раза в неделю бегать по два часа? А это куда лучше, чем бухать. Когда мне в самый первый раз сказали, что бегать я буду один, без надзирателя рядом, крутящего педали, я прямо не поверил. Они называют заведение современным и прогрессивным учреждением, но меня‑то не проведешь. Я‑то знаю по рассказам других, что это такая же колония, разве что меня и выпускают одного побегать. Колония есть колония, что бы они ни делали. Сначала я ныл, что нельзя меня посылать бегать пять миль вот так на пустое брюхо, пока они не убедили меня, что это не так уж и плохо (я это и без них знал). Пока мне не сказали, что я – хороший спортсмен, и не похлопали по плечу, когда я сказал, что не ударю лицом в грязь и попытаюсь выиграть для них синюю призовую ленту и всеанглийский кубок по бегу на длинные дистанции среди исправительных учреждений для несовершеннолетних. И вот теперь начальник колонии, когда делает обход, говорит со мной почти так же, как говорил бы со скаковым жеребцом, если бы тот у него был.
– Все нормально, Смит? – спрашивает он.
– Да, сэр, – отвечаю я.
Он подкручивает седые усы.
– Как тренировки?
– Я решил бегать после ужина, чтобы держать форму, сэр, – говорю я ему.
Пучеглазый пузатый урод явно доволен.
– Отлично. Я знаю, что ты выиграешь нам кубок, – надувается он.
А я еле слышно добавляю:
– Разбежался, ждите.
Нет, не стану я этого делать, хотя этот тупой усатый урод и возлагает на меня все свои надежды. «А что значат его идиотские надежды?» – спрашиваю я себя. Раз‑два‑три, шлеп‑шлеп‑шлеп, через ручей и в лес, где темно и обледенелые ветки царапают мне ноги. Для меня это ни черта не значит, а для него это значит ровно столько же, сколько значило бы для меня, если бы я стащил список забегов и поставил на лошадь, которую не знаю, никогда не видел, а если бы и увидел, то наплевал бы. Вот что это для него значит. И я проиграю забег, потому что я им не скаковая лошадь, и скажу ему, когда мне подойдет время выходить, если не слиняю еще до забега. Ей‑богу, скажу. Я человек, и у меня есть свои мысли, свои тайны и своя жизнь, а он об этом ни черта не знает и никогда не узнает, потому что он тупой. Может, вам смешно, когда я говорю, что начальник колонии – тупой урод, хотя сам я еле‑еле умею писать, а он читает, пишет и умножает‑делит, как профессор какой‑то. Но то, что я говорю – чистая правда. Он тупой, а я нет, потому что вижу его почти насквозь, а он меня насквозь не видит. Ну ладно, мы оба умеем врать, но я вру лучше, и, в конце концов, победителем выйду я, даже если и подохну в тюряге в восемьдесят лет, потому что из своей жизни я выжму больше радостей и кайфа, чем он из своей. Похоже, он прочитал тысячу книжек и, сдается мне, сам написал несколько штук, но знаю точно, что накарябанное мной в миллион раз лучше, чем все, что он сможет накарябать. Мне плевать на чьи‑то слова, но это правда, и ее нельзя отрицать. Когда он мне что‑то говорит, а я гляжу на его сержантскую харю, я знаю, что он мертвый, а я живой. Он – живой труп. Пробеги он с десяток метров, так и рухнул бы замертво. Узнай он чуток из того, что у меня в башке, тоже рухнул бы замертво. От удивления. Сейчас эти ходячие мертвецы вроде него держат в кулаке ребят вроде меня, и бьюсь об заклад, что так будет всегда. Но даже если и так, ей‑богу, я лучше останусь таким, какой есть: вечно в бегах и вламывающимся в магазины, чтобы стянуть пачку курева и банку варенья, чем держать кого‑то мертвой хваткой и помереть самому. Может, как только хватаешь кого‑то за горло, то и вправду помираешь. Честное слово, чтобы додуматься до этого, мне пришлось пробежать несколько сот миль. Я бы никогда до этого не дошел, если бы мог вытащить из своего заднего кармана купюру в миллион фунтов. Вы же знаете, что это правда, и если хорошенько подумать, поймете, что это всегда было и будет правдой. И я все больше убеждаюсь в этом всякий раз, когда вижу, как начальник открывает дверь и говорит «Доброе‑утро‑ребята».
Когда я бегу и вижу в воздухе пар от собственного дыхания, словно в меня вставили с десяток сигарет, я снова думаю о той маленькой речи, что толкнул мне начальник, когда я только здесь появился. Честность. Будь честным. Я как‑то утром так смеялся, что опоздал на десять минут, потому что пришлось остановиться и подождать, пока не уймется боль в боку. Начальник так разволновался, что когда я прибежал позже обычного, он послал меня к врачу сделать рентген и проверить сердце. Будь честным. Это то же самое, что сказать: будь мертвым, как я, и тогда можно безболезненно отправляться из позорной халупы в колонию для малолеток или в тюрягу. Будь честным и привыкай тянуть лямку за шесть фунтов в неделю. Ну вот, за все то время, что я тут бегаю, я так и не смог взять в толк, что же он имеет в виду, хотя до меня это начинает понемногу доходить – и смысл мне совсем не нравится. Потому что после всех своих раздумий я понял, что это добавляется к чему‑то, что ко мне не относится, ведь я родился и вырос в каком‑то другом мире. Потому что люди вроде начальника колонии никогда не поймут еще одну штуку: я честен, и всегда был таким, и всегда таким останусь. Смешно, да? Но это правда, потому как я знаю, что значит «честность» в моем понимании, а он знает лишь, что это значит в его. Я считаю свою честность единственно правильной в мире, а он считает единственно верной свою честность. Вот поэтому этот грязный особнячок и обнесли стенами и заборами, чтобы гноить там ребят вроде меня. Будь я главным, я бы не заморачивался, чтобы построить дом вроде этого и упрятать туда всех легавых, начальников, шикарных шлюх, конторских крыс, офицеров и членов парламента. Нет, я поставил бы их к стенке и расстрелял к чертовой матери, как они много лет назад поступали с парнями вроде меня. То есть они не узнали, что значит быть честным, и никогда не узнают. И слава богу.
Я почти полтора года просидел в колонии для несовершеннолетних до того, как подумал оттуда слинять. Не могу вам подробно рассказать, как она выглядела, потому что не мастер я описывать всякие дома и считать, сколько в комнате стульев‑развалюх и окошек с гнилыми рамами. Но и жаловаться мне тоже грех, потому что, сказать по правде, в колонии я вообще не страдал. Я ответил так же, как один мой приятель, когда его спросили, ненавидит ли он службу в армии.
– Вовсе нет, – сказал он. – Там меня кормили, выдали обмундирование, давали карманные деньги, причем столько, сколько у меня в жизни было бы, если бы только не уработался до смерти. Работать меня почти не заставляли, но дважды в неделю посылали в кассу.
Ну, это почти то же самое, что говорю я. С этой стороны в колонии мне жилось неплохо, так что я не жалуюсь и не описываю, чем нас там кормили, где мы спали и как с нами обращались. Но с другой стороны, колония на меня как‑то повлияла. Нет, она меня не разозлила, потому что я всегда был злой, с самого рождения. На самом же деле она мне показала, чем меня пытаются напугать. У них для этого масса всяких штук вроде тюрьмы и, в конце концов, виселицы. Это похоже на то, как будто я бросаюсь на человека, чтобы врезать ему, а потом снять с него пальто, а потом вдруг внезапно сдаю назад, потому что он выхватывает нож и заносит его, чтоб зарезать меня, как свинью, если я подойду ближе. Нож – это и есть колония, тюрьма и виселица. Но как только ты увидел нож, ты учишься драться голыми руками. Учиться приходится, потому что такой нож ты вряд ли раздобудешь, а драться голыми руками – не такая уж сложная наука. Так вот, ты наступаешь на этого человека, есть у тебя нож или нет, и пытаешься схватить его одной рукой за запястье, а другой за локоть и держать до тех пор, пока он не выронит нож.
Ну вот, послав меня в колонию, они показали мне нож, и с тех пор я знаю то, чего не знал раньше: между нами идет война. Вообще‑то я всегда это знал, потому что успел побывать в доме предварительного заключения для малолетних, и там ребята рассказали мне много чего о братьях, сидящих в колонии. Но тогда это было не всерьез, как бы понарошку, вроде кошачьей возни или драки в боксерских перчатках. Но теперь, когда мне показали нож, я узнал, кто мои враги и что это за война. Они могут все завалить атомными бомбами. Мне наплевать: я никогда не назову это войной и не надену солдатскую форму, потому что я веду другую войну, которую они считают детской игрой. Та война, которую они считают настоящей – это самоубийство, и всех тех, кто идет на фронт и оттачивает искусство убивать, надо сажать в тюрьму за попытку самоубийства, потому что ребята думают именно так, когда рвутся в добровольцы или позволяют призвать себя в армию. Уж я‑то это знаю, потому что сам иногда думаю, как должно быть здорово наложить на себя руки. И легче всего, вдруг понял я, это понадеяться, что случится большая война, чтобы я смог пойти добровольцем и погибнуть. Но я быстро избавился от этих мыслей, когда узнал, что уже веду свою войну, что я на ней родился, что вырос, слушая рассказы «старых солдат», бравших высотку в Дартмуре, едва не сгинувших в Линкольне, попавших в клещи колонии. И рассказы эти гремели громче, чем разрывы немецких снарядов. Войны, которые ведет правительство – не мои войны, мне на них наплевать, потому что меня заботит лишь моя личная война. Помню, лет в четырнадцать я отправился за город с тремя своими двоюродными братьями, ровесниками мне, которые потом попали в разные колонии, а затем в разные армейские полки, откуда вскоре дезертировали, и после – в разные тюрьмы, где сидят до сих пор, насколько я знаю. Ну ладно, тогда мы были детьми и летом хотели выбраться в лес, подальше от дорог, провонявших раскаленным гудроном. Мы перелезали через заборы и пробегали по полям, сорвав по пути несколько кислых яблок, пока не заметили лесок примерно в километре от нас. В Коллиерз Пэд мы услышали, как за живой изгородью дети говорили между собой так витиевато, как выпускники частной школы. Мы подкрались поближе и сквозь заросли ежевики увидели пикник, изысканные яства, корзины, кувшины и полотенца. По‑моему, их было семеро – ребят и девчонок, которых мамаши с папашами отправили поразвлечься в погожий денек. Мы, как крокодилы, на брюхе проползли под изгородью, окружили их и рванулись в самую середину, разбросали костер, поколотили посуду, похватали всю жратву и пустились наутек к лесу через вишневый сад. За нами погнался какой‑то мужчина, который появился, когда мы грабили их. Но нам удалось улизнуть, и к тому же мы разжились классной едой. Мы до смерти устали и не могли дождаться, пока набросимся на тонкие бутерброды с ветчиной, салатом и пирожные с кремом.
Так вот, я всю жизнь буду чувствовать себя кем‑то вроде этих глупых ребятишек до того, как мы на них налетели. Но они и не думали, что случится то, что случилось, прямо как начальник колонии, который втирает нам про честность и прочую ерунду, не зная ничего об этом. А я вот я каждую секунду знаю, что кованый сапог в любую минуту может растоптать маленький праздник, который я могу себе устроить по дурости. Да, в свое время я думал высказать все, что думаю о нем, начальнику колонии, чтобы он был начеку, но когда я получше присмотрелся к нему, я передумал: пусть он сам об этом догадается или же пройдет через все, через что пришлось пройти мне. Я человек не злой (в свое время я помог нескольким парням, которые ударились в бега, какими‑то деньгами, куревом, прятал их от дождя и отмазывал от легавых), но чтоб я сдох, если рискну угодить в камеру за попытку дать начальнику совет, которого он не заслуживает. Если я человек добрый, то знаю, для кого приберечь свою доброту. А любой совет, который я дам начальнику, не пойдет ему на пользу. Он только заставит его действовать куда быстрее, чем если бы он вообще ничего не знал. А этого я хочу больше. Но пока что пусть все идет, как идет, и это еще одна штука, которую я усвоил за последние пару лет. (Здорово, что я могу думать об этом так же быстро, как пишу зажатым в пятерне огрызком карандаша, иначе я давно бы бросил это дело.)
К тому времени, как я пробегаю половину утренней дистанции, когда сквозь морозный рассвет я вижу тусклые лучики солнца, цепляющиеся за голые ветви буков и белых кленов, когда добегаю до середины пути по крутому заросшему кустами откосу и по извивающейся внизу тропинке, когда вокруг ни души и ни звука, кроме ржания пегого жеребенка в стойле, которого я не вижу, я начинаю думать о самом сокровенном и глупом. Начальника кондрашка бы хватила, если бы он видел, как я съезжаю вниз по откосу, потому что я могу сломать лодыжку или свернуть себе шею. Но мне нельзя этого делать, потому что это мой единственный риск и единственный кайф, который я ловлю, летя вниз что есть мочи, как птеродактиль из «Затерянного мира», постановку которого я как‑то слышал по радио. Как безумный холощеный петушок раздираю себя в клочья и почти что разбиваюсь. Но не до конца. Это самые прекрасные мгновения, потому что когда я лечу вниз, у меня в голове нет ни мыслей, ни слов, ни картинок. Я пустой, чистый, как в тот миг, когда родился, и не разбиваюсь, кажется, потому, что что‑то сидящее глубоко во мне не хочет, чтобы я погиб или серьезно поранился. Глупо думать о чем‑то мудреном, потому как, знаете ли, ни к чему это не приводит. Но я сам начинаю мудрить, когда пробегаю половину пути, потому что долгие пробежки по утрам наводят меня на мысли о том, что каждый забег – это жизнь. Да, маленькая, но полная горя, счастья и всего, что может с тобой произойти. И я помню, как после многих вот таких утренних тренировок я вот что подумал: не обязательно ломать голову, чтобы сказать, как закончится жизнь, если она хорошо началась. Но я, как всегда, ошибся, сперва попавшись легавым, а потом угодив в ловушку собственных диких мыслей, и не мог уверенно обойти все эти капканы, всегда рано или поздно попадался, сколько бы я ни стремился к хорошему, даже сам того не зная. Мысленно оглядываюсь назад, и мне кажется, что огромные деревья подносили ветви к стволам, как будто кривлялись и подмигивали друг другу, а я съезжал вниз по откосу и ничегошеньки не видел.
2
Я не говорю себе: «Тебе не надо было идти на дело, и тогда бы ты не попал в колонию». Нет, я вбил себе в башку, что удача не имела права отвернуться от меня как раз тогда, когда я почти что убедил легавых, что это, в конечном итоге, не моих рук дело. Стояла осень, а вечер выдался достаточно туманным, чтобы мы с моим приятелем Майком отправились бродить по улицам вместо того, чтобы торчать перед телеком или развалиться в шикарных плюшевых креслах в киношке. Но мне не сиделось на месте, потому как я полтора месяца вообще ничего не делал. Вы могли бы спросить, почему я так долго бездельничал, потому что обычно я, как и все, до седьмого пота вкалывал за фрезерным станком. Но штука в том, что мой папа умер от рака горла, а мама получила пять сотен фунтов страховки и пособий от фабрики, где он работал. Ей сказали «за потерю кормильца» или что‑то типа того.
Теперь‑то я знаю, и мама, наверное, думала так же, что пачка новеньких синих купюр ничего не значит ни для одной живой души, пока эти бумажки не начнут перелетать у вас из рук в кассу какого‑нибудь торговца, а взамен их торговец этот не начнет подавать вам через прилавок всякие классные штучки. Так что как только она получила деньги, мама повезла меня и пятерых моих братьев и сестер в город и нарядила в новенькие шмотки. Потом она заказала телевизор с диагональю в пятьдесят четыре сантиметра и новый ковер, потому что старый папа так перед смертью запачкал кровью, что тот не отчищался. А затем прикатила домой на такси с массой коробок и новой шубой. И вы знаете – конечно, не поверите мне – что назавтра в ее распухшей сумке осталось почти триста фунтов? И после этого кто‑то из нас стал бы работать? Бедный папа, он не дожил, чтобы взглянуть на все это, а ведь именно он принял страдания и смерть за этакую кучу бабок.
Вечер за вечером мы просиживали перед телеком с бутербродом с ветчиной в одной руке и шоколадкой в другой, зажав между ног бутылку лимонада, пока мама наверху развлекалась с очередным кавалером на новой, только что заказанной кровати. И в следующие два месяца наша семья была самой счастливой на свете, когда у нас на все хватало денег. А когда бабки кончились, я особо ни о чем не думал, а просто слонялся по улицам – искал работу, как сказал маме, – надеясь как‑то раздобыть еще пять сотен, чтобы классная жизнь, к которой мы привыкли, никогда не кончалась.
Удивительно, как быстро привыкаешь к хорошей житухе. Начнем с того, что реклама по телеку показала нам, что купить можно гораздо больше, чем мы думали, когда таращились на витрины магазинов, потому как денег у нас все равно не было. А по телеку все эти вещицы казались в сто раз лучше, чем мы думали. Даже в кино реклама выглядела блеклой и вялой, потому что теперь мы спокойно смотрели ее дома. Раньше мы воротили нос от неподвижных штучек в магазинах, а теперь вдруг увидели их настоящую ценность, потому что они прыгали и сверкали на экране. И какая‑нибудь белолицая бабенка переворачивалась через себя, чтобы взять их наманикюренными пальчиками или коснуться их накрашенными губками. Это вам не убогие дохлые картинки на плакатах или в газетах. Тут все сверкало и переливалось вокруг полуоткрытых пакетов и банок, заставляя думать, что нужно всего ничего – взять их и открыть самому, как будто видишь через витрину незакрытый сейф, хозяин которого ушел чайку попить, не удосужившись запереть свои бабки. Фильмы по телеку тоже классные показывали, потому что мы не могли глаз оторвать от легавых, гонявшихся за грабителями с полными денег сумками, которые вот‑вот улизнут и вроде бы их потратят. Но все‑таки нет. Я всегда надеялся, что им это удастся, и меня подмывало вытянуть руку, пробить экран (который казался тряпичным, как в кино, только поменьше) и как следует схватить легавого, чтобы тот перестал бежать за парнем с мешками денег. Даже если он завалил пару банковских клерков, я надеялся, что он не попадется. На самом деле тогда мне очень хотелось, чтобы он не попался, потому что иначе он угодил бы на электрический стул, а этого я никому не пожелаю, что бы тот ни сделал. Потому что в какой‑то книжке я вычитал, что на электрическом стуле умираешь не сразу, а поджариваешься, пока не сдохнешь. И когда легавые гнались за грабителями, мы проделывали с телеком всякие фокусы, вроде того, что когда один из них разевал пасть, чтобы заорать «держи его!», я выключал звук и видел, что рот его шевелился, как у карася, скумбрии или гольяна, якобы говоря то, что им надо сделать. Это было так смешно, что вся семья со смеху покатывалась на новеньком ковре, который еще не переехал в спальню. Но лучше всего это получалось с каким‑нибудь тори, говорившим нам, каким хорошим станет его правительство, если мы и дальше будем за них голосовать. Челюсти вяло двигались, рот открывался и что‑то бормотал, рука поднималась, чтобы подкрутить усы или потрогать петлицу – не перекосилась ли бутоньерка. Так что все видели, что они не верят ни одному своему слову, особенно когда просто открывали рот, потому что мы вырубали звук. Когда начальник колонии в первый раз со мной заговорил, я так ясно припомнил это время, что едва не помер, стараясь не захохотать. Да, много мы фокусов проделали с ящиком, и мама прозвала нас «телемальчиками», чего мы вполне заслуживали.
Мой приятель Майк отделался условным наказанием, потому что это было его первым делом – по крайней мере, первым, о котором узнали – и потому, что сказали, что он на него никогда бы не решился, если бы я его не подбил. Сказали, что я представляю угрозу для честных парней вроде Майка, шляющихся руки в брюки, чтобы карманы казались пустыми, нагнув голову, словно в поисках монет, чтобы засунуть в карманы, в рваном свитере и с падающими на лицо волосами, чтобы они могли подкатить к какой‑нибудь женщине и выпросить шиллинг, потому что им нечего есть. Еще сказали, что это я задумал это дело, что я могу подговорить, кого хочешь, но Богом клянусь, что это нет так. Ведь после того как я по‑идиотски спрятал деньги, ясно же, что мозгов у меня не больше, чем у мошки. И меня, со всеми моими закидонами, отправили в колонию для несовершеннолетних, потому как, по правде сказать, я уже успел побывать в предвариловке для малолеток, хотя это совсем другая история, и если я ее когда‑то расскажу, то выйдет она такой же скучной, как и эта. И все же я обрадовался, что Майку удалось соскочить, и надеюсь, что он всегда сумеет выкрутиться, не то что я – тупой урод.
Ну вот, тем туманным вечером мы оторвались от телека и хлопнули за собой дверью, медленно двинувшись вперед по нашей широкой улице, как по реке буксиры со сломанными гудками, потому что из‑за промозглого густого тумана мы не видели даже фасадов домов. Я чуть до смерти не промерз без пальто: мама забыла мне его купить, когда все подряд хватала, а когда я додумался ей об этом напомнить, бабки уже кончились. Так что мы насвистывали песенку «Пикник стиляг», чтобы как‑то согреться, и я сказал себе, что куплю пальто, даже если и подохну после этого. Майк сказал, что тоже об этом подумал, и добавил, что к тому же раздобудет себе новые очки в позолоченной оправе взамен старых в проволочной, которые давным‑давно выдали ему в школьном медкабинете. Сначала он не врубился, что на улице туман, и всякий раз протирал стекла, когда я оттаскивал его от фонарного столба или от машины. Но когда он заметил похожие на глаза осьминога огни на Альфретон Роуд, он положил очки в карман и надел их только тогда, когда мы закончили дело. С собой у нас не было ни гроша, и хотя есть мы не хотели, нам пригодилась бы пара шиллингов, когда мы проходили мимо заведения, где торговали рыбой с жареной картошкой, потому что у нас слюнки текли от запахов уксуса и разогретого жира. И скажу я вам, что весь город мы прошли из конца в конец, и если не пялились на землю, ища потерянные бумажники или часы, то шарили глазами по окнам домов и дверям магазинов, где бы чего взять.
Трепались мы не много, но я точно знаю, о чем мы думали. Чего я не знаю – и уверен, что никогда не узнаю, – так это кто из нас первым засек что‑то на заднем дворе булочной. Конечно, можно подумать, что это был я, но штука в том, что я никогда не мог сказать, был это Майк или нет, потому как помню, что не замечал открытого окна, пока Майк не ткнул меня в бок и не показал на него.
– Видишь? – спросил он.
– Да, – ответил я. – Так что полезли.
– А как же стена? – прошептал он, присмотревшись.
– Тебе на плечи встану, – бросил я.
Он уже прилип глазами к окну.
– А ты достанешь? – Он в первый раз подал признаки жизни.
– Не боись, – сказал я, уже изготовившись. – На твоих литых плечах я куда хочешь достану.
По сравнению со мной Майк был дохляком, но под поношенным клетчатым свитером скрывались железные мускулы, и когда он идет по улице в очках и руки в брюки, кажется, что он и мухи не обидит. Но не хотел бы я сойтись с ним в потасовке, потому что он из тех, из кого клещами слова не вытянешь. Сидит себе перед телеком, читает книжку про ковбоев или просто спит. А потом вдруг бац! – чуть не убьет ни за что: если в субботу вечером у него из‑под носа в киоске увели последний выпуск «Футбольного обозрения», если на автобусной остановке кто‑то втерся впереди него, если кто‑то налетит на него, когда он представляет себе в мечтах соседскую красотку в ванной. Я разок видел, как он набросился на какого‑то парня только за то, что тот косо на него посмотрел. А потом выяснилось, что парень тот был косоглазый, но этого никто не знал, потому что тот всего день, как переехал на нашу улицу. Иногда он вообще не замечал таких вещей, и мне кажется, что я сдружился с ним только потому, что не доставал его разговорами.
Он поднял руки, как будто собирался стрелять из пулемета на треножнике, и прислонился к стене, словно его сейчас ранят, а я забрался на него, как на забор или стремянку. Он стоял, вытянув руки вверх ладонями, чтобы я мог на них встать, как на подножку машины, не шевелясь и даже не дыша. Я времени даром не терял, взял пиджачок, который сжимал в зубах, и накрыл им утыканную битым стеклом кромку стены (где осколки были не очень острыми, ведь зубцы со временем отбились от брошенных камней), а потом уселся и огляделся, что к чему. Потом я спрыгнул на ту сторону, подобрав под себя ноги, и когда я шмякнулся на землю, раздался громкий хлопок, вроде как от прыжка с парашютом. Дружок один мне рассказал, что с парашютом прыгать – это как с шестиметровой стены сигануть, а в той стене шесть метров и было. Потом я кое‑как поднялся и открыл калитку Майку, который лыбился и весь воодушевился, потому как самую трудную часть дела мы уже одолели. «Явился, вломился, вошел» – прямо как в смешной тюремной песенке.
Я вообще ни о чем не думал, как всегда, когда чем‑то занят. Когда лезу по трубам, вспарываю мешки, вскрываю замки, поднимаю щеколды, заставляю что‑то двигаться своими костлявыми руками и тощими ногами, едва чувствуя, дышу я или нет, я не задумываюсь о том, открыт у меня рот или закрыт, голоден ли я, чешусь ли, застегнута ли у меня ширинка и ругаюсь ли я последними словами в предрассветном тумане. А если я об этом ничего не знаю, то как могу поручиться, что в это время вообще о чем‑то думаю? Когда я прикидываю, как лучше всего открыть окно или высадить дверь, как я могу думать или чем‑то заморачиваться? Вот в это никак не мог врубиться очкастый тип в белом халате и с блокнотиком, который дни напролет мучил меня расспросами, когда я угодил в колонию. А я не мог этого ему объяснить, как не могу и сейчас, когда пишу. Если бы даже и смог, он, наверное, так и не сумел бы врубиться, потому как я сам не знаю, могу ли я это объяснить даже теперь, стараясь, уж поверьте.
Так вот, не успел я как следует очухаться, как оказался в конторке булочника. Я глядел, как Майк зажег спичку и обнаружил ящик с выручкой. На его плоской мордахе появилась самодовольная улыбка, как на заказ деланная, когда он облапил коробку, как будто хотел ее раздавить.
– Валим отсюда, – вдруг сказал он и потряс коробку, в которой что‑то загремело. – Линяем.
– Может, еще что‑то есть, – ответил я, выдвинув из стола несколько ящиков.
– Нет, – отрезал он, как будто двадцать лет воровал. – Здесь все, – похлопал он по жестяной коробке. – Все.
Я выдвинул еще какие‑то ящики, набитые счетами, книгами и письмами.
– А ты откуда знаешь, кретин?
Он, как бык, неуклюже двинулся к выходу.
– А вот знаю.
Знаю, не знаю – нам надо было держаться вместе и дело делать. Я было положил глаз на новенькую пишущую машинку, но понял, что она слишком приметная, так что попрощался с ней и вышел вслед за ним.
– Погоди‑ка, – сказал я, прикрывая дверь. – Мы же не спешим.
– Ни чуточки, – ответил он через плечо.
– Этих бабок нам надолго хватит, – прошептал я, когда мы шли через двор. – Только калиткой не скрипи, не то легавые сбегутся.
– Я что, совсем тупой? – огрызнулся он, скрипнув калиткой на всю улицу.
Не знаю, как Майк, но я теперь начал думать, как нам по‑тихому вернуться домой с коробкой, спрятанной у меня под джемпером. Потому что он сунул ее мне в руки, как только мы вышли на главную улицу. И это вполне могло значить, что он тоже задумался об этом. В такой момент убеждаешься в том, что не знаешь, что у других в башке, пока сам не раскинешь мозгами. Но тогда я особо ни о чем не думал, только немного боялся, самую малость, если вдруг легавый спросит, что это там торчит у меня на пузе.
– Что это такое? – спросил бы он. А я бы ответил:
– Опухоль.
– Что значит – опухоль, дружок? – хитро переспросил бы он.
Я бы закашлялся и схватился за бок, как будто меня жутко скрутило, и закатил бы глаза, будто мне надо в больницу, а Майк взял бы меня под руку, как самый верный друг на свете.
– Рак у меня, – прохрипел бы я легавому, и от этого он начал бы что‑то подозревать своими размякшими от пунша мозгами.
– Это у тебя‑то, такого молодого?
Тогда бы я снова застонал в надежде, что он почувствует себя распоследним уродом, чего не бывает, но все‑таки.
– Это у нас семейное. Папа умер от рака месяц назад, а я, кажется, через месяц тоже помру.
– Так что, у него в кишках рак был?
– Нет, в горле. А у меня – в желудке. – Стоны и кашель.
– Слушай, тебе нельзя вот так на улицу, если у тебя рак. Тебе в больницу надо.
Вот тут я начал бы крыситься:
– Туда я и иду, а вы тут останавливаете меня и кучу вопросов задаете. Да, Майк?
Майк бы только ворчал и кряхтел, не в состоянии и рта раскрыть. И как раз вот тут легавый сказал бы нам идти дальше, внезапно подобрев и говоря, что приемное отделение в больнице закрывается в двенадцать и что, может, нам такси вызвать? Если мы захотим, он вызовет и заплатит за него. Но мы отвечаем, чтобы он не беспокоился, что он классный парень, даром что легавый, и знаем, как пройти напрямик. А когда мы заворачиваем за угол, до его тупых мозгов доходит, что идем‑то мы совсем в другую сторону, и он орет нам вслед. Мы пускаемся бежать… Ну, вот такие вот мысли.
У меня в комнате Майк вскрывает коробку молотком и зубилом, и мы не успеваем толком очухаться, как у меня на кровати уже лежат две равные доли по семьдесят восемь фунтов, пятнадцать шиллингов и пять с половиной пенсов. Они похожи на рождественский стол с пирожным и бисквитами, салатом и бутербродами, пирогами с вареньем и шоколадками. Все точно поровну, мне и Майку, потому что мы верили, что за равный труд полагается равная плата, прямо как мой папа с товарищами, пока у него не отнялись руки и не пропал голос, чтобы спорить. Я подумал: как же здорово, что ребята вроде этого бедного булочника не прячут все бабки в одном из банков с мраморным фасадом, которые стоят на каждом углу. Как же нам подфартило, что он им не доверился, хоть в них и вбухали миллионы тонн бетона и невесть сколько железных решеток и клеток, и толпы легавых пялят на эти банки свои выпученные зенки. Как же классно, что он доверяет только коробочке, когда так много торговцев считают это старомодным и по‑современному несут денежки в банки, которые не дадут паре искренних, честных, работящих и совестливых парней вроде нас с Майком ни малейшего шанса.
Вот вы подумаете, и я подумаю, и любой, у кого есть воображение, тоже подумает, что мы провернули дело чисто, как только можно, потому как булочная была за километр с лишним оттуда, где мы жили, нас не видела ни одна живая душа, стоял туман, и пробыли мы там минут пять на все про все. Что легавые никогда и ни за что нас не вычислят. И вот тут‑то вы ошибетесь, и я ошибусь, и любой ошибется, есть у нас воображение или нет.
При всем при этом мы с Майком деньгами не сорили, потому что тогда люди сразу бы просекли, что мы сцапали то, что нам не принадлежит. Но это нам не особо помогло, потому как даже на улице вроде нашей находятся людишки, которым нравится услужить легавым, хотя я не понимаю, зачем. Есть такая подлая порода людей, у которых денег на грош больше вашего и которые думают, что вы их стянете, только отвернись. Они сдадут вас, если увидят, что вы выгребаете дерьмо из сортира, даже не из их отхожего места, лишь бы упрятать вас подальше от своих денежек. Так что мы решили не показывать, что у нас водятся бабки, и не делать ничего вроде как податься в город и вернуться в стиляжьих костюмчиках и с ударной установкой, как поступил один наш дружок, который с полгода назад вскрыл заводскую контору. Нет, мы оставили себе шиллинги и пенсы, а купюры свернули и спрятали в водосточной трубе на заднем дворе.
– Никто не додумается их там искать, – сказал я тогда Майку. – Пусть полежат недельку‑другую, а потом будем потихоньку вынимать по паре‑тройке фунтов, пока не кончатся. Может, мы и ворюги, но не такие уж тупые.
Через несколько дней в дверь постучал легавый в штатском. И спросил обо мне. Было одиннадцать утра, и я еще валялся в постели, а когда услышал, что меня зовет мама, мне пришлось вылезти из‑под нагретых темных простыней.
– Там к тебе какой‑то мужчина, – сказала мама. – Давай быстрей, не то он уйдет.
Я слышал, как она держала его на пороге и болтала, какая вчера стояла хорошая погода, а вот сегодня с утра дождь собирается, а он все молчал, только иногда вставляя «да» или «нет». Я натянул штаны и подумал, зачем это он приперся, зная, что это легавый, потому что у нас в доме слова «к тебе какой‑то мужчина» значили именно это. И если бы я додумался, что в то же время легавый пришел и к Майку в дом, я бы сразу во все врубился, потому что полтораста с лишним фунтов в бумажках были спрятаны в водосточной трубе рядом с задней дверью сантиметрах в тридцати от ботинка легавого в штатском. Мама продолжала трещать с ним, думая, что делает мне одолжение, а я молил Бога, чтобы она впустила его внутрь. Однако чуть позже до меня дошло, что это покажется куда подозрительнее, чем держать его во дворе, потому что они знают, как мы их всех ненавидим, и почуют неладное, если им покажется, что мы пытаемся вести себя с ними любезно. Топая вниз по скрипучим ступенькам, я подумал, что мама же не вчера на свет родилась.
Я видел его раньше: надзирателя Бернарда в фуражке, Рональда из предвариловки в обувке для гребли, участкового Пита в макинтоше, тюремного «кума» в рубашке с галстуком (это я взял из баллады, которую сочинил мой новый приятель по колонии, я бы спел вам ее целиком, но сюда она никак не годится). У этого сыскаря в карманах никогда не было больше, чем за раструбом у водосточной трубы. Рожей он походил на Гитлера, вплоть до усов щеточкой, а вот от его роста в метр восемьдесят становилось еще хуже. Но я сумел расправить плечи и заглянуть в его бесстыжие голубые глаза – я всегда так веду себя с легавыми.
Потом он начал мне вопросы задавать, а мама из‑за моей спины сказала:
– Последние три месяца он у телевизора сидел, как приклеенный, так что вам нечего ему предъявить, служивый. Можете кого другого поискать, потому что вы тратите время и деньги, которые берут из моей квартплаты и из налога, который у меня вычитают из зарплаты, когда вот так стоймя стоите.
Смешно, конечно, потому как я сколько себя помню – никогда она не платила ни того, ни другого и, надеюсь, не будет платить.
– Так вот, ты ведь знаешь, где Пэпплуик‑стрит? – спросил меня легавый, не обращая внимания на маму.
– Это рядом с Альфретон Роуд? – задал я встречный вопрос, этак любезно и с улыбочкой.
– И ты знаешь, что там по левой стороне, посреди улицы стоит булочная, так ведь?
– Это рядом с пабом, что ли? – уточнил я.
– Да нет же! – резко ответил он.
Легавые всегда быстро выходят из себя, и это почти всегда не идет им на пользу.
– Тогда не знаю, – сказал я, и тут словно гонг прозвучал.
Он водил огромным ботинком взад‑вперед по ступеньке.
– Где ты был вечером в прошлую пятницу?
Снова обмен ударами, но это было куда хуже, чем боксерский матч.
Мне не нравилось, что он пытался обвинить меня в чем‑то, в чем сам не был уверен.
– Я что, был у булочной, которую вы помянули? Или у соседнего паба?
– Ты получишь пять лет колонии для малолеток, если не ответишь четко и ясно, – заявил он, расстегивая макинтош, хотя на улице было холодно.
– Я у телека сидел, мама же вам сказала, – поклялся я.
Но он продолжал задавать мне дурацкие вопросы:
– У тебя есть телевизор?
На такие штучки не поведется даже двухлетний ребенок, но что мне оставалось ответить, кроме как:
– Антенна, что ли, упала? Или, может, сами зайдете и посмотрите?
За эти слова он еще больше взъелся на меня.
– Мы знаем, что ты не слушал телевизор в прошлую пятницу, и тебе это известно, так ведь?
– Может, и нет, но я его смотрел, потому что мы иногда для смеха вырубаем у него звук.
Я услышал из кухни мамин хохот и надеялся, что мамаша Майка поступит так же, если к нему тоже нагрянут легавые.
– Мы знаем, что тебя не было дома, – продолжил он, дергая дверную ручку и заводясь в такт своим словам.
Они всегда говорят «мы» и никогда «я». Как будто это прибавляет им храбрости и правоты, когда все они набрасываются на одного.
– У меня свидетели есть, – заявил я ему. – Мама – это раз. Кавалер ее – это два. Мало вам? Тогда подгоню еще дюжину и какого‑нибудь черта лысого в придачу, раз уж булочную обокрали.
– Мне не нужна твоя ложь, – ответил он, так и не догнав насчет чертовой дюжины. И откуда они таких легавых набирают? – Все, что мне нужно у тебя узнать – куда ты спрятал деньги.
«Не кипятись, – повторял я себе, – не кипятись». Я слышал, как мама расставляет чашки и блюдца и ставит на плиту сковородку, чтобы зажарить бекон. Я отступил назад и широким, как у дворецкого, жестом пригласил его войти.
– Зайдите сами и обыщите дом. Если у вас ордер есть.
– Слушай, парень, – сказал этот грязный самодовольный урод, – ты особо язык‑то не распускай, не то отвезем тебя в Гилдхолл и наставим тебе синяков и бланшей за твою борзость.
Я точно знал, что он не шутит, потому что слышал об этих их приемчиках. Вот только я надеялся, что как‑то раз ему с его дружками наставят синяков и бланшей. Всяко бывает. Может, это случится скорее, чем вы думаете. Вроде как в Венгрии.
– Скажи мне, где деньги, и я отмажу тебя от реального срока.
– Какие деньги? – удивленно спросил я, потому что такие речи тоже уже слышал.
– Сам знаешь, какие.
– А я что, похож на того, кто знает, где деньги? – сказал я, просовывая кулак в дыру на рубахе.
– Деньги, которые сперли и о которых ты прекрасно знаешь, – ответил он. – Меня не проведешь, так что тебе лучше не пыжиться.
– Так вы о трех шиллингах и пяти с половиной пенсах? – переспросил я.
– Ах ты, ворюга! Мы тебе покажем, как красть чужие деньги.
Я повернул голову.
– Мам! – крикнул я. – Быстренько вызови‑ка моего адвоката, ладно?
– Умничаешь, да? – прошипел он голосом, не обещающим ничего хорошего. – Но мы не успокоимся, пока не выведем тебя на чистую воду.
– Послушайте, – взмолился я, как будто вот‑вот разревусь, потому как он меня не так понял, – это очень здорово вот так говорить, почти как играешь. Но вот скажите мне, в чем штука‑то. Богом клянусь, я только что из кровати вылез, а вы тут стоите у дверей и начинаете мне про то, что я стянул деньги, о которых и знать‑то не знаю.
Он резко повернулся, как будто поймал меня, хотя я и не врубался, с чего бы вдруг.
– А кто тут о деньгах‑то речь ведет? Я ничего такого не говорил. Что это ты деньги приплел?
– Так это же вы начали, – ответил я, подумав, что он спятил и вот‑вот лопнет. – Это у вас деньги на уме, как у всех полицейских. И булочная тоже.
У него аж лицо перекосилось.
– Мне от тебя нужен четкий ответ: где деньги?
Но мне все это уже осточертело.
– Ладно, договорились.
Судя по его раскрасневшейся роже, он подумал, что внезапно чего‑то добился.
– Что значит – договорились?
И тут я ему выдал:
– Я отдам вам все свои деньги, шиллинг и четыре с половиной пенса, если вы перестанете меня пытать и отпустите позавтракать. Честно, жрать охота – сил нет. Со вчерашнего дня ни кусочка. Слышите, как у меня в брюхе урчит?
У него отвалилась челюсть, но он не отстал и промурыжил меня еще с полчаса. Рутинная проверка, как говорят в кино. Но я знал, что выигрываю по очкам.
Потом он ушел, но днем вернулся с обыском. Ничего не нашли, ни единого гроша. Он снова задавал мне вопросы, а я ему все врал и врал без перерыва, потому что могу делать это часами и глазом не моргнуть. Не было у него на меня ничегошеньки, и мы оба это знали, иначе меня враз бы увезли в Гилдхолл, но он все не отставал, потому что я уже сидел в предвариловке по мелкому делу. А Майка тоже пропустили через эту мясорубку, потому что все местные легавые знали, что он мой лучший друг.
Когда стемнело, мы с Майком расположились в большой комнате, приглушив свет и выключив телек. Майк развалился в кресле‑качалке, а я пристроился на диванчике, и оба мы курили. Закрыв дверь и задернув шторы, мы говорили о деньгах, которые спрятали в трубе. Майк думал, что надо их вынуть, а потом вдвоем закатиться в Скегнесс или в Клиторпс и оторваться там в игровых автоматах, пожить, как короли, в пансионе у моря, а потом как следует гульнуть в ресторане, прежде чем нас повяжут.
– Слушай, ты, недоумок, – ответил я. – Нас вообще не поймают, а оторваться можно и попозже.
Мы так осторожничали, что даже не ходили в кино, а пойти очень хотелось.
Утром этот фашист снова меня допрашивал, на этот раз на пару с дружком своим. На следующий день они опять явились и из кожи вон лезли, чтобы что‑то из меня вытянуть, но я не кололся. Я знаю, что выпендриваюсь, но во мне он увидел ровню, и я не прогнулся под градом вопросов, как бы он ни пыжился. Они еще пару раз обыскивали дом, и я вдруг подумал, что у них и вправду была какая‑то зацепка, но теперь‑то я знаю, что они просто хотели взять меня на испуг. Они перевернули дом вверх дном и вывернули его наизнанку, как старый носок, прочесали все вдоль и поперек, но, разумеется, ничегошеньки не нашли. Легавый даже засунул рожу в дымоход в прихожей (которым давным‑давно не пользовались и не чистили) и вылез оттуда, похожий на темнокожего музыканта Эла Джонсона, так что ему пришлось умываться в чулане. Они все вертелись и крутились вокруг аспидистры, которую маме бабушка оставила в наследство, поднимали растение со стола, чтобы заглянуть под скатерть, переставляли стол, чтобы добраться до половых досок под ковром. Но эти высоколобые тупые уроды не додумались высыпать землю из горшка, где мы и спрятали пустую расплющенную коробку из‑под денег, когда взяли булочную. Подозреваю, что она до сих пор там, и, похоже, мама время от времени удивляется, что аспидистра не так буйно растет, как раньше. Как будто она может спокойно расти, если у нее под корнями большая жестянка закопана.
В последний раз он постучался к нам в дверь дождливым утром без пяти девять, а я, как обычно, дрыхнул на своей разбитой кровати. В тот день мама ушла на работу, так что я крикнул, чтобы обождали, а потом спустился, чтобы глянуть, кого еще принесло. Там стоял этот легавый ростом метр восемьдесят, с которого лило ручьем. И тогда впервые в жизни я сделал гадость, которую никогда себе не прощу: я не пригласил его войти в дом, чтобы не мокнуть под дождем, потому что мне хотелось, чтобы он подхватил воспаление легких и помер. Похоже на то, что он мог бы меня отодвинуть и войти, если бы захотел, но, может, он привык задавать вопросы с порога и не хотел стушеваться, попав на чужую территорию, хотя на улице и лил дождь. Я не то чтобы люблю делать гадости из‑за каких‑то дурацких принципов, но эта гадость, как выяснилось, для меня добром не обернулась. Надо было принять его, как брата, которого не видел лет двадцать, затащить его в дом, угостить чаем и сигареткой, рассказать ему о киношке, которую я не смотрел вчера вечером, спросить, как его жена после операции и сбривали ли ей для этого усики, а потом проводить его, счастливого и довольного, до двери и отпустить прочь. «Но нет, – подумал я, – посмотрим, что он сейчас сможет сказать».
Он стоял ближе к краешку двери, то ли потому, что там меньше лило, то ли потому, что хотел увидеть меня под другим углом. Наверное, он устал смотреть прямо в лицо парню, который все время ему врал.
– Тебя опознали, – сказал он, стряхивая с усов дождевые капли. – Одна женщина видела вчера тебя с твоим дружком, и она клянется, что вы – те самые типы, которых она видела залезающими в булочную.
Я был на все сто уверен, что он продолжает блефовать, потому что за день до этого мы с Майком не виделись, но сделал озабоченное лицо.
– Тогда она – угроза всем невинным людям, эта женщина, потому что единственная булочная, куда я недавно заходил – это на нашей улице. Я там хлеб для мамы в долг брал.
Он на это не купился.
– Так вот, мне нужно знать, где деньги, – заявил он.
– По‑моему, мама взяла их сегодня утром на работу, чтобы чаю в столовке попить.
Дождь лил так, что мне показалось, что его смоет водой, если он не зайдет внутрь. Но я не очень‑то из‑за этого переживал и продолжил:
– Помню, вчера я положил их в вазу на телеке, мой единственный шиллинг и три пенса, которые я приберег наутро на пачку сигарет. Меня сейчас чуть кондрашка не хватила, когда я увидел, что их там нет. Я‑то думал, что день на них протяну, потому как без курева и жизнь не жизнь, а?
Я начал расходиться, и мне стало лучше, потому как я понимал, что это будет моя последняя порция вранья, и если мне удастся надолго запудрить им мозги, я переиграю этих уродов. Мы с Майком смоемся на несколько недель на море, где можно оттянуться от души: играть в автоматах в футбол по пенсу за матч и подцепить пару девиц, чтобы по полной с ними оторваться.
– А в такую погоду без толку подбирать бычки на улице, – говорил я, – потому что они мокрые. Конечно, можно подсушить их у огня, но вкус тогда уже не тот, сами знаете. Под дождем они так размокают, что просто жуть – прямо навоз какой‑то, только без вкуса.
И тут я начал раскидывать своими куриными мозгами, что это легавый меня не обрывает и не орет, что нет у него времени слушать мою болтовню, но он уже на меня не смотрел, и все мысли о Скегнессе разлетелись вдребезги в моей тупой башке. Мне захотелось сквозь землю провалиться, когда я увидел, на что он таращится.
А глядел он на нее, шикарную пятифунтовую бумажку, а я все мямлил:
– Другое дело, когда у тебя есть настоящее курево, потому что свежий табак куда лучше, чем мокрый и сушеный. Я знаю, как плохо, когда не можешь найти деньги, потому как шиллинг и три пенса – это хоть у кого шиллинг и три пенса. Естественно, если я увижу, куда они подевались, я завтра пулей к вам примчусь и скажу, где их можно найти.
Казалось, меня кондрашка хватит: водой смыло еще три зеленых однофунтовки, а деньги все падали. Сперва они лежали плашмя, а потом загибались по уголкам от ветра и дождя. Они были как живые и как будто хотели вернуться в уютную трубу, подальше от жуткой погоды. Вы представить себе не можете, как мне хотелось, чтобы они смогли там спрятаться. Старый фашист никак не мог врубиться, в чем дело, и все таращился себе под ноги, а я подумал, что лучше всего – не затыкаться, хотя и знал, что теперь это вряд ли поможет.
– На самом деле я знаю, как тяжело даются деньги, а полукроны просто так не валяются в автобусах и на помойках, и в кровати у себя прошлой ночью я их тоже не видел, потому как сразу же нашел бы, так ведь? На них не очень‑то поспишь, твердые они, но ведь сначала…
Фашист долго кумекал, что к чему. Купюры уже растеклись по двору, подкрепленные сиреневой десятишиллинговой бумажкой, прежде чем сыскарь обрушил мне на плечо свою тяжелую пятерню.
3
Лупоглазый пузатый начальник колонии сказал лупоглазому пузатому депутату парламента, сидевшему рядом со своей лупоглазой пузатой шлюхой‑женой, что я – его единственная надежда выиграть синюю призовую ленту и всеанглийский кубок по бегу на длинные дистанции среди исправительных учреждений для несовершеннолетних. Чем я и был, и потому хохотал в душе и не сказал никому из лупоглазых пузатых уродов ни слова, которое могло бы вселить в них надежду. Хотя и знал, что начальник воспринимает то, что я веду себя тихо, как тот факт, что он уже заполучил этот кубок и поставил его на книжную полку рядом с другими заплесневелыми трофеями.
– Он вполне может профессионально заняться бегом, – изрек начальник колонии.
И вот когда он это сказал, а я уловил собственными ушами, я врубился, что очень даже можно жить вот так. Бегать за деньги, сдельно трусить по шиллингу за вдох, а потом поднять до гинеи за выдох. Выйти на пенсию по старости в тридцать два года из‑за того, что легкие сделаются, как кружевные занавески, сердце – как футбольный мяч, а ноги – с варикозными пузырями, как бобы в стручке. Но будет у меня и жена, и машина, и широкозубые портреты во всех газетах, и симпатюшка‑секретарша, которая отвечала бы на мешки писем от девчонок, толпа окружала бы меня, заметив, что я направляюсь в «Вулворт» купить пачку лезвий и попить чайку. Конечно, об этом стоило подумать, и начальник, разумеется, знал, что зацепил меня, когда сказал, повернувшись ко мне, как будто со мной кто‑то собирался советоваться:
– Как тебе такой расклад, Смит? А?
Целый ряд пузатых типов вылупил на меня зенки, раскрыв пасти, как серебряные караси, двигая челюстями с золотыми зубами. И я ответил то, что они хотели услышать, потому что главный козырь приберег на потом.
– В самый раз, сэр, – сказал я.
– Молодец. Прекрасно. Верно мыслишь. Превосходно.
– Ну‑с, – продолжал начальник, – выиграй нам сегодня кубок, и я сделаю для тебя все, что смогу. Натренирую тебя так, что ты обставишь любого в свободном мире.
И тут я себе представил, как бегу и обставляю всех на свете, всех обгоняю, а потом совсем один бегу себе раз‑два по широкой вересковой пустоши, где разгоняюсь еще быстрее и лечу мимо валунов и тростниковых зарослей, как вдруг… Бах! Бах! Пули, что летят быстрее любого бегуна, выпущенные из винтовки сидящего на дереве легавого, настигают меня, разрывают мне глотку, несмотря на мой безупречный бег, и я валюсь на землю.
Пузатые типы ждали, что я еще что‑то скажу.
– Спасибо, сэр, – добавил я.
Мне сказали идти, и я сбежал по ступенькам небольшого шатра прямо на поле, потому что вот‑вот должен был начаться забег, и два участника из Ганторпа уже пристроились на стартовой черте, готовые рвануться вперед, как белые кенгуру. Спортивная площадка выглядела просто шикарно: везде чайные палатки, развевающиеся флаги и семейные места. Места пустые, потому как мамаши и папаши не знали, что такое день открытия. Ребята все еще бежали отборочные стометровки, дамы‑господа прогуливались от киоска к киоску, играл оркестр исправительной колонии в синей униформе. На трибунах виднелись коричневые пиджаки Хакналла и наши серые блейзеры, а рядом сидел народ из Ганторпа в рубашках с засученными рукавами. В синем небе ярко светило солнце, погода стояла, как по заказу, и вся обстановка напоминала фильм «Айвенго», который нам показывали несколько дней назад.
– Смит, давай сюда! – крикнул мне тренер. – Мы не хотим, чтобы ты опоздал к старту. Хотя, честно сказать, ты их все равно сделаешь, даже если и припозднишься.
Остальные встретили его слова свистом и фырканьем, но я плюнул на них на всех и пристроился между парнем из Ганторпа и бегуном из Эйлшема, встал на одно колено и сунул в рот несколько травинок, чтобы пожевать на бегу. Да, для «них» намечался большой забег, они смотрели на нас с гостевой трибуны под трещавшим на ветру британским флагом. Этого кросса так ждал начальник колонии, и я надеялся, что он и его лупоглазая банда лихорадочно делали на меня ставки, сто к одному, что я выиграю. Выворачивали все деньги из карманов, ставили всю зарплату на пять лет вперед, и чем больше они ставили, тем лучше мне становилось. Потому как они на все сто были уверены в том, что кто‑то помрет за звание, которое ему присвоили, помрет от смеха, если смехом этим не подавится. Коленкой я чувствовал холодную землю, а краем глаза увидел, как тренер поднял руку. Парень из Ганторпа рыпнулся чуть раньше сигнала, кто‑то крикнул не ко времени, бегун из Медвея подался вперед, грохнул стартовый пистолет, и я рванулся бежать.
Мы обежали поле и двинулись по обсаженной вязами полукилометровой дорожке, где нам все время кричали. Походило на то, что я вырвался вперед, когда мы прошли ворота и вышли на тропинку, хотя я не очень‑то интересовался. Пятикилометровая дистанция была размечена белой краской, сиявшей на воротных столбах, стволах деревьев, перекладинах и валунах, и через каждые пятьсот метров стоял мальчишка с бутылкой воды и аптечкой на случай, если кто‑то сойдет с дистанции или рухнет в обморок. Почти без напряга пройдя первую перекладину, я обогнал почти всех, кроме одного. Если хотите знать, то в беге никогда не надо торопиться и подавать вида, что торопишься, даже если это так. На длинных дистанциях всегда можно выиграть, если не дать остальным почуять твою спешку. И если с помощью этого приема нагонишь двоих‑троих впереди, потом можно сделать большой рывок, который перечеркнет спешку всех остальных, потому как до этого тебе не приходилось рвать вперед. Я бежал в мерном ритме раз‑два и скоро пошел так плавно, что забыл, что вообще бегу. Я едва чуял, что мои ноги поднимались и опускались, что я мерно махал руками, что легкие мои, похоже, почти отключились, а сердце перестало колотиться, как обычно в начале забега. Потому как я никогда не несусь вперед, а просто бегу и знаю, что если забуду, что несусь, и двигаюсь раз‑два, пока сам не перестаю ощущать, что бегу, то я всегда выигрываю. Ведь когда мои глаза видят, что я приближаюсь к концу дистанции, заметив перекладину или угол дома, я ускоряюсь, и очень сильно, потому как чувствую себя так, будто до этого вообще не бежал и не тратил энергию. Я смог все это проделать потому, что думал, один ли я среди бегунов, которые забывают, что бегут, потому что заняты своими мыслями, и делает ли кто‑нибудь из ребят так же, как я, хотя точно знаю, что не делает. Я ветром летел по мощеной тропинке и изъеденной вмятинами дорожке, более гладкой, чем травяная дорожка, на которой лучше думается, потому что она не такая вылизанная, и в тот день я точно знал, что никто меня не обгонит, и намеревался превзойти самого себя. Ведь когда начальник колонии в мой первый день там говорил со мной о честности, он не знал, что это слово значит, иначе он не поставил бы меня на этот кросс, где я бегу в майке и трусах в солнечном свете. Он послал бы меня туда, куда я бы послал его, будь я на его месте: в каменоломню ворочать камни, пока не свернешь себе спину или шею. В любом случае похожий на Гитлера сыскарь в штатском был честнее начальника, потому как мы с ним оба знали, что почем. А когда в суде слушалось мое дело, легавый постучал к нам в дверь в четыре часа утра и поднял с постели мою до смерти уставшую маму, чтобы напомнить, что в суд ей надо явиться ровно в половине десятого. Это была самая жуткая гадость на моей памяти, но я бы назвал ее честной, как и те слова, что мама высказала тому легавому, когда она с полчаса ругала его на чем свет стоит, хоть и перебудила всю округу.
Я бежал вдоль края поля, окаймленного тропинкой, вдыхая запах травы и жимолости, и мне казалось, что я из древнего рода борзых, натасканных бегать на двух ногах, вот только впереди не видел муляжа зайца, а сзади меня никто не подстегивал, чтобы я не сбивался с ритма. Я обошел бегуна из Ганторпа, чья майка уже почернела от пота, и впереди уже видел огороженную рощицу, где к метке половины дистанции во весь опор мчался последний участник, которого мне надо было обогнать, чтобы выиграть кросс. Затем он свернул в тонкую полоску деревьев и кустов, и я потерял его из виду. Я вообще никого не видел и понял, что такое одиночество бегуна на длинные дистанции. Осознал, что для меня они были единственной честностью и реальностью на свете и что они никогда не изменятся, что бы я временами ни чувствовал и что бы мне ни старались внушить. Бежавший сзади парень, наверное, сильно отстал, потому что сделалось очень тихо, куда тише, чем даже в пять часов морозным зимним утром. Я с трудом это понимал и знал только, что надо бежать, бежать и бежать, не понимая, зачем бежишь, но двигаться вперед по полям, которых не понимал, в лес, которого боялся, на пригорки, не осознавая, что движешься вверх‑вниз, через ручьи, где можно свернуть себе шею, если упадешь. И на финишной черте бег не кончается, даже если толпа подбадривает тебя криками, потому что надо успеть прежде, чем вернешь дыхалку. А по‑настоящему остановишься тогда, когда споткнешься об упавшее дерево и сломаешь себе хребет или провалишься в заброшенный колодец и навеки сгинешь в темноте. И вот что я подумал: они не выведут меня на беговую дорожку, не заставят бежать и стремиться к победе, трусить раз‑два за огрызок синей ленты, потому что так жить нельзя, хоть они и клянутся, что жить нужно только так. Не надо ни о ком думать, нужно идти своим путем, а не маршрутом, который тебе разметят люди с бутылками воды и пузырьками йода на тот случай, если ты упадешь и поранишься, чтобы поднять тебя и снова отправить бежать, даже если ты хочешь остаться на месте.
Я бежал дальше, выскочив из леса и обойдя лидера забега, сам не зная, что хочу это сделать. Раз‑два, раз‑два, топ‑топ, топ‑топ, скрип‑скрип – опять напрямик через поле, бегу ритмично и без напряга, как борзая, и знаю, что выиграл кросс, хотя еще и половины не пробежал, выиграл, если бы хотел, мог бы, если надо, трусить еще десять, пятнадцать или двадцать километров и рухнуть замертво на финише. Что, в конечном итоге, то же самое, как прожить честную жизнь, чего хотел от меня начальник колонии. Все сводилось вот к чему: выиграй кросс и будь честным, и я побежал, наслаждаясь жизнью и своими успехами, потому что мне становилось хорошо, и я начал думать, что к этой минуте полюбил. Но мне стало все равно, когда я вспомнил, что мне не только нужно выиграть кросс, но и пробежать его. Одно из двух: мне нужно было выиграть забег или пробежать его, и я знал, что могу сделать и то, и то, потому что ноги вынесли меня вперед всех (срезая путь по заросшему ежевикой откосу и через лощину) и понесут дальше, потому как казалось, что они у меня из электрических проводов и по ним бежит ток, отчего я весело топаю по ложбинкам и корням. Но я не выиграю, потому как единственный способ для меня выиграть и прийти первым – это слинять от легавых, когда я возьму самый большой в своей жизни банк. Но победа значит прямо противоположное, как бы меня ни убивали и ни дурили – это прибежать прямиком в их ручки в белых перчатках, за решетку и к их осклабившимся рожам, и остаться там до конца жизни, чтобы тесать камни, но тесать их так, как мне захочется, а не так, как мне скажут. Мне в голову приходит еще одна честная мысль. Можно рвануть влево у следующей живой изгороди на краю поля и под ее прикрытием медленно уйти подальше от финишной черты. По такой местности я мог бы пробежать пяток‑десяток километров, пересекая несколько проезжих дорог, так что они никогда бы не узнали, по какой из них я подался. Может, когда стемнеет, я на одной из них стал бы голосовать и подался бы на север с каким‑нибудь дальнобойщиком, который бы меня не выдал. «Но нет, – сказал я себе, – я же не полный идиот, так ведь?» Я не стану линять, когда мне осталось всего полгода, к тому же мне нечего бросать и не от чего бежать. Я просто хочу врезать всем этим «правильным» и толстопузым, когда они станут сидеть, развалившись в шикарных креслах, и глядеть, как я проигрываю забег, хотя Богом клянусь, я знаю, что когда действительно его проиграю, то меня ждет жуткая кормежка и самая грязная работа на кухне, пока я отсиживаю оставшиеся до конца срока месяцы. Никто меня и в грош не будет ставить, и это награда за то, что я был честным на единственный ведомый мне манер. Ведь когда начальник сказал мне быть честным, это значило быть честным по‑его, а не по‑моему, и если бы я проявил ту честность, о которой он говорил, и выиграл бы для него забег, он бы устроил все так, что оставшиеся полгода я бы как сыр в масле катался. Но по моим понятиям так нельзя, и если я поступлю так же, как хочу поступить сейчас, то тогда он выместит на мне свое зло так, что мало мне не покажется. А если посмотреть на это с моей колокольни, то кто его может винить? Ведь идет война – разве я этого не говорил? – и когда я его ударю по больному месту, он обязательно устроит мне жизнь веселую за то, что я не взял кубок. А он ведь спал и видел, как на закате дня встает и хлопает меня по спине, когда я получаю кубок из рук лорда Уховёрта или еще какого‑нибудь толстомордого чудика с фамилией типа этой. Так что я ударю его в самое больное место, а он сделает все, что сможет, чтобы насолить мне, око за око, но я получу больше удовольствия, потому как ударю первым и потому, что долго готовил удар. Не знаю, почему эти мысли кажутся мне лучше всех, что приходили мне в голову, но это так, и мне наплевать, почему это так. Похоже, у меня много ушло времени на то, чтобы вот так разойтись, потому что в бандитской жизни времени и покоя у меня не было, а теперь мои мысли попадают в самую точку. Одна беда – я частенько не могу остановиться, даже тогда, когда у меня в башке колика, обморожение и ползучий паралич одновременно, и надо дать башке отдохнуть, прорываясь по откосу через заросли ежевики. И это еще один удар, который я нанесу людишкам вроде начальника, чтобы – если смогу – показать, что в его забегах никогда не бывает победителей, хотя какой‑нибудь парень всегда приходит первым, сам того не зная. Что, в конечном итоге, начальник обречен, а ребята вроде меня соберут остатки его обугленных костей и станут плясать, как сумасшедшие, на развалинах его колонии. Так что эта история похожа на забег, и я не выйду в ней победителем в угоду начальнику. Нет, я честен, как он мне и сказал, не зная смысла своих слов, хотя, похоже, он никогда не напишет свою историю, даже если прочтет мою и догадается, о ком я веду речь. Я только что выбрался из лощины, с разбитыми коленями и локтями, в ссадинах и царапинах от ежевики. Кросс пройден на две трети, а в голове у меня говорит какой‑то голос, как по радио, что когда ты достаточно прочувствовал, как хорошо быть первым человеком на Земле морозным утром, и узнал, как плохо быть последним человеком на Земле летним днем, ты, наконец, становишься единственным человеком на Земле, и тебе наплевать на добро и зло. Ты просто шлепаешь ногами по сухой земле, зная, что хотя бы она тебя не предаст. Сейчас слова выходят, как из испорченного детекторного приемника, и в кишках у меня происходит что‑то, что меня беспокоит. Я не знаю, отчего это и почему, но рядом с сердцем что‑то лязгает, как будто внутри меня лопнул мешок с ржавыми болтами, и я встряхиваю их каждый раз, когда делаю шаг. Я то и дело сбиваю ритм, чтобы пощупать левую ключицу, перебросив правую руку через грудь, словно пытаясь вытащить неизвестно как воткнутый туда нож. Но я знаю, что нечего переживать, что это, наверное, от размышлений, которым я то и дело предаюсь. Ведь иногда мне кажется, что я величайший печальник в мире (как вы, бьюсь об заклад, просекли из того, что я написал этот рассказ). Вообще‑то это смешно, потому как мамаша моя даже слова такого не знает, так что я пошел не в нее. А папаша мой всю жизнь печалился, пока не запачкал кровью всю спальню и не сыграл в ящик, когда дома никого не было. Я никогда этого не забуду, чтоб я сдох, потому что именно я обнаружил его тело и очень часто об этом жалел. Я вернулся из заведения с игральными автоматами, поигрывая доставшимися мне тремя безделушками в притихшем доме, и как только я вошел, то понял, что что‑то не так. Я стоял, прислонившись головой к стоявшему на каминной полке холодному зеркалу, стараясь не открывать глаза и не видеть свою онемевшую рожу. Потому как знал, что побелел, как мел, как только вошел, словно меня укусил вампир Дракула, и даже пустяковые трофеи нарочно не звенели у меня в кармане.
Конец ознакомительного фрагмента – скачать книгу легально
Библиотека электронных книг "Семь Книг" - admin@7books.ru