
Открытия, которые изменили мир. Как 10 величайших открытий в медицине спасли миллионы жизней и изменили наше видение мира (Джон Кейжу)
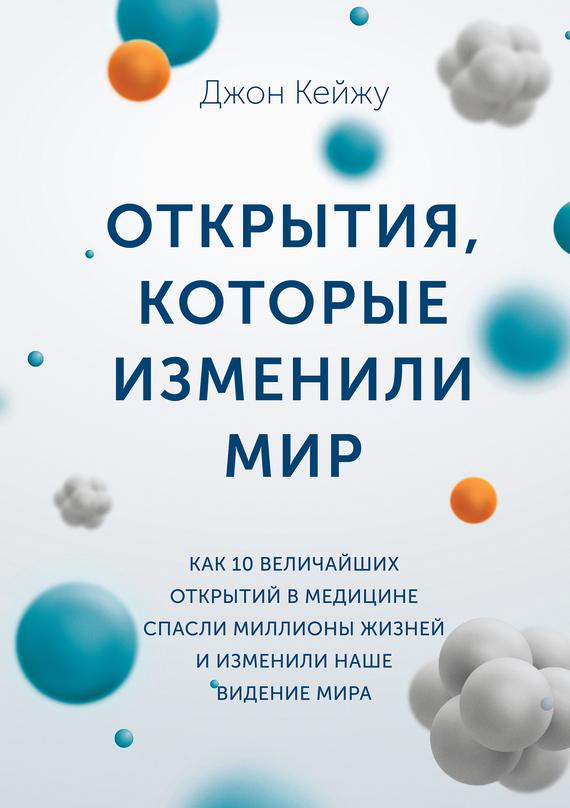
Джон Кейжу
Открытия, которые изменили мир. Как 10 величайших открытий в медицине спасли миллионы жизней и изменили наше видение мира
* * *
Эту книгу хорошо дополняют:
Лидеры, которые изменили мир
Брайан Муни
Компании, которые изменили мир
Джонатан Мэнтл
Речи, которые изменили Россию
Радислав Гандапас
С любовью и благодарностью посвящаю эту книгу моим родителям – Энтони Кейжу и Джун Дадли Кейжу. Особая благодарность Руши Хаснен, которая на каждом шагу помогала мне новыми идеями, безграничным одобрением, поддержкой и заботой
Самое волнующее слово в области науки, возвещающее о новом открытии, вовсе не «Эврика!». Это слово «занятно».
Айзек Азимов, американский писатель и биохимик
Занятно…
Александр Флеминг, после находки плесневых выростов, приведшей к открытию пенициллина
Введение
Велик соблазн сразу начать с извинений за словосочетание «величайшие открытия». Оно может быть и пафосным, как кричащий заголовок, и соблазнительным, как подарок в яркой упаковке (тут уж вам решать). Но трудно не задать себе вопрос: о каких именно величайших открытиях речь? Что это – лекарство от рака, легкий способ похудеть, секрет вечной жизни? Нет, наша книга вовсе не из таких. Пожалуй, раз мы говорим о десяти величайших открытиях в истории медицины, извинения вообще не нужны. Увы, ни о легкой потере веса, ни о вечной жизни вы здесь не прочтете. Но все эти открытия намного важнее, поскольку отвечают трем главным критериям: они спасли, улучшили или избавили от страданий жизни миллионов человек; они изменили медицинскую практику своего времени; они преобразили наши представления о мире. Последний пункт слишком часто упускают из вида. Величайшие открытия в медицине влияют в основном на общее состояние здоровья людей и практику. Намного реже случаются события, которые открывают нам глаза, предлагают фундаментально новый способ восприятия мира и не только дают новые ответы на вопросы «Почему мы болеем?» и «Как мы умираем?», но и заставляют задуматься о том, как мы устроены и что общего у нас с живой природой.
Каждый из десяти прорывов, о которых пойдет речь, в свое время поразил человечество подобно удару молнии. Это были пробуждения, за которыми следовал мощный подъем. Как, болезнь вызвана естественными причинами, а не злыми духами и не гневом богов? Вдыхание определенных газов может снять боль и не убить пациента? Аппарат способен делать снимки изнутри человеческого тела? Сегодня мы принимаем все это как должное. Но было время, когда миллионы людей, услышав об этом, не могли поверить своим ушам. Они отказывались в это верить. Пока наконец не сдавались перед лицом фактов. И тогда мир необратимо менялся.
Критики обычно с удовольствием громят разнообразные «десятки лучших». Они подозревают составителей в скрытых мотивах, скрупулезно изучают каждую выборку, предлагают много «более подходящих» вариантов. Сравнивая и оценивая, какую роль сыграло то или иное открытие в истории страданий, болезней и смертей, трудно сохранять объективность. Но в критике есть рациональное зерно: такие списки нередко слишком упрощены. В наше время, когда все обращают внимание только на знаменитостей, прожектор нашего внимания выхватывает из темноты лишь горстку самых ярких звезд и зачастую не дает разглядеть заслуги множества людей, которые прокладывали для них путь. А самое интересное в истории великих открытий – именно маленькие шаги, которые сделали возможным финальный победный «прыжок». В этой книге речь пойдет как раз о таких шагах, о том, как веха за вехой они привели человечество к десяти величайшим прорывам в медицине.
Здесь вы не найдете историй о гениях, которые все заранее просчитали и легко добились успеха. Каждый крупный медицинский прорыв – дикий, непредсказуемый коллаж из человеческих историй и эмоций. Даже если вас не удивит количество открытий, которые были сделаны из одного упрямства людьми, продолжавшими двигаться вперед невзирая на неудачи и постоянную критику, вас наверняка поразит, сколькими откровениями мы обязаны случайному стечению обстоятельств, удаче, если не сказать больше. «Совпадения», которые привели Александра Флеминга к открытию пенициллина, способны заставить некоторых атеистов пересмотреть свои убеждения. Не менее удивительно и то, сколько людей понятия не имели, что однажды их работа приобретет огромное значение. Так, шведский врач Фридрих Мишер открыл ДНК в 1869 г. – за 80 с лишним лет до того, как ученые определили ее роль в наследственности.
Впрочем, невежество в поисках правды простительно. Гораздо труднее симпатизировать тем историческим личностям, которые высмеивали новые открытия, потому что страх или косность мышления не позволяли им отринуть отжившие убеждения и традиции. Примеров множество: от отрицания новаторских исследований Джона Сноу и Игнаца Земмельвейса в области микробной теории заболеваний в первой половине XIX в. до пренебрежительных отзывов о законах генетики, открытых Грегором Менделем в 1860?х. Мендель упорно трудился десять лет, но один видный ученый пренебрежительно заметил, что его работа «на самом деле только началась». Многие великие открытия в области медицины совершены отважными исследователями, которые осмелились потрясти основы устоявшихся и чаще всего неверных представлений о мире. Неудивительно, что после того, как открытие наконец было принято обществом, мир менялся до неузнаваемости.
* * *
И все же навязчивый вопрос так и остался без ответа: почему именно эти десять открытий и именно в таком порядке? Если у вас есть другие идеи и немного свободного времени, вы можете попытаться составить свою «десятку», например, задав в Google запрос «прорыв в медицине». Не исключено, что у вас уйдет еще полдня на то, чтобы сократить до разумных пределов список из 2,1 млн результатов. Столько страниц выпадало по этому запросу в 2009 г. К счастью, для меня задачу упростил опрос, проведенный в 2006 г. журналом British Medical Journal (BMJ). Читателей просили сообщить, какие достижения медицины они считают самыми великими, начиная с 1840 г. (в этот год вышел первый номер BMJ). Из 11 тыс. полученных ответов были выбраны 15 самых популярных.
Варианты, которые не вошли в окончательный список BMJ, варьировались от нерелевантных (пластик, железная каркасная кровать, гигиенические тампоны, «виагра» и развитая государственная система социальной защиты) до глубоко личных (анализ крови, дефибриллятор, антикоагулянты, инсулин, помощь сиделок и уход за неизлечимыми больными). Окончательный список получился довольно любопытным. Он был одновременно и специфическим, и в целом вполне соответствующим действительности: 1) санитария (чистая вода и канализация); 2) антибиотики; 3) анестезия; 4) вакцины; 5) открытие структуры ДНК; 6) микробная теория заболеваний; 7) оральные контрацептивы; 8) доказательная медицина; 9) диагностическая визуализация (например, рентген?диагностика); 10) компьютер; 11) пероральная регидратация (возмещение жидкости, потерянной организмом в результате рвоты и диареи); 12) вред курения; 13) иммунология; 14) хлорпромазин (первое нейролептическое средство); 15) выращивание тканей.
Список BMJ неплох, но его вряд ли можно считать окончательным. Еще один список, опубликованный в 1999 г. журналом Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) Центра контроля и профилактики заболеваемости США, предложил свою версию «Десяти крупнейших достижений в области общественного здравоохранения» за период с 1900 по 1999 г. MMWR не стал ранжировать свою выборку, некоторые пункты совпали со списком BMJ (например, вакцинация и контроль инфекционных заболеваний), но вместе с тем было предложено несколько ценных дополнений, в том числе повышение безопасности при управлении транспортным средством и на рабочем месте, более безопасное и здоровое питание, сокращение смертности от сердечно?сосудистых заболеваний, а также признание табака вредным для здоровья.
Списки BMJ и Центра контроля и профилактики заболеваемости повлияли на мой выбор десяти величайших прорывов в медицине, но у обоих есть один недостаток. Из них исключены медицинские достижения человечества до 1840 г. (это вряд ли сочли бы справедливым Гиппократ и ряд других знаменитых медиков). Кроме того, мне показалось более интересным и разумным включить предложенное BMJ открытие хлорпромазина в более широкую группу «Лекарства для ума». В главе 9 рассказано об одном из самых замечательных десятилетий в истории медицины. Начиная с 1948 г. и в 1950?е ученым удалось найти лекарства от четырех самых серьезных психических расстройств, преследующих человеческий род: шизофрении, биполярного аффективного расстройства, депрессии и тревожных расстройств.
Еще один вопрос, неизбежно возникающий, когда мы изучаем «лучшую десятку» чего угодно: а как это сюда попало? Например, многие связывают понятие «прорыв в медицине» с чудесами техники (магнитно?резонансная визуализация, лазер, искусственные органы), достижениями хирургии (трансплантация органов, удаление опухолей, пластика сосудов) или волшебными таблетками (аспирин, химиотерапия, препараты, снижающие уровень холестерина). Каждый может перечислить много подобных примеров, но если вспомнить приведенные выше три основных критерия, становится ясно, что они не могут претендовать на место на вершине списка. Более того, интересно отметить, что два пункта из списка BMJ весьма далеки от высоких технологий: это санитария (№ 1) и пероральная регидратация (№ 11). Вместе с тем их роль в спасении человеческих жизней очевидна и неоспорима. Согласно общим оценкам, за последние 25 лет пероральная регидратация спасла около 50 млн детей в развивающихся странах.
А кто?то может возразить против включения в наш список отдельных пунктов, например возрождения альтернативной медицины. Мне вспоминается бывший редактор журнала New England Journal of Medicine, который отказался писать рецензию на книгу, аргументировав это, в частности, так: «Никакой “альтернативной медицины” не существует – есть медицинские методы, которые работают или не работают». Я понимаю эту точку зрения, но, при всем уважении, позволю себе с ней не согласиться. Есть много способов оценить плюсы и минусы альтернативной медицины. Некоторые из них, надеюсь, мне удалось адекватно осветить в главе 10. Но если рассматривать все факторы в более широкой перспективе – практически за всю историю человечества, – я за ее включение в список.
Первый и самый простой довод в пользу включения в список альтернативной медицины – партнерство, которое сейчас формируется между альтернативной и научной медициной, и появившаяся не так давно философия, заимствующая лучшее от обеих традиций. Эта новая, быстро развивающаяся область под названием «интеграционная медицина» сейчас поддерживается множеством врачей из сфер альтернативной и научной медицины. Второй довод таков: альтернативная медицина, хотя и не может похвастаться методологией научной медицины, оказывает благотворное воздействие на здоровье и состояние духа миллионов людей, которые не обязательно придерживаются западной модели здоровья. Третий и, пожалуй, самый важный довод: консервативный подход к медицине основательно дискредитировал себя в ходе истории. Достаточно вспомнить уроки, которые преподали нам люди, отрицавшие важность и обоснованность теории о циркуляции крови Уильяма Гарвея, значение стетоскопа Рене Лаэннека, вакцину от натуральной оспы Эдварда Дженнера, микробную теорию заболеваний, законы генетики Менделя, значение эфира в хирургии, идею о том, что пенициллин может остановить бактериальную инфекцию…
Думаю, комментарии излишни.
* * *
Пожалуй, самое интересное в списке десяти величайших медицинских открытий – связанные с ними истории о людях самого разного общественного положения: врачах, ученых, пациентах. Они полны разнообразных эмоций: от недоверия или благоговения при виде внезапно открывшейся глубокой тайны природы до ликования, которое приносит появление нового средства, способного избавить больного от страданий или неминуемой смерти. Но так или иначе это всегда истории о том, как человеческий дух новыми и удивительными способами раздвигает границы познания. Приведем несколько примеров.
- Гиппократ положил начало клинической медицине, сформировав практику скрупулезного наблюдения за состоянием пациентов. Одним из них был юноша из Мелибеи, который умирал медленной мучительной смертью «вследствие пьянства и плотской невоздержанности».
- Врач Игнац Земмельвейс вернулся из путешествия и обнаружил, что его близкий друг скончался от болезни, которая, как считали раньше, поражает только женщин. После этого его настигло озарение, в будущем позволившее спасти бесчисленное количество жизней.
- Молодые люди в начале XIX в. вдыхали ради забавы «веселящие газы», не подозревая о том, что их развлечения станут первым шагом к открытию анестезии.
- Фермер Бенджамин Джести за 20 лет до Эдварда Дженнера «открыл» вакцинацию. Он вывел свою семью на пастбище и привил их от оспы, полагаясь на собственную интуицию и деревенские поверья.
Истории людей, которые и представить не могли, как их усилия и страдания однажды повлияют на миллионы других жизней и изменят представления о мире, трогают до глубины души. Но, как ни парадоксально, мы и сегодня не можем предсказать, какое из новых открытий, о котором мы узнали из новостей или одной из двух миллионов ссылок, выпавших в поиске Google, будет по?прежнему считаться настоящим прорывом через два года, а тем более через два столетия. Вполне вероятно, это будет открытое не сегодня?завтра новое лекарство от рака, секрет легкой потери веса или долголетия. Но давайте обратимся к десяти открытиям, которые, как нам уже известно, прошли испытание временем. Без них мы, пожалуй, не могли бы позволить себе роскошь всех этих размышлений. Не исключено, что нас вообще не было бы на свете.
Глава 1
Первый в мире врач: Гиппократ и зарождение медицины
Греческий остров Кос в чистых прозрачных водах Эгейского моря, окаймленный бесконечными золотыми пляжами, – одно из лучших мест на Земле. Здесь хорошо болеть и еще лучше оставаться здоровым.
Кос, входящий в архипелаг из 12 островов, находится в 322 километрах к юго?востоку от Афин и всего в нескольких километрах от юго?западного побережья Турции. Это длинный и узкий, покрытый пышной растительностью остров, преимущественно плоский, за исключением двух невысоких гор на южном берегу. Именно здесь, в городке Кос, древнем поселении на северо?восточном берегу, зародились магические поверья и медицина.
Конечно, есть соблазн пуститься в рассуждения о том, как легендарная история Коса связана с его благодатной почвой и изобильными подземными водами. Прибывающих в селение встречает роскошный пейзаж: высокие пальмы, кипарисы, пинии, кусты жасмина. Всполохи цвета добавляют ярко?алые, розовые и оранжевые гибискусы. Но если вы хотите найти подлинное сердце Коса и глубже изучить его 2500?летнее наследие, вы должны двигаться дальше…
Для начала повернитесь на запад и отойдите от селения на 4 километра. Вы приблизитесь к пологому склону, утопающему в зелени. Поднимаясь по нему, вы минуете множество древних руин. Умерьте свое любопытство и продолжайте путь наверх. Вскоре вы достигнете вершины. Оглядывая окрестности с возвышенности, вы замрете в изумлении: мир раскололся.
Перед вами захватывающий пейзаж побережья Эгейского моря. Вдыхая свежий морской воздух, вы чувствуете древнюю атмосферу острова, где загадочным образом соприкасаются два мира. Один, внутренний, – это вы, ваше тело, сосуд из плоти и крови, заключающий в себе эмоции и разум. Другой, внешний, – вся окружающая вас физическая вселенная.
Если вы хоть на мгновение задумались о существовании и, более того, о сосуществовании этих двух миров, пусть детали вам не до конца понятны, – что ж, поздравляю. Вы прибыли на остров Кос, в реальном и метафорическом смысле. Именно здесь, в этом месте, по мнению первого в мире «рационального врача», берут начало жизнь и смерть, здоровье и болезни. А значит, здесь начинается и работа целителя.
* * *
Это древнее место называется Асклепион, в переводе с греческого – «храм исцеления». Но он не похож на другие храмы. Сегодня от него остались только руины: разрушенные стены без крыш и колонны, подпирающие небо. Но в пору расцвета это был оживленный центр целительского мастерства. Здесь пациенты, страдающие от разных болезней, могли найти лучшую по тем временам врачебную помощь.
Если бы вы, страдая от болезни или ран, прибыли сюда в V веке до н. э., вас проводили бы на самую вершину горы. Затем вы постепенно спускались бы с одной террасы на другую: каждая из них посвящена определенным недугам и этапам выздоровления. Кроме отдыха, ваше лечение состояло бы из купания в больших прудах, массажа с ароматными маслами и мазями, а также физических и умственных упражнений, умеренного питания, лечения травами и обращения к древним духам с молитвами об исцелении.
Да, и вот еще что. Если бы вы приехали сюда между 490 и 377 гг. до н. э., вы бы получили дополнительное преимущество: консультацию первого в мире профессионального врача, которому принадлежит заслуга изобретения медицинской практики и чья философия привлекает людей даже спустя 2000 лет.
* * *
Большинство из нас имеют четкое и вместе с тем довольно расплывчатое представление о том, кем был Гиппократ. На ум сразу приходят слова «отец медицины» (что отчасти справедливо). Есть еще клятва Гиппократа, которая, как нам известно, как?то побуждает врачей вести себя достойно. С другой стороны, его имя не имеет никакого отношения к сходно звучащему слову hypocrisy – «лицемерие». Это слово, также греческого происхождения, происходит от hypokrisis, что значит «играть роль», и сегодня используется для обозначения притворщика или жулика.
Чего никак нельзя сказать о Гиппократе[1].
Кем же он был, как заслужил титул «отца медицины» и почему ему приписывают заслугу «изобретения медицины»?
О величии этого человека говорит, пожалуй, то, что мы не пытаемся оценить, какое место его «прорыв» занимает по отношению к остальным достижениям. Скорее мы пытаемся выбрать, какой из его многочисленных прорывов лучше всего подойдет для сравнения. Список заслуг Гиппократа весьма обширен. Он был первым врачом, который:
- признал, что болезнь вызывают естественные причины, а не сверхъестественные силы или злые духи;
- изобрел «клиническую медицину» и «отношения доктора и пациента»;
- в его честь названа врачебная клятва, определяющая поведение врача и не утратившая своего значения даже через 2200 лет;
- перевел врачебную практику в число уважаемых профессий – до этого целитель считался таким же ремесленником, как водопроводчик или кровельщик;
- сделал множество инновационных медицинских открытий, в том числе признал, что мысли и эмоции возникают в мозге, а не в сердце.
И все же…
* * *
Около 440 г. до н. э. ищущий знаний молодой врач пересек узкий пролив, отделяющий его родной остров от берега, который сегодня находится на территории юго?западной Турции. Достигнув суши, он преодолел 80 километров к северу в область под названием Иония. Там, в городе Милете, он встретился со знаменитым философом Анаксагором. Тот прославился тем, что познакомил с философией жителей Афин. Кроме того, он первым догадался, что свет луны – не что иное, как отраженный свет солнца. Состоявшаяся между ними беседа, должно быть, была весьма интересной. Гиппократ считался потомком Асклепия, бога исцеления и сына Аполлона. Но Анаксагор вряд ли испытывал почтительный трепет перед религиозными традициями: в 450 г. до н. э. его бросили в тюрьму после того, как он объявил, что солнце – не божество. У любого другого целителя с Коса от этого возмутительного заявления встали бы дыбом волосы, но у молодого Гиппократа только заблестели глаза. И он пригласил философа присесть и побеседовать…
* * *
Среди множества открытий, которые традиционно приписывают Гиппократу, нередко забывают о том, которое легло в основу его учения. Возможно, это связано с парадоксальной природой открытия: оно одновременно и перекликается с современной медицинской практикой, и противоречит ей. Что же это было? Прежде чем ответить, мы должны больше узнать об этом человеке и его роли в истории.
Рождение героя: 19 поколений целителей и три захватывающие легенды
В современном мире высоких технологий, компьютерной, магнитно?резонансной и позитронно?эмиссионной томографии, гамма?томографии и других загадочных изображений, где медицинские специальности становятся все более узконаправленными; в мире всевозможных лекарственных средств, от благотворных до смертельно опасных, мы привыкли доверять ритуалам современной медицины. Нас успокаивает вид больничной палаты, где пациенты лежат в идеально чистых кроватях, соединенные проводками и трубками с высокотехнологичной аппаратурой. Если бы вы вдруг перенеслись в V век до н. э., очнулись в темном помещении, едва освещенном масляной лампой, и услышали, как жрец поет заунывные заклинания над вашим терзаемым болью телом, вы, скорее всего, ощутили бы резкий недостаток уверенности, если не сказать панический ужас.
Вполне возможно, Гиппократ чувствовал то же.
Но он родился около 460 г. до н. э. на Косе и вырос в этом мире. Как многие сегодняшние профессионалы, Гиппократ принадлежал к династии потомственных целителей, не первое столетие занимавшихся медициной (в тогдашнем смысле слова). Первые уроки ему преподал отец Гераклид, затем его учили дед и другие знаменитые врачеватели того времени. Мало того, согласно легенде, традиции врачевания передавались в семье Гиппократа уже 19 поколений, а основателем рода был сам Асклепий, полубог и легендарный целитель. Впрочем, даже если забыть о божественном предке, несомненно, что ранние взгляды Гиппократа на медицину сформировались под влиянием предшественников – целителей и жрецов.
Если вы думаете, что, написав в заявлении о приеме на медицинский факультет «потомок бога врачевания в девятнадцатом колене», вы вызовете недоумение – или, наоборот, именно это окажется решающим доводом в пользу вашего зачисления, – позвольте кое?что вам объяснить. Во?первых, как ни удивительно, нам совсем немного известно о жизни Гиппократа. Хотя до нас дошло множество приписываемых ему трудов (около 60, под общим названием Corpus Hippocraticum, или просто «Гиппократов сборник»), не утихают споры о том, какие из них действительно принадлежат ему, а какие – многочисленным последователям, которые развивали его философию многие десятилетия и даже столетия после его смерти. Однако, сопоставляя и анализируя эти документы, историки смогли собрать достаточно убедительные сведения о Гиппократе и его достижениях.
* * *
Три самые живописные истории о Гиппократе, скорее всего, относятся к разряду легенд, а не исторических фактов. Но даже если они правдивы лишь отчасти, они дают представление о том, каким человеком был Гиппократ, чья репутация вышла далеко за пределы его маленького островка и достигла даже тех отдаленных земель, где жили его враги.
Первая и, пожалуй, самая известная история произошла в 430 г. до н. э. во время Пелопоннесской войны. Вскоре после разорения Афин спартанцами в городе разразилась чума. Гиппократ с учениками прибыли в Афины, чтобы помочь жителям. Заметив, что единственными, кого болезнь обходила стороной, были кузнецы, Гиппократ сделал мудрый вывод: избежать заразы им помогал сухой горячий воздух кузниц. Он быстро записал свои рекомендации. Жители Афин должны были разжечь во всех домах огни, чтобы сделать воздух сухим, сжечь трупы и кипятить воду перед употреблением. Чума отступила, Афины были спасены.
Вторую историю обычно рассказывают, чтобы продемонстрировать необыкновенный диагностический талант Гиппократа, который одинаково хорошо разбирался и в телесных недугах, и в душевных. Вскоре после случая с чумой в Афинах македонский царь Пердикка, до которого дошли слухи о славе Гиппократа, вызвал его к себе. Царь чувствовал себя нездоровым, но другие врачеватели не могли сказать, что за болезнь его одолевает. Гиппократ согласился и приехал в Македонию, чтобы осмотреть царя. Во время осмотра Пердикка краснел каждый раз, когда поблизости оказывалась красивая девушка по имени Фила, наложница его отца. Гиппократ заметил это. Расспрашивая пациента, он выяснил, что тот вырос вместе с Филой и мечтал однажды взять ее в жены. Однако эта мечта разбилась, когда его отец сделал девушку своей наложницей. После недавней смерти отца в душе царя снова всколыхнулась буря противоречивых чувств, что и стало причиной болезни. Получив от Гиппократа подобающие случаю рекомендации, царь исцелился.
Третья история, свидетельствующая о верности Гиппократа, произошла в годы войны Греции с Персией. К этому времени слава его была так велика, что персидский царь Артаксеркс попросил его приехать в Персию и спасти ее жителей от чумы. Царь предложил Гиппократу дорогие подарки и богатство, «равное собственному», но тот вежливо отказался. Он сопереживал жителям Персии, но помогать врагам своей страны было не в его правилах. В ответ разгневанный царь поклялся, что уничтожит остров Кос. Впрочем, угроза так и не была осуществлена: царь умер.
Но легенды в сторону. Если мы хотим узнать, как на самом деле происходило зарождение медицины, стоит обратиться к более серьезным свидетельствам о достижениях Гиппократа, отраженным в научных документах. Историки продолжают спорить о подлинности «Гиппократова сборника», но мы, учитывая сделанные выше оговорки, смело можем вступить на территорию, где Гиппократ «изобрел медицину», отметив в этом процессе шесть крупных вех.
И все же…
* * *
Разговор Гиппократа с Анаксагором в древнем городе Милете не был записан, но нетрудно представить, что к тому времени молодой врач начал сомневаться в медицинских традициях своей семьи, мудрости божественных предков и суевериях жрецов?целителей. Нельзя сказать, что Гиппократ полностью отрицал сложившийся подход к врачеванию, но он чувствовал, что в вопросах болезней и их лечения необходимо отталкиваться от других предпосылок. Репутация Анаксагора и его философия, достигшая даже маленького острова Кос, привела к нему Гиппократа, который хотел задавать вопросы и учиться. Они уселись в тени дерева за городом, и Гиппократ сказал: «Ты знаешь, откуда я родом и чем занимаюсь, Анаксагор. Теперь расскажи мне свою историю…»
Веха № 1
Ближе к реальности: болезнь имеет естественные причины
[Эпилепсия] представляется мне не более священной, чем любой другой недуг… Люди полагают, будто ее насылают боги, из невежества и страха.
Гиппократов сборник, «О священном недуге», 420–350 гг. до н. э.
Во времена Гиппократа любую болезнь объясняли просто и безыскусно: это наказание. Если человек совершил дурной поступок или был нечист помыслами, боги либо злые духи вершили правосудие, насылая на него хворь. Искупление, или «лечение», как мы назвали бы это сегодня, заключалось в посещении ближайшего храма Асклепия, где местные жрецы пытались исцелить страждущего с помощью заклинаний, молитв и жертвоприношений.
С самого начала Гиппократ изменил эти правила. Он отказался от традиционной практики жрецов Асклепия и теократического подхода к лечению, настаивая на том, что болезни вызваны не богами, а естественными причинами. Наиболее емко взгляды Гиппократа выражает часто цитируемый отрывок из приписываемого ему сочинения «О священном недуге». Название этой первой книги об эпилепсии отсылает нас к бытовавшему в те времена убеждению, будто припадки вызваны «священной» рукой разгневанного бога.
Гиппократ был с этим решительно не согласен.
Она представляется мне не более священной, чем любой другой недуг, и, подобно прочим болезням, имеет естественные причины. Люди полагают, будто эпилепсию насылают боги, из невежества и страха, поскольку она не похожа на другие болезни. Домыслы о ее божественной природе подкрепляются неспособностью ее понять… Тот, кто первым объяснил этот недуг гневом богов, представляется мне таким же шарлатаном, как уличные заклинатели… Подобные люди, оправдывая божественной волей собственную неспособность доставить больному помощь, провозгласили болезнь священной…
В этом и других описаниях мы слышим не только твердую уверенность Гиппократа в естественном происхождении болезней, но и раздражение, и даже открытое презрение к «шарлатанам», утверждающим обратное. С помощью этих рассуждений, подкрепленных практически одной только силой воли, Гиппократ вывел болезнь как явление из области сверхъестественного в область природного и рационального.
Веха № 2
Да это же пациент! Возникновение клинической медицины
Его симптомы были: дрожь, тошнота, бессонница и отсутствие жажды… Он был в забытьи, но спокоен, вел себя хорошо, молчал.
Гиппократов сборник, «Эпидемии 3», 420–350 гг. до н. э.
Термин «клиническая медицина» заключает в себе все то, что, по нашим нынешним представлениям, должен делать хороший врач. Это и подробное изучение истории пациента, и внимательный осмотр с записью симптомов, и постановка диагноза, и лечение, и добросовестная оценка реакции пациента. До Гиппократа врачеватели не слишком заботились обо всех этих мелочах. Древнегреческие врачи, вместо того чтобы сосредоточиться на болях и горестях конкретного пациента, относились ко всем одинаково. Они подвергали пациентов ритуальным, заранее определенным и в высшей степени обезличенным видам лечения. Попытки Гиппократа изменить этот подход положили начало клинической медицине.
Как же человек может изобрести «клиническую» медицину? Некоторые утверждают, что Гиппократу помогло близкое знакомство с любопытной давней традицией Асклепиона на Косе. Долгие годы пациенты, оправляющиеся от болезней, оставляли в храме письменный отчет о помощи, которую получили. Впоследствии эти записи могли оказаться полезными будущим пациентам. Согласно этой версии, Гиппократ взял на себя труд переписать эти заметки и, вооруженный знаниями, положил начало практике клинической медицины.
Более вероятно, впрочем, что выдающиеся клинические навыки были приобретены Гиппократом и его последователями за многие годы упорного труда и в результате знакомства с множеством пациентов. Живой пример можно найти в книге «Эпидемии 3». Записки касаются юноши из Мелибеи, который, судя по всему, отнюдь не был образцом греческой добродетели. Согласно заметкам Гиппократа, молодой человек «долгое время страдал от лихорадки, возникшей вследствие пьянства и плотской невоздержанности… Его симптомы были: дрожь, тошнота, бессонница и отсутствие жажды». Приведенное ниже описание медленного угасания юноши заставит содрогнуться чувствительных людей. Однако оно демонстрирует свойственное Гиппократу искусство клинического наблюдения, которое может послужить примером и сегодняшним студентам?медикам.
Первый день: Он изверг из себя большое количество твердого стула и много жидкости. В следующие дни вышло много водянистых зеленоватых экскрементов. Его моча скудна и дурного цвета. Его дыхание замедленное и глубокое. В верхней части живота мягкое уплотнение, расширяющееся по бокам в обе стороны. Сердцебиение непрерывное… Десятый день: Он был в забытьи, но вел себя хорошо, молчал. Кожа сухая и натянутая; стул обильный и жидкий либо желчный и маслянистый. Четырнадцатый день: Все симптомы обострились. Бредит, много бессвязной речи. Двадцатый день: Выжил из ума, мечется. Не испускает мочу; в нем мало жидкости. Двадцать четвертый день: Умер.
Клиническое наблюдение за пациентом и его индивидуальными симптомами помогло Гиппократу поднять медицину из сумрачного царства демонов и ритуалов к яркому свету разума и логики. И это полностью соответствовало новой философии, основы которой он же и заложил: если болезнь вызвана естественными причинами, почему бы не понаблюдать более пристально за ее симптомами и не выяснить, что это могут быть за причины? Более того, внимательное наблюдение за пациентом привело к развитию еще одного аспекта врачебной практики, который мы сейчас считаем неотъемлемым в хорошей медицине, – отношений врача и пациента.
Веха № 3
Этический кодекс, проверенный временем
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости.
Гиппократов сборник, «Клятва», 420–350 гг. до н. э.
Среди знаменитых сочинений античности клятва имени Гиппократа, по некоторым оценкам, уступает в авторитетности только Библии. Принятая как руководство к действию врачами прошлого, она и сегодня остается мерилом действий врача и часто цитируется в научных журналах и популярных СМИ как незыблемый кодекс врачебной этики.
Клятва представляет собой текст длиной в одну страницу и начинается словами: «Клянусь Аполлоном, врачом Асклепием… всеми богами и богинями, призывая их в свидетели». Так произносящий клятву привлекает к себе внимание высших сил и просит их оказать поддержку в его начинании. В следующих абзацах врач обязуется придерживаться разнообразных этических и поведенческих норм.
- Уважать своего учителя «наравне с моими родителями» и охотно «наставления, устные уроки и все остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным клятвой медицинскою».
- «Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла».
- «В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами».
- Сохранять в тайне «что бы при лечении – а также и без лечения – я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской».
Некоторые биографы утверждают, что Гиппократ требовал произнести клятву еще до того, как соглашался принять человека в ученики, однако происхождение «Клятвы» в ее современном виде не вполне ясно. Не исключено, что с годами ее неоднократно переписывали, приспосабливая к нуждам разных культур. В любом случае это далеко не единственное высказывание Гиппократа об этике и надлежащем поведении врача. Например, в книге «Эпидемии» он выводит известный принцип, который и в наши дни не прочь бы напомнить своим врачам пациенты, въезжающие на каталке в операционную:
Что касается болезней, придерживайся двух правил: помогай или, по крайней мере, не вреди.
Веха № 4
Играй свою роль: профессионализм в медицинской практике
Он должен содержать себя в чистоте, одеваться опрятно и умащиваться ароматными маслами, не вызывающими ни малейшего подозрения…
Гиппократов сборник, «О враче», 420–350 гг. до н. э.
Нам, людям XXI века, трудно представить, как врачеватели V века до н. э. делали свою повседневную работу. Но, вспомнив жрецов с заклинаниями, бродячих целителей и продавцов сомнительных мазей, мы можем предположить, что тогдашнее состояние медицины было довольно жалким по современным стандартам. Это положение Гиппократ также смог изменить с помощью своих произведений. Он возвысил работу врачевателя от простого ремесла до профессии со строгими правилами и оставил множество советов из самых разных областей медицины.
Например, в одной из своих книг Гиппократ признает, что далеко не каждый может выучиться на врача, и предостерегает читателей.
Вознамерившемуся приобрести глубокие познания в медицине д?лжно иметь в своем распоряжении следующее: природное дарование, наставления учителя, пригодное для учебы место, прилежание и много времени. Обучение следует начинать с детства. Но прежде всего требуется одаренность, ибо, если природа этому противоречит, все учение окажется тщетным.
В другом сочинении он описывает ряд физических и личных качеств, которыми должен обладать врач, чтобы его практика была успешной.
Чтобы врачеватель мог пользоваться уважением, он должен быть здорового сложения, крепким, как задумано природой… Он должен содержать себя в чистоте, одеваться опрятно и умащиваться ароматными маслами, не вызывающими ни малейшего подозрения.
Однако в третьем тексте Гиппократ предостерегает своих последователей от тщеславия.
Следует избегать слишком роскошных головных украшений, а также изысканных благовоний.
Врач должен следить за своим поведением и понимать уместность выражения разных эмоций.
Наружность его должна быть глубокомысленной, но не суровой, ибо суровость заставляет предположить в человеке упрямство и мизантропию. Вместе с тем человека много смеющегося и излишне веселого нетрудно принять за простолюдина. Подобного поведения следует особенно избегать.
Какой пациент сегодня не почувствовал бы себя увереннее, если бы к нему пришел врач, следующий Гиппократовым рекомендациям о поведении у постели больного?
Входя в покой к больному, подумай прежде, как будешь себя вести… Войдя, не забывай о манере сидеть, о сдержанности и благопристойности, держи себя уверенно, говори кратко, спокойно отвечай на возражения и сохраняй самообладание даже в трудных случаях.
С непослушными пациентами Гиппократ советует вести себя так.
Необходимо бдительно следить за проступками больных. Часто они лгут, будто приняли назначенное лекарство, но не принимают его, если оно неприятно на вкус, и от этого умирают.
Несмотря на суровый тон советов, не вызывает сомнений стоящая за ними доброжелательность Гиппократа.
Поощрение, необходимое больному, высказывай спокойно и охотно, отвлекая его внимание от его трудных обстоятельств. Порой можешь строго упрекнуть его, в другой раз утешь его внимательно и заботливо.
И, наконец, когда дело доходит до щепетильного вопроса оплаты за труды, Гиппократ демонстрирует и сочувствие…
Не следует слишком заботиться о назначении платы за труды, ибо я считаю озабоченность такого рода вредной для больного. Лучше упрекнуть позже пациента, которого смог вылечить, чем вымогать деньги у того, кто стоит на грани отчаяния.
…и щедрость…
Принимай во внимание денежные обстоятельства своего пациента. При случае оказывай свои услуги бесплатно, вспоминая о прежних долгах благодарности…
Веха № 5
Загадочный сборник: 72 сочинения и множество медицинских откровений
Следует знать, что источник нашего удовольствия, веселья, смеха и радости, равно как и наших горестей, боли, беспокойства и слез, есть не что иное, как наш мозг.
Гиппократов сборник, «О священной болезни», 42–350 гг. до н. э.
Почти все, что нам известно о медицине Гиппократа, мы знаем из «Гиппократова сборника». Он состоит из 72 манускриптов, посвященных самым разным аспектам здоровья, в том числе внутреннему (тело и разум) и внешнему (окружающая среда), а также случаям, где они соприкасаются (дыхание и питание). «Сборник» в известном нам виде датируется 1525 годом[2], то есть насчитывает всего 500 лет, однако определить, где он находился в предшествующие 2000 лет, несколько сложнее. Некоторые историки считают, что изначально эти манускрипты хранились в Александрийской библиотеке, возможно, переправленные туда около 280 г. до н. э. вместе с остатками библиотеки медицинской школы на Косе.
Что еще мы знаем об этих манускриптах? С одной стороны, это объединение разных тем, стилей, хронологии и противоречивых взглядов. Можно предположить, что у «Сборника» было множество авторов – современников и дальних последователей Гиппократа. С другой стороны, хотя ни одно из этих сочинений нельзя уверенно приписать Гиппократу, большая их часть создана в 420–350 гг. до н. э., то есть в период его жизни. Больше всего интригует, несмотря на полное отсутствие внутренней согласованности, общее для всех манускриптов смысловое звено – вера в рациональное и презрение к магии и суевериям.
Чтобы понять, почему историки затрудняются хоть как?то обобщить приведенные в «Сборнике» сведения, достаточно взглянуть на заголовки вошедших в него сочинений: «О природе человека», «О дыхании», «О пище», «Афоризмы», «О прорезывании зубов», «О воздухе, водах и местностях», «О склонностях», «О суставах», «О болезнях», «О благоприличии», «О ранах головы», «О природе ребенка», «О женских болезнях» и т. д. Произведения радикально различаются не только по содержанию, но и по форме: от набора легко запоминающихся правил («О прорезывании зубов») до глубокомысленных медицинских наблюдений («О священной болезни») и простого списка?перечисления («О болезнях»).
Тем не менее из этих текстов мы можем уяснить, что Гиппократ и его последователи имели на удивление верные представления об анатомии, полученные, возможно, в ходе наблюдения за военными ранами и вскрытия животных (вскрытие человеческих трупов в то время считалось неприемлемым и строго запрещалось). Иногда описания слишком витиеваты, например, когда глаз сравнивают с фонарем, а желудок уподобляют печи. Но порой анатомические и клинические наблюдения так точны, что вызывают восхищение врачей и хирургов даже сейчас, в XXI веке.
Некоторые любопытные наблюдения «Сборника» вытекают из фактов, которые мы сегодня воспринимаем как сами собой разумеющиеся. Но для того времени они были квантовым скачком и гениальным прозрением. Один из лучших примеров можно найти в сочинении «О священном недуге». Автор убедительно рассуждает о том, что мысли и эмоции возникают в мозге, а не в сердце, как полагали в то время.
Следует знать, что источник нашего удовольствия, веселья, смеха и радости, равно как и нашего горя, боли, беспокойства и слез, есть не что иное, как наш мозг. Посредством этого органа мы мыслим, видим, слышим и отличаем уродливое от прекрасного… Этот же орган в ответе за то, что мы впадаем в безумие или беспамятство, испытываем страх, терпим приступы паники, бессонницы или лунатизма…
Среди анатомических и клинических описаний, которые впечатляют даже современных врачей, отдельное место занимают заметки, посвященные ранениям головы и деформации суставов. Некоторые даже утверждают, что трактат Гиппократа «О ранах головы» заложил основы современной нейрохирургии. Он начинается с весьма подробного рассуждения об анатомии черепа, его строении, толщине, форме, разнице в текстуре и плотности между черепами взрослых и детей. Затем Гиппократ описывает 6 видов черепных травм, в том числе трещины, возникающие после удара оружием, вдавленные переломы и раны, вызывающие расхождение швов черепа. Его обширный опыт в лечении ран головы подтверждают и другие детали, например описание травм черепа, которые «так малы, что не могут быть обнаружены… в то время, когда это еще принесло бы больному пользу».
Не менее тонкое медицинское чутье Гиппократ демонстрирует в сочинении «О суставах», описывая методы лечения болезней позвоночника, в том числе искривлений и травм. Особенный интерес представляет Гиппократов стол, разработанный для лечения травм спины. Этот стол, к которому пациента привязывали, чтобы врач мог расположить в определенных точках его тела груз и таким образом корректировать возникшую деформацию, фактически считается предшественником современного ортопедического стола.
Но одним из самых интригующих аспектов медицины Гиппократа был его вывод о необходимости понимать природу тела и окружающей среды для сохранения здоровья или исцеления. Иными словами, тело необходимо рассматривать как целое, а не набор разрозненных частей. Этот взгляд, в свою очередь, был тесно связан с концепцией равновесия. Хотя в сочинениях Гиппократа равновесие описывается по?разному, в основе всегда лежит одна мысль: человек здоров, когда заключенные в его теле силы уравновешены. Следовательно, цель врача, назначающего лечение пациенту, – определить, где нарушено равновесие, и исправить ситуацию.
Из концепции равновесия возникла еще одна знаменитая – но ошибочная – медицинская теория Гиппократа. Согласно ей, в теле человека циркулируют четыре гумора, или жидкости: лимфа, желчь, черная желчь и кровь. Состояние человека зависит от того, насколько сбалансированы в его организме эти жидкости, а также от их соотношения с четырьмя временами года (зима, весна, лето, осень) и четырьмя стихиями (воздух, вода, огонь и земля).
Гуморальная теория отсутствует в современных учебниках по патофизиологии, но можно поспорить, что в ней лежат метафизические корни чего?то более глубокого, пока не объясненного до конца нынешней медициной.
* * *
Согласившись на предложение обсудить с Гиппократом свою философию, Анаксагор молча кивнул и поднял с земли палку. Медленно и неторопливо он начал говорить, рисуя в пыли круги и линии, чтобы лучше объяснить свои мысли…
– Вещи в единой вселенной не отделены друг от друга и не отрезаны, – он умолк, чтобы проверить, следит ли Гиппократ за его мыслью. Тот внимательно слушал.
– Тем самым, – продолжал философ, – все вещи заключаются во всем… и каждая вещь заключает в себе частицу всего… Ничто не может быть отделено, и ничто не может произойти само по себе. И в самом начале, и ныне все вещи равно объединены между собой…
Веха № 6
Соприкосновение двух миров: холистический подход к медицине
Врач должен знать об устройстве природы и охотно учиться, если хочет хорошо выполнять свои обязанности… Каким делают человека употребленные пища и питье, каковы его привычки в целом и какое воздействие все это оказывает на каждого человека в отдельности.
Гиппократов сборник, «Древняя медицина», 420–350 гг. до н. э.
Не требуется много усилий, чтобы соединить философию Анаксагора с холистическими взглядами, лежащими в основе медицины Гиппократа. Согласно некоторым свидетельствам, вскоре после того, как Гиппократ встретил Анаксагора в древнем городе Милете и познакомился с теорией философа о материи и бесконечности, он стал развивать свою теорию: состояние здоровья человека неразрывно связано с тем, что его окружает. Правдива эта история или нет, она указывает на важнейший постулат, лежащий в основе Гиппократовой медицины. Его можно найти в конкретных лечебных предписаниях, оставленных Гиппократом, и в общих рассуждениях о медицине и сохранении здоровья. Он отмечает важность внутреннего мира, собственного тела человека, или «конституции», и внешнего мира, окружающей среды. Кроме того, он указывает и на то место, где эти два мира соприкасаются.
Где же? С точки зрения пациентов, имеющих определенный контроль над своим здоровьем, есть по меньшей мере три точки, где внутреннее (их тело) встречается с внешним (миром извне): пища (диета), движения (физические упражнения) и воздух (дыхание). Излагая свои холистические взгляды на медицину, Гиппократ часто обращается к этим факторам. Но, конечно, независимо от того, какой из них он обсуждает в каждый конкретный момент, общая цель в том, чтобы с их помощью восстановить равновесие.
Например, в тексте «О диете I» Гиппократ замечает, что врач должен учитывать не только индивидуальную конституцию пациента, но и роль пищи и упражнений в его жизни.
Тот, кто намерен правильно писать о диете, должен прежде всего приобрести знания и рассуждения о природе человека в целом… и о влиянии, которое имеют вся пища и питье, что мы употребляем… Но одна лишь пища не может поддерживать в человеке здоровье, если он пренебрегает упражнениями. Ибо пища и упражнения, обладая противоположным действием, вносят общий вклад в поддержание здоровья.
В других сочинениях Гиппократ, в духе своего времени, рассматривает диету как один из способов лечения наряду с лекарственными препаратами и кровопусканием. Например, в книге «О диете II» он перечисляет различные качества продуктов, а в книге «О древней медицине» обсуждает бесчисленные «силы» пищи.
Кроме того, Гиппократ часто пишет о важности воздуха и дыхания. В трактате «О дыхании» он замечает: «Все деяния человека имеют начало и конец, ибо жизнь полна перемен, одно лишь дыхание продолжается для всех смертных существ непрерывно». В другом сочинении он добавляет: «Воздух питает рассудок… ибо все тело соотносится с рассудком в той же степени, в какой он соотносится с воздухом… Когда человек делает вдох, воздух прежде всего достигает мозга, затем распространяется по всему телу, оставив в мозге свою суть и тот рассудок, которым он обладает».
Теории Гиппократа об окружающей среде сложно подтвердить, даже имея в распоряжении всю мощь технологий XXI века, но в его концепциях ощущается зерно холистической истины. Он разъясняет ключевую роль времен года в состоянии человека, а также утверждает, что важную роль играют местность, преобладающие в ней холодные или теплые ветры, свойства воды и даже то, в каком направлении обращен город. В сочинении «О воздухе, водах и местностях» он пишет следующее:
Приехав в незнакомый город, врачу следует рассмотреть его положение относительно ветров и восхода солнца… он также должен изучить со всевозможным тщанием природу воды: пьют ли жители города воду мягкую и болотистую, или сходящую с высоких каменистых гор, или солоноватую, вызывающую запоры.
Наконец, следует заметить, что, несмотря на все сказанное о рациональном подходе Гиппократа к медицине и развенчание им сверхъестественных сил как причины возникновения болезней, он вовсе не был атеистом. Из уважения к традициям своей семьи – потомственных жрецов Асклепиона, или прислушиваясь к интуиции, на основе которой он строил и другие свои теории, Гиппократ продолжал считать участие высших сил необходимым условием хорошего здоровья.
Таким образом, хотя немногие сегодня до конца осознают значение вклада Гиппократа в медицину, мы не должны забывать, что он первым предложил уникальный холистический подход к врачеванию. Фактически его взгляды включали те элементы, которые мы сегодня относим к западной и восточной медицине. Особенное значение он придавал следующим факторам.
- Рациональное мышление и естественные причины заболеваний.
- Индивидуальные причины здоровья и болезни.
- Роль диеты, упражнений и окружающей среды.
- Ценность этики и сострадания.
- Уважение к высшим силам.
Гиппократ вчера, сегодня… и завтра
Пациенты стали безликими… Они выздоравливают в помещениях, которые похожи на кабину космического корабля…
Константин Орфанос, 2007 г.
Хотя Гиппократ покинул этот мир около 23 столетий назад, его труды – коллективные сочинения и учение, благодаря которому мы приписываем ему честь «изобретения медицины», – в XXI веке по?прежнему актуальны. Студенты?медики повторяют клятву, названную в его честь; врачи и хирурги превозносят его анатомические и клинические наблюдения; множество людей черпает вдохновение в его работах.
И все же…
Тем, кто не видит (или почти не видит) связи между древней и современной медициной, можно предложить подумать тщательнее о том, где мы находимся сегодня и куда направляемся. На открытии медицинской конференции, состоявшейся недавно на греческом острове Родос, один врач выступил с лекцией, в которой представил обзор истории и достижений Гиппократа. Он заметил, что после расцвета греческой и римской медицины и после того, как в средние века эти знания благодаря арабским ученым вернулись на Запад, медицина стала меняться. В следующие 400 лет, от Возрождения до урбанизации, индустриализации и молекуляризации медицины в XIX и XX веках, фокус медицины сместился. От рутинной заботы и облегчения страданий отдельных больных врачи перешли к высоким технологиям, экономике и бизнес?ориентированному администрированию.
«Пациенты стали безликими, – замечает Константин Орфанос в своем обращении 2006 г. к Европейской академии дерматологии и венерологии. – Хирургическое вмешательство теперь представляет собой рутинную процедуру с определенным кодовым номером, чрезвычайные случаи решаются, и пациенты выздоравливают в помещениях, которые похожи на кабину космического корабля, напичканную высокоточной электроникой…»
По мнению многих, чтобы предотвратить индустриализацию медицины и превращение ее в чистый бизнес, нам нужно обратиться к далекому прошлому, традициям врачевания, которые возникли давным?давно на маленьком острове в Эгейском море. Возможно, нам поможет переосмысление высказываний и сочинений человека, чья врачебная практика была по?настоящему холистической и включала не только рациональность и клиническое наблюдение, но и этику, сострадание и даже веру в высшие силы.
Гиппократ наверняка не стал бы обесценивать невероятные завоевания медицины последних четырех столетий. Но, возможно, он посоветовал бы нам сбавить темпы в погоне за прогрессом и обратиться к философии, которая привела его самого к прорыву, обусловившему существование современной медицины. Он мог бы предложить нам внимательнее взглянуть на вещи и присмотреться к концепции, которую открыл для себя и своих последователей, – концепции соприкосновения внутреннего и внешнего миров, где болезнь и здоровье находятся в идеальном равновесии.
Глава 2
Как холера спасла цивилизацию: открытие санитарии
Крупнейшая речная дельта мира – широко раскинувшийся лабиринт заболоченных солончаковых протоков с берегами, поросшими высокой травой и мангровыми лесами. Образованная слиянием Ганга и Брахмапутры, она занимает 104 тыс. км2 на территории южного Бангладеша, захватывает небольшую часть Индии и впадает в Бенгальский залив. Дельта Ганга не просто огромна. Это один из самых плодородных регионов мира. Здесь буквально кипит жизнь, принимающая самые разные формы: от микроскопического планктона до сомов, выбирающихся из воды на берег; от попугаев, питонов и крокодилов до исчезающих бенгальских тигров. В 1816 г. здесь встретились и заключили стратегический союз две менее экзотические формы жизни, чья деятельность вскоре разрослась до смертельно опасных масштабов. За 15 лет они унесли жизни сотен тысяч человек, прокатились по Индии, отдельным территориям Китая и России, и устремились в Европу. В октябре 1831 г. они прибыли на северо?западное побережье Англии и начали быстро завоевывать новые территории…
* * *
25 декабря 1832 г. Джон Барнс, житель деревни, расположенной в 322 километрах севернее Лондона, получил худший рождественский подарок в истории человечества. Ему прислали коробку из дома сестры, проживавшей в 35 километрах от него, в Лидсе.
Барнс открыл коробку. Она не была похожа на рождественский подарок, и не ясно, догадывался ли Барнс, что найдет внутри. Там лежала одежда его сестры, умершей две недели назад. У нее не было детей, поэтому одежду аккуратно сложили и отослали Барнсу. Может быть, он взял какие?то вещи в руки и рассматривал их пару минут, с нежностью вспоминая, как последний раз видел в них сестру на семейном празднике. Может быть, его жена приложила к себе одно из платьев, чтобы посмотреть, будет ли оно ей впору. Так или иначе, прежде чем сесть ужинать, оба заметили кое?что странное: одежда была не выстирана. К тому времени, как они закончили ужин, ничто не могло предотвратить дальнейшего развития событий.
На следующий день у Барнса начались сильные спазмы и диарея. В следующие два дня она становилась все сильнее. На четвертый день Барнс умер.
Вскоре после этого такая же болезнь поразила его жену. Эту новость передали ее матери, живущей в одной из соседних деревень, и та поспешила к дочери на помощь. Жена Барнса выжила, а ее матери повезло меньше. Она провела два дня с дочерью, стирая ее белье, затем отправилась домой. Ей нужно было пройти всего несколько километров, но по дороге она упала, и ее отнесли в деревню, где ее ждали муж и вторая дочь.
Через два дня мать, ее муж и вторая дочь были мертвы.
В каком?то смысле в этих смертях не было ничего загадочного. Местные врачи установили, что семью поразила холера, которая уже год свирепствовала в Англии. С другой стороны, в них не было ничего, кроме загадок. Как болезнь могла так стремительно и безжалостно уничтожить две семьи, если до этого ни в одной из деревень не было ни одного случая холеры? Даже установив, что Барнс получил нестираные вещи сестры (умершей от холеры), никто не догадался, в чем дело. Ведь в те времена все прекрасно знали, как распространяется недуг. До открытия болезнетворных бактерий оставалось несколько десятков лет, и люди были уверены, как столетия назад, что большинство болезней вызывает вдыхание миазмов – невидимых частиц, которые выделяют разлагающиеся органические вещества. Источником миазмов могло стать что угодно: от стоячей воды и сырой почвы до мусорной ямы, открытой могилы и извержения вулкана.
Но один просвещенный врач того времени, услышав историю Барнса, все же понял ее истинное значение. И хотя уважаемые медики еще полвека упрямо отвергали теорию Джона Сноу, он в конце концов не только оказался прав, но и сыграл ключевую роль в одном из величайших медицинских прорывов в истории.
Промышленная революция: инновации, новые профессии – и торжество грязи
В 1832 г. город Лидс, как и многие города Европы и США, ощутил на себе все неоспоримые плюсы и не менее очевидные минусы промышленной революции. Всего за пару десятилетий идиллические пастбища, бескрайние холмы и леса сменились суровыми пейзажами, расчерченными на квадраты кирпичными громадами прядильных и ткацких фабрик, чьи высокие трубы выпускали облака густого дыма в небеса новой урбанистической эпохи. Стремительный рост промышленности создавал новые рабочие места и приносил больше денег. Но в города в поисках заработка хлынуло множество людей – огромное множество. Всего за 30 лет население Лидса увеличилось более чем вдвое, создав невиданные до тех пор жилищные проблемы. Тысячи рабочих с семьями ютились в крошечных комнатках набитых битком домов в перенаселенных кварталах.
Если вам тревожно думать о том, какую нагрузку на городскую инфраструктуру создает подобный рост, попробуйте представить себе, к чему он привел в те времена, когда никакой городской инфраструктуры не существовало. До Великой индустриальной революции экскременты и бытовые отходы из жилых домов и организаций столетиями сбрасывали в ямы на заднем дворе, в ближайший тупик или прямо на улицу. Оттуда их периодически удаляли золотари или сборщики мусора, которые затем продавали отходы фермерам в качестве удобрения или корма для свиней, коров и других домашних животных. Но на фоне взрывного роста городского населения в начале XIX века предложение быстро превысило спрос. Улицы, переулки и выгребные ямы оказались переполнены и уже не могли удержать в себе нечистоты.
По словам одного встревоженного чиновника, исследовавшего санитарные условия в Лидсе в то время, «уровень улиц значительно поднялся благодаря утрамбованной золе и отходам… грязная вода ручьями течет по улицам и затекает под двери домов бедняков, которым не приходит в голову жаловаться на это; отхожие места перегружены нечистотами и непригодны для дальнейшего использования…». Нередко содержимое переполненных выгребных ям поднималось и просачивалось сквозь доски пола в доме или проникало в расположенные поблизости водосборные резервуары и частные колодцы, откуда брали питьевую воду.
Общественная система водоснабжения была немногим лучше. В одном из отчетов сообщается, что река Эйр, источник питьевой воды для жителей Лидса, «несет содержимое 200 частных ватерклозетов (туалетов) и множества общественных сточных труб, мертвых пиявок и использованные бинты из больницы, мыло, синюю и черную краску, свиной навоз и разлагающиеся останки всевозможных животных и растений».
Таким было положение в мае 1832 г., когда холера прибыла в Лидс и забрала первую жертву – двухлетнего ребенка ткачихи, проживавшей в «маленьком грязном тупике, населенном бедняками». В следующие 6 месяцев (притом что никто не понимал, что это за болезнь и как от нее уберечься) холера унесла еще 702 жизни. В следующем году, до того как вспышка заболевания пошла на спад, в Англии погибло 60 тыс. человек. Врачи и представители власти прикладывали лихорадочные усилия, пытаясь обнаружить невидимого врага и положить конец его преступлениям, но в следующие 35 лет разразились еще три эпидемии, унесшие более 100 тыс. жизней.
Однако задолго до начала эпидемии один не слишком любезный адвокат начал подготовительную работу, которая помогла положить конец разбушевавшейся болезни и потере человеческих жизней. Эдвин Чедвик отличался крутым нравом и не пользовался любовью современников, но он, как и Джон Сноу, сыграл ключевую роль в величайшем медицинском прорыве в истории.
* * *
Если спросить у людей, какое из достижений медицины за прошедшие 200 лет они считают самым важным, они ненадолго нахмурятся, а потом предложат вполне разумные и обоснованные версии: антибиотики, вакцины, рентгеновские лучи и даже аспирин. Читатели British Medical Journal, которым недавно задали этот вопрос, в основном ответили так же, но добавили и несколько удивительных вариантов: оральная регидратация, кровать с железным каркасом и салютогенез[3]. Но когда BMJ обработал ответы более 11 тыс. читателей по всему миру, оказалось, что одно медицинское достижение далеко опережает все остальные – санитария.
Санитарией называют создание здоровой окружающей среды: подачу чистой воды, безопасную утилизацию отходов и другие гигиенические мероприятия. Возможно, с технической стороны санитария не производит такого сильного впечатления, как вакцина от полиомиелита или компьютерная томография. Но можно утверждать, что это действительно одно из самых важных медицинских достижений. После ее внедрения люди получили возможность не бороться с болезнями, а предотвращать их. Принципы санитарии могут показаться очевидными (большинство из нас учится пользоваться горшком еще в младенчестве), но на заре индустриальной эры невозможность обеспечить санитарию в широких масштабах привела к возникновению серьезной угрозы для будущего современных городов. Потребовалось несколько десятилетий, чтобы хотя бы задуматься о разумном решении этой проблемы, и еще несколько десятилетий, прежде чем решение было найдено и воплощено в жизнь.
В развитие санитарии внесли свой вклад многие, но два человека, благодаря своим уникальным озарениям и достижениям, занимают среди них особое место. В истории Джона Сноу и Эдвина Чедвика есть кое?что общее – бесконечные споры со скептически настроенными современниками, – но в остальном это были два совершенно разных человека. Сноу обладал, по свидетельствам очевидцев, «благожелательной натурой» и был «всегда открытым и приятным в обхождении», а адвокат Эдвин Чедвик считался «самым ненавистным человеком в Англии», которого «никто не мог бы обвинить в том, что у него есть сердце».
Тем не менее в 1830–1850?х оба работали над решением одной и той же проблемы, зародившейся на другом краю света, и пытались найти ответ на один и тот же вопрос: что убивает тысячи людей и как это остановить?
* * *
Болезнь нередко начинается с внезапного пробуждения среди ночи. В животе все бурлит, заставляя человека опрометью бежать в туалет. Оказавшись там, он быстро чувствует, как первоначальное облегчение сменяется тревогой. Водянистая диарея поначалу не причиняет особой боли, но вызывает беспокойство своей обильностью. Тело извергает жидкость с мощностью пожарного шланга. За один день человек может потерять более 9 литров жидкости. Напор так силен, что буквально смывает внутреннюю оболочку кишечника. Частицы ткани придают стулу характерный вид «рисового отвара». Вскоре появляются первые признаки смертельной опасности – обезвоживания: мышечные судороги, сморщенная синевато?лиловая кожа, запавшие глаза и заострившиеся черты лица, голос, упавший до хриплого шепота. Болезнь развивается так стремительно, что смерть может наступить уже через несколько часов. Но даже после смерти в водянистых выделениях продолжает кипеть жизнь, стремящаяся завоевать новые территории и ищущая новые жертвы…
Веха № 1
Первая эпидемия: урок из глубины угольной шахты
Зимой 1831–1832 гг. Джону Сноу было всего 18 лет, и он едва начал учиться медицине, когда его учитель?хирург дал ему незавидное задание. Юноша должен был отправиться в центр холерной эпидемии, угольную шахту Киллингворт близ Ньюкасла, чтобы помочь углекопам справиться со смертельной болезнью, от которой тогда не было ни лечения, ни спасения. Сноу неуклонно следовал инструкциям, и в конце концов его усилия принесли положительный результат: эпидемия среди шахтеров пошла на спад. Однако гораздо важнее то, что этот случай натолкнул его на мысль, которая затем привела его к первому судьбоносному озарению. Если холеру действительно вызывают миазмы, как болезнь распространялась среди шахтеров, работавших глубоко под землей, где нет ни сточных канав, ни болот, ни других источников вредоносных испарений?
Позже Сноу в подтверждение своей теории о том, что холеру вызывают не миазмы, а неблагоприятные санитарные условия, заметил следующее:
В шахтах не оборудованы отхожие места, экскременты рабочих лежат повсюду, и неудивительно, что кто?нибудь может испачкать в них руки. Углекопы проводят под землей по 8–9 часов, они берут с собой в шахту пищу и едят немытыми руками… Таким образом, стоит хоть одному из них подхватить холеру, и болезнь получает необычайно благоприятные условия для распространения…
После окончания первой эпидемии Сноу отправился в Лондон, где завершил медицинское образование и обратился к изучению совершенно другой проблемы – использования эфира для обезболивания пациентов при хирургических операциях. Его работа получила мировое признание – об этом мы поговорим подробнее в другой главе, – но он не забывал и о своем интересе к холере. Изучение свойств вдыхаемых газов только усилило его сомнения в том, что холеру вызывают миазмы. Однако после окончания первой эпидемии у него было недостаточно материала, чтобы развить свою теорию и доказать, что переносчиком холеры становятся водянистые кишечные испражнения больных.
Сноу не пришлось долго ждать новой возможности собрать больше сведений по этой теме. Но будет ли их достаточно?
Веха № 2
Отказ от теории миазмов и знакомство с новым убийцей
В 1848 г., когда в Лондоне вспыхнула вторая эпидемия холеры, у тридцатипятилетнего Сноу было достаточно опыта, чтобы усмотреть в этом событии одновременно и знак судьбы, и благоприятную возможность. Люди начали гибнуть от болезни, которая в итоге унесла еще 55 тыс. жизней, а Сноу стал выслеживать невидимого убийцу со страстью, граничащей с одержимостью. Он выяснил, что первой жертвой эпидемии оказался матрос торгового судна, прибывшего из Гамбурга в Лондон 22 сентября 1848 г. Этот человек снял комнату и вскоре умер от холеры. Расспросив врача жертвы, Сноу выяснил, что после смерти матроса комнату занял другой человек, который через 8 дней тоже умер от холеры. Сноу предположил, что второго погибшего заразило то, что осталось после первого, например невыстиранное постельное белье.
Сноу продолжал вести расследование и собирать данные, опровергающие распространенные в медицинских кругах убеждения. Он хотел доказать, что холера заразна и передается через загрязненную воду. Например, он выяснил, что на одной из лондонских улиц в жилых домах по одной стороне насчитывалось много случаев холеры, а на другой заболел всего один человек. Сноу изучил все обстоятельства и обнаружил, что там, где свирепствовала болезнь, «жители смывали помои и нечистоты в сточную канаву, проходящую перед домами, откуда они проникали в колодец с питьевой водой…».
Кроме того, Сноу заметил, что у больных холерой прежде всего возникали желудочно?кишечные симптомы: диарея, рвота, боль в животе. Врач был совершенно уверен: «токсин», каким бы он ни был, попадает в организм в результате проглатывания загрязненной пищи или воды. Если бы человек вдыхал миазмы, под ударом прежде всего оказались бы легкие и кровеносная система и симптомами болезни были бы лихорадка, озноб и головная боль.
Эти и другие наблюдения в итоге позволили Сноу создать портрет невидимого убийцы. Это было необъяснимое озарение, учитывая, что пройдут еще десятки лет, прежде чем ученые смогут обнаружить болезнетворные свойства бактерий и вирусов. Отвергнув теорию миазмов, Сноу заключил, что холеру вызывает некий живой проводник, который имеет «способность размножаться» и «структуру, скорее всего, подобную структуре клетки». Затем он предположил, что этот проводник «растет и размножается на внутренней поверхности пищеварительного тракта». Наконец, он подсчитал продолжительность инкубационного периода до появления первых симптомов: «Время, проходящее от момента попадания его в организм и до начала развития болезни и есть период его воспроизводства…»
Итак, Сноу продвинулся в микробной теории намного дальше своих современников.
В 1849 г., надеясь, что его находки приведут к изменению общественной политики и заставят людей пересмотреть свое отношение к болезни, а значит, дадут шанс положить конец эпидемиям, Сноу изложил свои взгляды в брошюре «О способах распространения холеры». Однако, несмотря на представленные уникальные сведения, коллег Сноу эта работа не впечатлила. Некоторые из них неохотно согласились, что холера, возможно, передается от человека к человеку «при наличии благоприятных условий», но большинство упрямо продолжало утверждать, что болезнь не заразна и, хотя ее распространение действительно связано с неудовлетворительными санитарными условиями, она не может распространяться через воду.
Однако Сноу не сдавался. Когда в 1849 г. стихла вторая эпидемия, он наблюдал и искал новые подтверждения своей теории. Пока ему удалось установить, что в отдельных случаях, таких как вспышка холеры в угольной шахте и инцидент с семьей Барнс, болезнь распространяется из?за несоблюдения гигиены и при личном контакте. Но чтобы объяснить, как холера достигает такого размаха, что количество жертв исчисляется тысячами, он обратил внимание в другую сторону – на систему общественного водоснабжения.
От внимания Сноу не укрылось, что в то время Темза, приливно?отливная река в центре Лондона, выполняла две прямо противоположные функции: снабжала жителей водой и служила местом сброса нечистот. Одна из сточных труб города бесконтрольно опорожнялась в той части реки, куда отходы, унесенные течением, могли вернуться во время прилива. Изучив муниципальные документы, Сноу обнаружил, что две крупные компании, Southwark and Vauxhall и Lambeth Waterworks, качали воду из Темзы и подавали ее в дома напрямую, не фильтруя и никак не обрабатывая. Однако в 1849 г. лишь одна из них, Lambeth, брала воду в той части реки, что располагалась почти напротив сточной трубы. Сноу начал собирать данные, и его подозрения вскоре подтвердились: в домах, получавших воду компании Lambeth, число случаев холеры было намного больше, чем в тех, где водоснабжением занималась Southwark and Vauxhall.
Сноу стоял на пороге двух открытий, которые подведут блистательный итог его долгой работе. А Лондону тем временем предстояло пережить третью вспышку эпидемии холеры.
Веха № 3
Изобретение эпидемиологии и борьба со смертоносной колонкой
Третья вспышка эпидемии началась в 1853 г., однако знаменитый «инцидент с колонкой на Брод?стрит» произошел лишь 31 августа 1854 г. Тогда менее чем за две недели от холеры умерли около 500 человек, живущих в пределах 230 метров от области Голден?сквер на Брод?стрит. Этот процент смертности, по словам Сноу, «не уступал ни одному, когда?либо наблюдавшемуся в этой стране, и мог сравниться даже с чумой».
Перед тем как сыграть свою знаменитую роль в эпидемии на Брод?стрит, Сноу занимался исследованием деятельности компаний Southwark and Vauxhall и Lambeth и их вероятного участия в распространении эпидемии. После эпидемии 1849 г. Lambeth стала брать воду в другом месте, расположенном выше по течению, и теперь подавала в дома более чистую воду, чем Southwark and Vauxhall. Сноу был крайне заинтригован, обнаружив, что эти компании, снабжавшие водой в целом около 3 млн человек, подавали воду на одни и те же улицы, но в разные дома. Это позволило ему провести расследование «широчайшего масштаба». Определив, куда поступает вода какой компании, он смог сопоставить эти данные с количеством больных холерой в этих домах. Результат эпидемиологического исследования не разочаровал Сноу. В первые 4 недели летней вспышки показатели смертности среди жителей, получавших воду Southwark and Vauxhall, оказались в 14 раз выше, чем у тех, кто получал более чистую воду Lambeth. Эти сведения еще раз подтвердили его теорию о том, что холера распространяется в загрязненной воде.
Сноу только начинал оттачивать инструменты своих эпидемиологических изысканий. Через несколько недель, 31 августа 1854 г., когда разразилась эпидемия на Брод?стрит, он начал новое исследование. За несколько недель он посетил бесчисленное количество домов в пострадавших от холеры кварталах и опросил больных и членов их семей. Здесь воду брали из местных колодцев, а не из загрязненной Темзы. Вскоре Сноу определил и отметил на карте местоположение всех колонок района, подсчитал, на каком расстоянии они находятся от домов, где жили больные, и сделал потрясающее открытие: в одном из кварталов 73 из 83 смертей произошли в домах, где воду брали из колонки на Брод?стрит, при этом подтвердилось, что 61 из 73 жертв пила воду именно из этой колонки.
Это была серьезная улика, и, когда Сноу представил ее местным властям, они согласились вывести колонку из строя, сбив с нее рычаг. Это остановило распространение эпидемии, но победа оказалась не столь безоговорочной, как надеялся Сноу и как ее иногда представляют в популярной литературе. Местные власти по?прежнему не могли смириться с мыслью, что холера передается через загрязненную воду. Возможно, на спад эпидемии повлияли другие факторы, а вода из колонки на Брод?стрит здесь вовсе ни при чем? Например, вспышка могла угаснуть не из?за того, что колонку закрыли, а из?за того, что эпидемия уже достигла своего пика и пошла на спад естественным путем, или потому, что многие жители покинули зараженные районы, когда эпидемия только начиналась, и здесь просто не осталось никого, кто мог бы заразиться. Но, пожалуй, самым убийственным доводом против теории Сноу стали результаты проведенного вскоре официального расследования, сообщавшие, что вода в колонке на Брод?стрит не была загрязнена.
Однако Сноу продолжал верить, что вспышку холеры вызвала вода из колонки на Брод?стрит. А в 1855 г. у истории появился эпилог, в котором Сноу был реабилитирован неожиданным союзником[4]…
* * *
Преподобный Генри Уайтхед был священником в церкви Св. Луки. Он не имел медицинского образования и даже не верил в теорию Сноу о том, что холера распространяется через грязную воду. Но под впечатлением от расследования Сноу во время эпидемии 1849 г., а также привлеченный загадкой неожиданно быстрого окончания эпидемии на Брод?стрит, Уайтхед начал проводить собственные изыскания. Изучая статистику смертей в первую неделю эпидемии, Уайтхед сделал потрясающее открытие: 2 сентября в доме по адресу Брод?стрит, дом 40, умерла пятимесячная девочка. Однако симптомы болезни появились у нее на несколько дней раньше, 31 августа, как раз когда в районе началась вспышка эпидемии. Уайтхед немедленно связал эти два ключевых факта. Девочка была первой жертвой эпидемии на Брод?стрит. Кроме того, она жила в доме 40, который находился напротив злополучной колонки.
Ему быстро удалось восстановить ход событий. Уайтхед поговорил с матерью девочки. Та вспомнила, что во время болезни ребенка, незадолго до полномасштабной вспышки эпидемии, стирала испачканные пеленки в ведре с водой, потом выливала ведро в выгребную яму, расположенную перед домом. Инспекторы, вызванные для осмотра, не только обнаружили, что яма находится менее чем в метре от колодца на Брод?стрит, но и выяснили, что нечистоты из нее непрерывно просачиваются в резервуар, из которого питается колонка. Так Уайтхед получил ответ на свой вопрос, и загадка была раскрыта. Первые дни эпидемии совпали с днями, когда вода от стирки пеленок попадала в негерметичную выгребную яму; эпидемия быстро угасла после того, как ребенок умер и источник зараженной воды иссяк.
Но хотя чиновники поначалу согласились с Уайтхедом и Сноу, признав, что новые сведения позволяют однозначно связать вспышку эпидемии с попаданием зараженной воды в колонку, позже они снова начали отрицать эту связь, утверждая, что причиной эпидемии, скорее всего, стал какой?то неизвестный источник миазмов.
* * *
Через несколько лет Джон Сноу умер в возрасте 45 лет от инсульта. Медицинское сообщество по?прежнему отвергало его теорию о том, что холера распространяется через загрязненную воду. Но приятно знать, что во время четвертой и последней вспышки холеры в Лондоне в 1866 г., унесшей 14 тыс. жизней, именно Генри Уайтхед связал распространение болезни с деятельностью водоснабжающей компании, которая подавала в дома нефильтрованную воду из загрязненной реки. И до самой своей смерти в 1896 г. Уайтхед держал на своем столе портрет Джона Сноу.
Врачи еще несколько десятилетий отрицали теорию Сноу. Но в конце XIX века, когда бактериальная теория стала вытеснять ошибочную миазматическую, открытия Сноу, сделанные за несколько десятков лет до того, как мир был готов в них поверить, наконец получили заслуженное признание. Сегодня его чтят не только как человека, разгадавшего тайну холеры, но и как основоположника современной эпидемиологии.
* * *
Истинная сущность холеры была открыта тогда же, когда власти решительно отвернулись от доказательств, собранных Джоном Сноу в ходе расследования эпидемии на Брод?стрит. В том же году вспышка холеры произошла в итальянской Флоренции. Ученый Филиппо Пачини изучил под микроскопом образцы тканей кишечника жертв холеры и описал увиденное в статье, опубликованной в 1854 г. Это были маленькие палочкообразные организмы слегка изогнутой формы, что придавало им сходство с запятой. Их непрерывное хаотичное движение ученый описал словом vibrio. Убежденный, что именно эти крошечные организмы отвечают за возникновение холеры, Пачини опубликовал еще несколько статей на эту тему. Джону Сноу так и не довелось узнать об этом открытии, но у английского и итальянского ученых все же было кое?что общее. Пачини тоже никто не верил. Его находки игнорировали на протяжении следующих 30 лет. Даже когда Роберт Кох, основатель бактериологии, заново «открыл» бактерии в 1884 г., ведущие немецкие ученые отвергли его заключения в пользу устаревшей миазматической теории. Но в конце концов Пачини тоже получил заслуженное признание (всего лишь через 100 лет). В 1965 г. этот вид бактерий был официально назван Vibrio Cholerae Pacini 1854.
Веха № 4
Новый «Закон о бедных» вызывает негодование – и понимание
В начале 1830?х, когда Джон Сноу, успешно справившись со вспышкой холеры на шахте в Ньюкасле, купался в похвалах, молодой юрист Эдвин Чедвик тоже достиг первого знакового этапа своей карьеры – и получил всеобщее презрение. Неудивительно, что его ненавидели: он сыграл ключевую роль в принятии поправки 1834 г. к «Закону о бедных». Основной задачей было сделать государственную помощь настолько непривлекательной, чтобы малоимущие ее избегали. С того момента репутация Чедвика продолжала ухудшаться. Он получил прозвища «угнетатель бедняков» и «самый ненавистный человек в Англии», прославился не только упорной борьбой с представителями городских властей, врачами и инженерами, но и бестактностью, и приобрел славу человека, не способного договариваться, но прекрасно умеющего давить и добиваться своего любой ценой.
Хорошо, что в итоге он оказался прав.
Упрямство Чедвика не только помогло улучшить условия жизни бедняков, но и привело к величайшему медицинскому прорыву в истории. Ценность работы Чедвика над «Законом о бедных» заключалась не в законе как таковом, а в сведениях, которые он собрал при его подготовке. По сути, Чедвик выступал не столько против бедняков, сколько против плачевных условий их жизни. Как большинство людей своего времени, он понимал, что антисанитария в английских городах как?то повинна в распространении болезней и недавних вспышках холеры. Но, как большинство современников, он глубоко ошибался, считая, что в возникновении холеры виноваты исключительно миазмы. Он был настолько уверен в этом, что однажды даже публично заявил: «Любой запах – это болезнь».
Но хотя «технически» он был неправ, в принципе он двигался в верном направлении и в ходе работы над «Законом о бедных» собрал множество данных, подтверждающих связь антисанитарии с условиями жизни бедняков. Собранная им документация была настолько исчерпывающей (и намного более подробной, чем у его предшественников), что при подготовке закона он изменил анализ государственной политики и привлек к себе внимание коллег. И хотя «Закон о бедных» вызвал суровую критику, исследование Чедвика стало заметной вехой на пути к судьбоносным переменам.
Такая перемена произошла в 1839 г. На фоне ухудшения санитарных условий и недавно отбушевавшей двухлетней эпидемии гриппа чиновники решили, что пора действовать. Впечатленные дотошностью, которую Чедвик продемонстрировал при подготовке «Закона о бедных», они поручили ему составить отчет о санитарном состоянии и болезнях Англии и Уэльса и сопроводить его рекомендациями по поводу политических и технических способов решения обнаруженных проблем.
Чедвик охотно принял новое назначение – к радости коллег, которые не могли дождаться, когда же он их покинет. Они считали, что с ним невозможно работать.
Веха № 5
Грандиозный отчет: множество идей и стимул к действию
В 1842 г., посвятив несколько лет сбору и обработке данных, Чедвик опубликовал отчет «О санитарном состоянии рабочего населения Великобритании». Тот факт, что отчет немедленно стал бестселлером (было распродано больше экземпляров, чем любой другой правительственной публикации до этого), указывает, насколько люди были озабочены проблемой. Отчет, дополненный свидетельствами местных врачей и чиновников, создавал весьма правдоподобную картину захлебывающихся в болезнетворных стоках, перенаселенных городов Англии. Ссылаясь на эпидемиологическую карту Лидса, составленную во время эпидемии холеры в 1831–1832 гг., Чедвик отметил прямую связь между неудовлетворительными санитарными условиями и распространением холеры. «В грязных, сырых жилищах, – писал он, – холера унесла вдвое больше жизней, чем в тех районах, где условия проживания были более благоприятными…»
Однако отчет 1842 г. не только в красках описывал ужасы антисанитарии в Англии. Он был очередной вехой на пути к их искоренению. Во?первых, Чедвик подчеркнул, что бедность и болезни вызваны не господней немилостью, как считали тогда многие, а объективным состоянием окружающей среды. Во?вторых, отчет стал программным документом нового движения общественного здравоохранения, сторонники которого обвиняли в антисанитарии промышленные трущобы. Наконец (и это впечатляет больше всего), в отчете были изложены передовые идеи Чедвика, предлагавшего ряд инженерных и политических решений возникшей проблемы, – проще говоря, создание современной системы водоснабжения и канализации.
Большую часть с размахом изложенного плана Чедвика составляло описание общей «разветвляющейся магистральной» системы. Впервые водоснабжение и канализация рассматривались как две взаимосвязанные системы: «гидравлическая», или «водоснабжающая» должна была направлять воду в дома людей, давая возможность смывать нечистоты в общественные сточные трубы. Это была очень смелая идея, требовавшая ни много ни мало полной реорганизации городской инфраструктуры. Потребовалось бы существенно изменить облик города: вымостить улицы, организовать уклоны и канавы, чтобы потоки сточных вод свободно двигались по «самоочищающимся» трубам, не создавая заторов из отходов, разложение которых привело бы к новым вспышкам заболеваний. Чедвик даже разработал уникальный дизайн сточной трубы овального сечения. Такая форма позволяла увеличить скорость движения отходов, предотвращала образование наносов и закупорку трубы. Наконец, вместо сброса в ближайшую реку, как было предусмотрено во многих фрагментарных канализационных системах того времени, Чедвик предлагал направлять отходы на фермы, где их можно переработать и использовать для сельскохозяйственных нужд. Интегрированный проект канализации Чедвика был первым в своем роде: ничего подобного до этого не существовало.
К несчастью, придумать систему было гораздо проще, чем сконструировать. И хотя Чедвик предложил создать новые законодательные и административные структуры, с помощью которых можно было бы обеспечить финансирование и строительство системы, примеров удачного воплощения столь сложного всеобъемлющего замысла ни у кого не было. Вместе с тем проект открывал безграничные возможности для споров о том, кто будет разрабатывать план строительства, заниматься финансированием, сооружением и обслуживанием системы. И все же в 1848 г., после 7 лет законодательных и административных споров между Чедвиком и всеми остальными, решение наконец было найдено. Отчасти.
Веха № 6
Медленное рождение общественного здравоохранения
Принятый в 1848 г. «Закон об общественном здравоохранении» считается вершиной работы Чедвика и крупной вехой в развитии английской здравоохранительной системы. Согласно ему, британское правительство впервые за всю историю официально приняло на себя ответственность за охрану здоровья граждан и приступило к созданию законодательной базы для обеспечения приемлемых санитарных условий.
Однако на деле закон имел множество недостатков, устранять которые предстояло еще долгие годы. Так, исполнение многих основополагающих статей было оставлено на усмотрение органов местного управления. Порой Чедвику и его сторонникам приходилось угрожать, давить и создавать неудобства местным властям, чтобы добиться своей цели – заставить их убирать нечистоты. А те, кому хватило смелости приступить к строительству водопроводно?канализационной системы по проекту Чедвика, сталкивались с техническими трудностями, которые невозможно было преодолеть, не поступившись общими принципами. Таким образом, хотя на работу были потрачены годы – от споров с инженерами о технических нюансах до обвинений во всех грехах политических оппонентов, которые создавали ему проблемы, – великий план Чедвика в конце концов оказался слишком амбициозным.
Несмотря на эти препятствия, к середине XIX века замыслы и труды Чедвика все же начали приносить плоды. Появилась городская канализационная система – не такая продвинутая, как та, которую он замыслил изначально, но все же отражавшая его идеи и отвечающая требованиям правительства. Первые результаты ее работы оказались весьма многообещающими. Согласно исследованию, проведенному в 12 крупных городах Великобритании, до установки канализационных систем показатель смертности составлял 26 человек на 1000, после установки он упал до 17 на 1000.
Более того, в 1860–1870?е гг. канализационная система, разработанная Чедвиком и другими английскими инженерами, приобрела международную известность. В 1840?х были предприняты первые попытки соорудить канализационные сети в Нью?Йорке, Бостоне и других крупных американских городах. Системы были фрагментарными, неинтегрированными и имели существенные проектировочные недостатки. Но ко времени Гражданской войны и в 1870?х во многих городах Америки появились «плановые» системы, выстроенные по принципу «английской санитарной реформы». Как заметил один массачусетский инженер того времени, «наши соотечественники восприняли идею общественного водоснабжения с большим единодушием».
В Англии работа Чедвика и его сторонников наконец увенчалась принятием «Закона об общественном здравоохранении» 1875 г. – наиболее полного и исчерпывающего санитарного закона в Англии до нынешнего времени. Оглядываясь назад, мы можем заметить, что принятие закона и резкий рост городских канализационных систем в конце XIX века были напрямую связаны с тремя непременными условиями современной санитарии, которые сформулировал и неустанно пропагандировал Чедвик: 1) понимание связи между состоянием окружающей среды, санитарным состоянием и здоровьем; 2) необходимость централизованной административной поддержки санитарно?технических служб; 3) готовность вкладывать ресурсы в инженерные работы и инфраструктуру, необходимые для создания этих служб.
* * *
Один из уроков, который можно вынести из дела всей жизни Чедвика, гласит: неважно, что ты отталкивался от ложных предпосылок, если в итоге ты пришел к правильному выводу. Всю свою жизнь Чедвик, как и многие его современники, был непоколебимо уверен в том, что холеру вызывают миазмы. Как многих других, его совершенно не впечатлили «заново открытые» Кохом в 1884 г. бактерии Vibrio Cholerae (V. cholerae), и он даже доказывал, что гораздо важнее устранить из домов дурные запахи, чем обеспечить подачу чистой воды. Но даже если технически он был неправ, нужно отдать ему должное: он смог разглядеть – или скорее унюхать, – где скрывается корень проблемы.
Сегодня достижения Чедвика считаются поворотной точкой в истории современной санитарии. На фоне повальной антисанитарии эпохи индустриальной революции и бушевавшей в течение 30 лет холеры Чедвик привлек внимание общественности к необходимости соблюдения норм гигиены для сохранения здоровья города и его обитателей – и установил в этой области высокую планку.
* * *
Джон Сноу и Эдвин Чедвик в чем?то были очень схожи, а в чем?то различались. У них были разные характеры, они занимались разным делом, но оба стремились победить общего врага. Они имели противоположные взгляды на причины возникновения холеры, но оба признавали, что в основе всех бед лежит более широкая проблема – неудовлетворительные санитарные условия в местах проживания людей. Эпидемиологические исследования и озарения Сноу открыли миру, что серьезные желудочно?кишечные заболевания могут распространяться через загрязненную воду – «фекально?оральным путем», как мы называем это сегодня. А труды Чедвика, связавшего вспышки заболеваний с антисанитарной средой, подкрепленные его инженерными и законодательными инновациями, помогли воплотить на общегородском уровне современные санитарные стандарты.
Сноу и Чедвик работали в разных областях, но сходились в одном: их усилия были направлены на благо сотен тысяч человек, беззащитных и напуганных разгулом эпидемий, которые вспыхивали внезапно и в считаные дни (или даже часы) выкашивали целые семьи. И тот и другой помогли сосредоточить умы старого мира на пороге нового века. Просвещая, они подталкивали человечество в новую эпоху городской цивилизации, где современная санитарная система была необходимым условием выживания.
Бессилие санитарии: холера в XXI веке
В XXI веке, через 150 лет после своего открытия, V.cholerae живет и здравствует и продолжает наносить смертоносные удары во всем мире в эпидемической или эндемической форме. К счастью, сегодня у нас есть антибиотики и оральная регидратация, и смертей можно избежать. Но, увы, во многих регионах, где холера остается серьезной проблемой (не так давно эпидемии вспыхнули в Ираке, Руанде, Центральной и Южной Америке), лечение не всегда доступно и показатели смертности очень высоки (до 50 %).
Новые вакцины дают более надежную защиту и имеют меньше побочных эффектов, чем старые, но их благотворное действие по?прежнему ограничено трудностями, связанными с их раздачей населению из группы риска (как правило, в развивающихся или опустошенных войнами странах), а также необходимостью введения бустерных доз вакцин[5]. Более того, даже самые эффективные вакцины могут не подействовать, если число холерных бактерий слишком велико: их количество в одном грамме выделений при водянистой диарее может доходить до 100 млн. Ученые полагают, что холера, вероятно, никогда не будет окончательно побеждена. Учитывая, что жидкость – естественная среда обитания V. сholerae, а гидросфера нашей планеты весьма велика, новые эпидемические штаммы, скорее всего, по?прежнему будут появляться, развиваться и распространяться. Ученые предлагают нам смириться с тем, что где?то рядом существует V. сholerae, и сосредоточиться на двух основных задачах: разработке более эффективных способов борьбы с болезнетворными организмами и создании передовых санитарных систем, позволяющих предотвратить их распространение.
Сноу и Чедвик не могли бы сказать об этом лучше.
* * *
Пожалуй, удивительнее всего в этой истории то, что V. сholerae – это отдельный вид из огромного семейства бактерий, обитающих в соленых водах и по большей части совершенно безвредных. Из 206 известных серогрупп[6] V. сholerae только две группы (их называют О1 и О139) обладают уникальным сочетанием генов, позволяющим им процветать в человеческом желудочно?кишечном тракте и вырабатывать свой смертельный токсин. Одна группа генов производит ворсинки, позволяющие V. сholerae колонизировать внутреннюю оболочку кишечника; другая под названием ctxAB – токсин, который проникает в клетки кишечной стенки и с маниакальной целеустремленностью выжимает из человека всю жидкость до последней капли, приводя его к гибели. Что любопытно, все 206 серогрупп V. сholerae обнаруживаются в солончаковых эстуариях (затопляемых руслах рек), и только О1 и О139, две группы, вызывающие смертоносное заболевание, обитают в водах, загрязненных человеком.
Возникает интересный вопрос: кто же кому больше навредил?
Глава 3
Невидимые захватчики: встреча с микробами
Августовской ночью 1797 г. акушерка Вестминстерского родовспомогательного отделения госпожа Бленкинсопп выбежала из спальни пациентки бледная и встревоженная. Три часа назад она приняла у Мэри новорожденную девочку, но сейчас что?то явно пошло не так. Она быстро отыскала мужа Мэри и сообщила ему тревожную новость: плацента до сих пор не вышла. Уильям должен немедленно послать за помощью. Доктор приехал через час и, обнаружив, что плацента прочно держится внутри, начал операцию.
Но и операция прошла не слишком благополучно: плаценту пришлось удалять по частям. Почти всю ночь Мэри «то и дело падала без чувств», а к утру потеряла очень много крови. Позже Уильям вспоминал, что в какой?то момент его обожаемая жена – они сыграли свадьбу всего несколько месяцев назад – нашла в себе силы сказать, что «умерла бы прошедшей ночью, но решила не оставлять его одного». Слабо улыбнувшись, она добавила: «До этого я даже не представляла себе, что такое настоящая боль». Мэри пережила кризис, но это было только начало. Через несколько дней, когда Уильям и другие члены семьи в приподнятом настроении ждали ее выздоровления, Мэри неожиданно охватил озноб необычайной силы: «Все мускулы ее тела трепетали, зубы стучали, кровать под ней тряслась». Приступ длился всего пять минут, но позже Мэри сказала Уильяму, что она была «между жизнью и смертью» и «уже готовилась испустить дух».
Мэри пережила и этот кризис, и семья вновь начала надеяться, что она выживет. Но через несколько дней ей снова стало хуже: начался сильный жар, пульс необыкновенно участился, она жаловалась на боли в животе. Затем, на восьмое утро после родов, когда Уильям уже перестал надеяться, хирург разбудил его, чтобы сообщить радостную новость: Мэри стало «на удивление лучше».
Пережила ли Мэри третий кризис? Казалось, что да. Приступы озноба и другие тревожные симптомы испарились, словно по волшебству, и в следующие два дня ни разу не напомнили о себе. На десятый день после родов хирург сказал, что считает улучшение «поистине чудесным» и что «было бы крайне неразумно отказываться от надежды на благополучный исход». Однако за прошедшие дни Уильям успел не раз воспрянуть и вновь упасть духом. Несмотря на улучшение, его не оставляли мрачные предчувствия, которые в конечном счете оказались пророческими: на одиннадцатый день после рождения дочери Мэри умерла от родильной горячки.
* * *
Когда английская писательница Мэри Уолстонкрафт скончалась сентябрьским утром 1797 г. в возрасте 38 лет, мир потерял не только одаренного философа, просветительницу и феминистку. Мэри оставила после себя сочинения, заложившие основы движения за права женщин в XIX и XX веках, и подала пример открытой борьбы за избирательное право женщин и возможность получать образование наравне с мужчинами. Но, кроме того, она оставила миру еще один последний, удивительный подарок – маленькую девочку, пережившую все испытания первых дней своей жизни. Ее назвали Мэри в честь матери, которую она так и не узнала. Это была Мэри Уолстонкрафт Шелли, в 1818 г. написавшая в возрасте 21 года знаменитый роман «Франкенштейн».
Смерть Мэри Уолстонкрафт – наглядный пример трагического недуга, который был повсеместно распространен вплоть до середины XIX века и почти всегда заканчивался смертью; доктора были против него бессильны. Сегодня родильная горячка, или послеродовой сепсис, встречается редко, но в прошлом она была одной из самых частых причин смерти рожениц. Как и в случае с Мэри Уолстонкрафт, болезнь начиналась внезапно, вскоре после появления ребенка на свет, и сопровождалась приступами интенсивного озноба, учащением пульса, иногда до 160 ударов в минуту, и высокой температурой. Боль в нижней части живота была такой острой, что любое прикосновение, даже легкое давление одеяла, которым укрывали женщину, могло заставить ее кричать от боли. «Я видел женщин, – рассказывал своим студентам врач?акушер в 1848 г., – до глубины естества потрясенных своим бедственным положением». После нескольких дней ужасных страданий симптомы предательски исчезали. Семья ликовала, но опытные врачи видели в этом зловещий знак. Неожиданное прекращение симптомов означало, что болезнь вскоре нанесет еще один, окончательный удар, за которым последует смерть.
Родильная горячка сыграла важную роль в истории медицины. Когда в 1847 г. венгерский врач Игнац Земмельвейс обнаружил способ ее предотвращения, он не только помог спасти множество женщин от мучительной смерти, но и сделал первый шаг к тому, что теперь считается одним из величайших прорывов в медицине, – открытию микробной теории.
Невидимые «диковинки», изменившие мир медицины
Сегодня мы воспринимаем микробную теорию, гласящую, что болезни вызваны бактериями, вирусами и другими вредоносными микроорганизмами, как нечто само собой разумеющееся. Но почти до конца XIX века эта идея казалась людям неправдоподобной, даже бредовой. Большинство врачей были не в состоянии принять ее, не поступившись привычным образом мыслей, и крайне неохотно отказывались от устоявшихся убеждений (например, теории миазмов). Пережитки мышления XIX века сохранились до наших дней: это подтверждает само использование слова «микроб». В начале XIX века, до того как микроскопы стали достаточно мощными и позволили ученым увидеть различия между отдельными видами, «микробами» называли все невидимые и неизученные микроорганизмы, которых подозревали в распространении болезней. И хотя нам давно известно, что на самом деле это бактерии, вирусы и другие патогены, многие из нас – особенно авторы телерекламы, которым надо продавать новые средства для чистки кухни и ванной, – по?прежнему используют слово «микробы» для обозначения всех вредоносных организмов.
Однако в конце XIX века состоятельность микробной теории была неопровержимо доказана, и это навсегда изменило не только медицинскую практику, но и наше отношение к невидимому миру вокруг нас. Значение микробной теории было подтверждено в 2000 г., когда журнал Life поставил ее на шестое место в списке важнейших открытий за последнюю тысячу лет.
Изначально нежелание принимать микробную теорию было вызвано вовсе не сомнением в том, что нас окружают мириады крошечных невидимых форм жизни. К началу XIX века людям почти 200 лет было известно о существовании микроорганизмов. Их открыл в 1676 г. голландский шлифовальщик линз Антони ван Левенгук. Заглянув в свой примитивный микроскоп, он стал первым человеком, обнаружившим существование бактерий. В тот апрельский день он с изумлением записал, что увидел множество «анималькуль (“мельчайших животных”), которые… были невероятно малы, настолько малы, что… даже десять тысяч этих живых существ не смогли бы заполнить собой единственную песчинку».
Но в следующие 200 лет немногие ученые всерьез рассматривали версию о том, что эти диковинные невидимые существа могут вызывать болезни. Только в XIX веке врачи и ученые начали постепенно накапливать данные, и благодаря переломным открытиям, которые совершили четверо главных первопроходцев: Игнац Земмельвейс, Луи Пастер, Джозеф Листер и Роберт Кох, – состоятельность микробной теории наконец была неопровержимо доказана. Первое открытие непосредственно связано со смертельной загадкой родильной горячки, которая унесла жизни Мэри Уолстонкрафт и 500 тыс. других женщин в Англии и Уэльсе в XVIII–XIX веках.
Веха № 1
Трагическая потеря друга, блистательное озарение
В 1846 г. Игнац Земмельвейс начал карьеру врача?акушера в Венском генеральном госпитале. Ему было всего 28 лет, и у него были все причины ликовать – и в то же время опасаться. Хорошая новость: Венский генеральный госпиталь был крупнейшим медицинским учреждением мира, и принадлежавшая ему Венская медицинская школа переживала расцвет. Более того, родильное отделение недавно было расширено и разделено на две отдельные клиники, в каждой из которых могли принять до 3 500 младенцев в год. Но имелась одна ужасная проблема: в госпитале свирепствовала эпидемия родильной горячки. В 1820?х показатель смертности составлял 1 %, к 1841 г. он вырос почти в 20 раз. Иными словами, если в 1841 г. вы отправлялись в Венский генеральный госпиталь, чтобы произвести на свет дитя, ваши шансы не вернуться оттуда живой равнялись 1 к 5.
К концу 1846 г., отработав год в должности ассистента врача, Земмельвейс стал свидетелем смерти более 400 женщин, скончавшихся от родильной горячки. К тому моменту было выдвинуто множество гипотез (как нелепых, так и вполне серьезных), объясняющих чрезвычайно высокие показатели смертности. Земмельвейс взвесил их и отбросил большую часть, в том числе теории о том, что причиной смерти были: женская стыдливость (в одной из клиник новорожденных принимали исключительно врачи?мужчины); священники, звонившие в колокола (предполагалось, что похоронные процессии, проходившие по коридорам госпиталя, пугали рожениц и становились причиной новых смертей) и другие теории, не подтверждавшиеся фактами (например, теснота, спертый воздух и негодная пища).
Но, проведя статистический анализ и сравнив показатели смертности в двух клиниках, Земмельвейс сделал интересную находку. В течение пяти лет после того, как акушерскую клинику разделили на два отделения, показатели смертности среди пациенток в первой клинике, где роды принимали врачи?мужчины и где находилось секционное отделение, стали в 3–5 раз выше, чем во второй, где работали акушерки?женщины. Это открывало широкое поле для домыслов, но никаких реальных причин явлению Земмельвейс найти не мог. Как он писал позже, акушерки, принимавшие новорожденных во второй клинике, «вовсе не были более искусны или добросовестны в исполнении своих обязанностей», чем врачи, работавшие в первой клинике. Дальнейшее расследование запутало еще больше. Например, выяснилось, что показатели смертности среди матерей, которые разрешались от бремени дома или даже на улицах, ниже, чем среди тех, кто ложился в больницу. Как писал Земмельвейс: «Все было под вопросом. Все казалось необъяснимым. Все вызывало сомнения. Только огромное количество смертей оставалось неоспоримой реальностью».
Весной 1847 г. Земмельвейс пережил личную трагедию, которой суждено было сыграть в истории судьбоносную роль. Возвратившись в Венский госпиталь из трехнедельного отпуска, он был встречен душераздирающей новостью: его близкий друг, профессор Якоб Коллечка умер. Убитый горем Земмельвейс все же не мог не поинтересоваться причиной смерти друга. Выяснилось: когда профессор проводил учебное вскрытие женщины, скончавшейся от родильной горячки, один из студентов случайно уколол его палец скальпелем. В рану попала инфекция, которая быстро распространилась по всему телу. Проводя вскрытие, Земмельвейс поразился увиденному: все тело Коллечки было охвачено инфекцией, похожей на ту, которую он наблюдал у женщин с родильной горячкой. «День и ночь меня преследовала картина болезни Коллечки, – писал он. – Судя по всему, он умер от той же болезни, что и множество рожениц».
Это озарение было замечательным по своей сути. До этого врачи по определению считали, что родильная горячка поражает только женщин. Убедившись, что она погубила мужчину, через рану, полученную во время вскрытия пациентки, которая умерла от родильной горячки, Земмельвейс пришел к потрясающему выводу. «Я был вынужден признать, – писал он, – что если эта болезнь, поразившая Коллечку, идентична той, что унесла жизни множества рожениц, значит, она происходит из того же источника».
Земмельвейс не знал, что именно вызвало заболевание (он называл невидимого убийцу «трупными частицами»), – но он вплотную подошел к разгадке великой тайны. Если родильную горячку могли переносить от одного человека к другому «частицы», это объясняло и высокие показатели смертности в первой клинике. В отличие от акушерок, которые принимали новорожденных во второй клинике, врачи в первой обычно проводили вскрытие пациенток, умерших от родильной горячки, а затем шли в родильное отделение, где проводили осмотр женщин. Разгадка поразила Земмельвейса подобно удару молнии: это врачи заносили заразные частицы в организм женщин, что и вызвало более высокие показатели смертности в первой клинике. «Трупные частицы попадают в кровеносную систему пациентки, – заключил Земмельвейс, – таким образом, роженица контактирует с той же болезнью, которая была найдена у Коллечки».
Разумеется, врачи мыли руки после вскрытия, но Земмельвейс первым понял, что воды и мыла недостаточно. Тем самым он вплотную приблизился к следующему важному открытию.
Веха № 2
Простое решение: вымой руки, спаси жизнь
В середине мая 1847 г., вскоре после смерти своего друга Коллечки, Земмельвейс объявил о введении в первой клинике новых порядков. Отныне врачи, отправляющиеся после вскрытия осматривать беременных, должны были мыть руки раствором хлорной извести. Всего за год нововведение дало поразительные результаты: если раньше показатели смертности в первой клинике составляли примерно 30 % против 3 % во второй, то через год после того, как врачей обязали мыть руки с хлоркой, показатели смертности упали до 1,27 % в первой клинике против 1,33 % во второй. Впервые за долгие годы смертность в первой клинике стала ниже, чем во второй.
Однако реакция на открытие Земмельвейса лишний раз подтверждает, какой огромный путь предстояло пройти медицинскому сообществу, прежде чем оно оказалось готово принять микробную теорию. Некоторые коллеги поддержали его, но большинство консервативно настроенных врачей гневно отвергли его идеи. Во?первых, это противоречило господствовавшему в то время убеждению, будто родильную горячку, как и другие болезни, вызывает целый комплекс причин, в числе которых называли вредоносные испарения, эмоциональное потрясение и даже волю Господа. Никто не мог поверить, что во всем виноваты какие?то «частицы». Многих врачей оскорбило предположение, будто они «нечисты» и разносят болезнь своими руками. Поэтому, увы, несмотря на передовое открытие, теория Земмельвейса привлекла мало сторонников. Проблема была еще и в том, что он почти ничего не делал для освещения своей находки. Только в 1861 г. он опубликовал книгу о причинах и способах предотвращения родильной горячки, но она была такой несвязной и скучной, что осталась почти незамеченной.
С этого момента жизнь Земмельвейса приняла трагический оборот. У него обнаружилось серьезное нарушение мозговой деятельности, вероятнее всего, болезнь Альцгеймера. Его ранние записки проникнуты глубоким чувством раскаяния и вины за ту невольную роль, которую он вместе с другими врачами сыграл в судьбе множества женщин, скончавшихся от родильной горячки. «Одному лишь Богу известно, сколько пациенток безвременно сошли в могилу по моей вине… И если я говорю то же самое о другом враче, мое намерение состоит лишь в том, чтобы донести до его сознания истину, которая должна быть известна каждому, кого она касается». Но по мере ослабления умственных способностей характер его высказываний изменился. Он начал сочинять злобные письма тем, кто возражал против его идей. Одному врачу он написал: «Ваше учение, герр Хофрат, опирается на трупы женщин, которых сгубило ваше невежество… Если вы, сударь, намерены и дальше убеждать своих студентов и акушерок, будто родильная горячка – самая обыкновенная болезнь, я во всеуслышание объявляю вас убийцей перед Богом и людьми».
В конце концов Земмельвейса отправили в сумасшедший дом, где он вскоре умер. Но, как ни парадоксально, некоторые считают, что именно его ядовитые выпады против коллег помогли микробной теории выйти на следующий этап. Через много лет, когда было собрано достаточно подтверждений ее истинности, его резкие письма снова привлекли к проблеме внимание общественности.
* * *
Пройдет еще 15 лет, прежде чем «трупные частицы» будут идентифицированы как стрептококк, однако озарение Игнаца Земмельвейса сегодня признают ключевым шагом в развитии микробной теории. Хотя он не понимал, какой именно микроб вызывает болезнь, он продемонстрировал, что она имеет один вполне конкретный источник. Иными словами, его современники считали, что родильную горячку может вызвать множество разных причин, а Земмельвейс утверждал: чтобы у пациента развилась эта болезнь, в его организм должен попасть специфический возбудитель, содержащийся в трупных частицах.
Но это был только первый шаг. Предстояло дождаться работы Луи Пастера, чтобы врачи смогли достичь следующего этапа: установить связь между определенными частицами – микроорганизмами – и их воздействием на другие живые организмы.
Веха № 3
От ферментации к пастеризации: прорастание микробной теории
Всем нам прекрасно известно: иногда срочно нужна крыса или скорпион, а их, как назло, нигде не найти. Но не волнуйтесь, известный алхимик и врач XVII века Ян Баптиста ван Гельмонт вывел следующий рецепт создания крыс: «Насыпь в горшок пшеницы и положи грязную тряпку, плотно закупорь крышку. Через 21 день закваска, выделяемая грязной тряпкой, соединится с эманацией пшеницы, и зерна превратятся в крыс – не маленьких и слабых, но крепких и полных жизни». Сделать скорпиона, по уверению Гельмонта, еще проще: «Выдолби углубление в камне, наполни его толченым базиликом и накрой другим камнем. Поставь оба камня на солнце. Через несколько дней испарения базилика подействуют как укрепляющий агент и преобразуют растительную материю в живых скорпионов».
С одной стороны, приятно сознавать, что большинство ученых середины XIX века посмеялись бы вместе с нами над этой наивной верой в самопроизвольное зарождение жизни (теорией, гласившей, будто живой организм можно создать из неживого материала). С другой стороны, этот смех мог утихнуть быстрее, чем вам кажется. В конце 1850?х уже никто всерьез не верил в самозарождение насекомых или животных, но появление более мощных микроскопов заставило некоторых ученых снова задуматься над вопросом: откуда же тогда взялись эти мельчайшие организмы, настолько маленькие, что 5 млн штук могло бы уместиться в точке в конце предложения?
Два навязчивых вопроса так и оставались без ответа: откуда взялись микроорганизмы и имеют ли они какое?то отношение к «реальному» миру растений, животных и людей? В 1858 г. известный французский натуралист Феликс Пуше, пытаясь найти ответ на первый вопрос, воскресил сомнительную теорию самопроизвольного зарождения жизни, утверждая, будто «доказал без тени сомнения», что она объясняет, как в мире появились микроорганизмы.
Но французский ученый Луи Пастер, чьи исследования в области химии и ферментации уже заслужили всеобщее восхищение, ни на мгновение в это не поверил и провел ряд остроумных экспериментов, которые окончательно похоронили теорию самопроизвольного зарождения жизни. Классические эксперименты Пастера и сегодня повторяют на уроках биологии, однако они составляют лишь малую толику его примечательной двадцатипятилетней карьеры. За эти годы он не только помог ответить на оба вопроса (микробов порождают другие микробы; они имеют самое прямое отношение к реальному миру), но и вывел микробную теорию из тумана неопределенности на территорию непререкаемой реальности.
За здоровье дрожжей: как крошечные существа поддержали алкогольную промышленность и новую микробную теорию
Для большинства из нас дрожжи – порошкообразное вещество, которое придает вину и пиву приятную игристость и помогает хлебу и кексам подниматься в горячей духовке. Некоторые из нас знают, что дрожжи – одноклеточный микроорганизм, который размножается, выращивая маленькие почки. Но чтобы установить и подтвердить эти обманчиво простые факты, ученым в XIX веке потребовалось много лет дебатов и экспериментов. Даже после того, как они признали дрожжи живым организмом, начался новый виток споров о том, в самом ли деле они отвечают за брожение (ферментацию).
Невоспетый герой раннего этапа микробиологии, дрожжи, благодаря своим сравнительно крупным размерам, первыми из микробов подверглись изучению. Но сегодня часто забывают еще об одной веской причине воздать дрожжам должное: благодаря работе ученого Луи Пастера они сыграли центральную роль в развитии микробной теории.
Поначалу ничто не предвещало великих открытий. В 1854 г. Луи Пастер занимал должность декана факультета естественных наук в северофранцузском городе Лилле, преподавал химию и в целом не слишком интересовался дрожжами и алкогольными напитками. Но однажды отец одного из студентов спросил, не хочет ли он разобраться с проблемой, возникшей на его винокуренном заводе. Пастер согласился. Изучив бродящую жидкость под микроскопом, он сделал важное открытие. Здоровые микроорганизмы в забродившем соке имели правильную шарообразную форму, но там, где происходило скисание (порча), они были продолговатыми. Пастер продолжил изыскания и в 1858 г. доказал, что брожение алкоголя обусловлено деятельностью дрожжей. Этим открытием он подтвердил «микробную теорию» брожения, что вызвало кардинальный переворот в общественном сознании: люди узнали, что вся алкогольная промышленность опирается на одну микроскопическую форму жизни и одноклеточный микроб может иметь огромное влияние.
В следующие годы Пастер распространил микробную теорию брожения на «болезни» вина и пива, успешно доказав: алкогольные напитки портятся из?за того, что другие микроорганизмы производят внутри них молочную кислоту. Он не только обнаружил эти пагубные микроорганизмы, но и нашел от них «лекарство»: нагревание жидкости до 60–80 °C убивало микробы и позволяло предотвратить порчу продукта. Название процесса частичной стерилизации – пастеризация – хорошо известно нам и сегодня: мы постоянно видим его на упаковках продуктов и напитков.
Работа Пастера в области ферментации и «болезней» вина отметила новый рубеж в развитии микробной теории. Уже в начале 1860?х он размышлял о том, могут ли микроорганизмы оказывать схожее влияние и в других областях жизни: «Убедившись, что вино и пиво претерпевают существенные изменения, поскольку становятся убежищем микроскопических организмов, нельзя не задаться следующим вопросом: что если подобный феномен может и должен происходить в организме животного или человека?»
Веха № 4
Окончательные похороны теории самозарождения жизни
Пока Пастер занимался изучением брожения, уже известный нам французский натуралист Феликс Пуше посеял в научном мире раздор и смуту, объявив, что «получил веские доказательства» самопроизвольного зарождения жизни. В частности, он утверждал, что провел эксперименты, в ходе которых создал микробов в стерильной среде, где до этого не было родительских микроорганизмов. Многие ученые отмахивались от его заявлений, но Пастер, имея опыт в изучении брожения и будучи настоящим гением по части постановки неожиданных и элегантных экспериментов, смог выйти против Пуше и решить проблему, которую многие считали неразрешимой. С помощью одного классического эксперимента он выявил недостатки работы Пуше, обратив внимание на явление столь распространенное, что мы нередко забываем о нем так же, как о воздухе, которым дышим.
«Пыль, – объяснил Пастер в лекции, посвященной своему знаменательному эксперименту, – это домашний враг, хорошо знакомый каждому. Воздух в этом помещении наполнен частицами пыли, которые порой могут привести к болезни и смерти: от тифа, холеры, желтой лихорадки и пр.». Далее Пастер объяснил, что микробы, которые, по утверждению Пуше, самопроизвольно зародились в стерильной среде, на самом деле появились в результате несоблюдения техники эксперимента в условиях пыльной комнаты. Чтобы проиллюстрировать свою мысль, Пастер провел простой опыт. Он налил мясной бульон в два стеклянных сосуда, один из которых имел прямое вертикальное горлышко, без труда пропускавшее воздух вместе с частицами пыли, а другой – длинное, горизонтально изогнутое, которое пропускало воздух, но не пыль. Пастер прокипятил бульон в обоих сосудах, чтобы убить уже существующие микробы, и отставил их в сторону. Через несколько дней он проверил сосуды и выяснил, что в первом, открытом, бульон заплесневел: вместе с частицами пыли внутрь попали микробы. Во втором сосуде, чье изогнутое горлышко не позволяло пыли попадать внутрь, микробов не было.
Пастер объяснил, указывая на второй сосуд: «Он будет оставаться неизменным не только день или два, или три, или четыре, или даже месяц, год, три года, четыре года! Эта жидкость будет стерильной всегда». В следующие годы Пастер не раз проводил подобные опыты, получая те же результаты, и мог уверенно заявить: «Доктрина самопроизвольного зарождения жизни никогда не оправится от смертельного удара, нанесенного ей этим экспериментом».
Работа Пастера, в которой на 93 страницах описан ход и результаты этого эксперимента, была опубликована в 1861 г. и сегодня считается последним опровержением теории о самопроизвольном зарождении жизни. Не менее важно и то, что она подготовила условия для достижения следующего этапа. Как написал в то время Пастер, «весьма желательно продолжать эти исследования и дальше… и серьезно изучить таким образом происхождение болезни».
Веха № 5
Важное звено: микробы в мире насекомых, животных и людей
В течение 20 лет Пастер сделал несколько потрясающих открытий, которые перевернули представления людей о мире, оказали огромное влияние на развитие медицины и установили новую веху в развитии микробной теории. Все началось в середине 1860?х, когда шелковая промышленность Западной Европы столкнулась с загадочной болезнью шелковичных червей. Друг?химик попросил Пастера обратить внимание на эту проблему, но поначалу тот ответил уклончиво, заметив, что ничего не знает о шелкопрядах. Тем не менее, заинтригованный поставленной задачей, Пастер начал изучать жизнедеятельность шелкопрядов и рассматривал под микроскопом здоровых и больных особей. За пять лет он установил, от какой болезни они страдают, и указал фермерам способ предотвратить ее, чем помог шелковой промышленности вернуться к процветанию. Однако эта работа имела огромное значение не только для промышленности. Пастер сделал еще один большой шаг в истории развития микробной теории, вступив на неисследованную территорию: в сложный мир инфекционных заболеваний.
В 1870–1880?е Пастер приступил к изучению инфекционных заболеваний у животных и сделал несколько важнейших открытий, которые также заняли свое место в фундаменте микробной теории. В 1877 г. он начал изучать сибирскую язву – болезнь, от которой страдали до 20 % поголовья овец во Франции. Другим ученым уже удалось обнаружить в крови зараженных животных палочковидный микроб, однако Пастер провел собственное независимое исследование и в 1881 г. потряс мир сообщением о том, что он создал вакцину, которая успешно ограждает овец от заболевания. Эта крупная веха в истории вакцинации (подробнее мы поговорим об этом в главе 6) стала лишним доказательством того, что микробная теория реальна и имеет непосредственное отношение к болезням животных.
Однако на этом Пастер не закончил работу в области иммунизации. Вскоре он начал экспериментировать над созданием вакцины от бешенства – широко распространенной в то время болезни с неизменно летальным исходом. Пастер не смог выделить или идентифицировать микроб, вызывающий бешенство (вирусы были слишком малы, и мощности тогдашних микроскопов не хватало, чтобы их увидеть), но он был твердо убежден, что в болезни виновен какой?то микроорганизм. Проведя сотни экспериментов, Пастер создал вакцину, эффективность которой была подтверждена на животных. Затем, в 1885 г., в исключительном и рискованном жесте отчаяния, вакцина была опробована на человеке. С ее помощью удалось спасти жизнь мальчика, укушенного бешеной собакой. Это достижение само по себе подводило блестящий итог изысканиям Пастера, но, кроме того, оно довело микробную теорию до кульминации, продемонстрировав непосредственную связь микробов с человеческими болезнями.
К концу своей карьеры Пастер стал национальным и всемирным героем. Его потрясающие достижения в области химии не только спасли от краха несколько отраслей промышленности, но и позволили получить солидные доказательства в пользу состоятельности микробной теории. Впереди ждало еще несколько этапов, в том числе крупное открытие, совершенное в 1865 г. одним английским хирургом, на которого произвели большое впечатление работы Пастера.
Веха № 6
Антисептики спешат на помощь: Джозеф Листер и современная хирургия
В 1860 г., когда Джозеф Листер начал преподавать хирургию в Университете Глазго, даже у тех пациентов, которым повезло пережить операцию, оставалось множество причин опасаться за свою жизнь. Повальное распространение послеоперационных инфекций приводило к тому, что показатель смертности для некоторых процедур достигал 66 %. Как заметил один врач того времени: «Человек на операционном столе в нашем госпитале подвергается едва ли не большей опасности, чем английский солдат в битве при Ватерлоо». К несчастью, все попытки решить эту проблему разбивались о господствовавшее в то время убеждение, будто постоперационную «гнилость» ран вызывают не микробы, а кислород. Многие врачи действительно полагали, что в нагноении ран повинен содержащийся в воздухе кислород, который разлагающе действует на поврежденные ткани, превращая их в гной. А поскольку способов перекрыть доступ кислорода к ране не существовало, многие верили, что предотвратить развитие инфекции невозможно.
Если Джозеф Листер когда?то и разделял эти взгляды, он определенно пересмотрел их после знакомства с трудами Луи Пастера. Две мысли Пастера произвели на него особенно сильное впечатление: о том, что «брожение» органического вещества становится результатом деятельности живых «микробов», и о том, что микробы не зарождаются самопроизвольно, а размножаются только при наличии родительских организмов. Проанализировав это, Листер задумался: если врач хочет предотвратить инфекцию, возможно, ему стоит обратить более пристальное внимание не на кислород, а на микроорганизмы, проникающие в рану? «Если обработать рану каким?нибудь веществом, которое, не нанося серьезного вреда человеческим тканям, могло бы уничтожить успевшие попасть в нее микробы, – писал он, – гниение можно было бы предотвратить, несмотря на свободный доступ к ране кислорода».
Поэкспериментировав с несколькими химическими веществами, Листер достиг переломного момента 12 августа 1865 г. В тот день он впервые использовал фенол – «состав, обладающий исключительно разрушительным действием на низшие формы жизни и, следовательно, являющийся наиболее сильным антисептиком из всех известных на сегодня» – для обработки раны одиннадцатилетнего мальчика, который получил открытый перелом левой ноги после того, как его переехала запряженная лошадью повозка. В то время открытые переломы сопровождались огромным риском развития инфекции и часто требовали ампутации конечности. Листер наложил на ногу мальчика шину и в течение следующих шести недель регулярно обрабатывал рану карболовой кислотой. К его восторгу, перелом сросся без малейших признаков инфекции. Позже Листер неоднократно использовал карболовую кислоту при лечении других ран, в том числе абсцессов и ампутационных. Кроме того, он применял ее для дезинфекции раны во время хирургических операций, а также обеззараживания инструментов и рук медицинского персонала.
Листер опубликовал свои находки в 1867 г., и в первое время его работа вызывала скептические отзывы хирургов Лондона. Тем не менее важность антисептической обработки была в итоге признана неоспоримой, и сегодня Листера называют отцом антисептиков или отцом современной хирургии. Кроме полоскания для рта, названного в его честь листерином, дань уважения Листеру отдали микробиологи, назвав один из родов бактерий Listeria. Открытие Листером асептической хирургии, за которое он благодарил Пастера в личном письме от 1874 г., несомненно, спасло огромное количество жизней. Но не менее важно и то, что выявление ключевой роли микробов в развитии инфекции и возможности их уничтожения антисептической обработкой позволило открыть очередной этап в развитии микробной теории.
В 1840–1860?х ученые проделали огромную работу по сбору сведений о роли микробов в развитии болезней. Но до определенного момента эти свидетельства оставались в основном косвенными. Даже в начале 1870?х микробная теория была для многих всего лишь недоказанным курьезом. Однако ее сторонники и противники сходились в одном: чтобы обосновать ее, кому?то необходимо было установить связь между конкретным микробом и конкретным заболеванием. Миру не пришлось долго ждать: вскоре молодой немецкий врач отыскал и исчерпывающе продемонстрировал эту связь.
Веха № 7
На шаг ближе: Роберт Кох и тайная жизнь сибирской язвы
В 1873 г. Роберт Кох был тридцатилетним врачом с обширной медицинской практикой в одном из сельских районов Германии. Казалось, все обстоятельства против него: он был отрезан от общества коллег и единомышленников, не имел доступа к библиотекам и лабораторному оборудованию, за исключением микроскопа, который ему подарила жена. Несмотря на все это, он заинтересовался сибирской язвой и собирался доказать, что ее появление вызывает определенный микроб. К тому времени основной подозреваемый уже был известен: палочковидная бактерия Bacillus anthracis. Кох был далеко не первым, кто приступил к ее изучению. Но никому до тех пор не удавалось доказать, что именно этот микроорганизм вызывает сибирскую язву.
Первоначальные изыскания Коха подтвердили находки других исследователей: инокуляция мышам крови животных, умерших от сибирской язвы, приводила к смерти грызунов от сибирской язвы, а у мышей, которым была введена кровь здоровых животных, болезнь не развивалась. Но в 1874 г. Кох приступил к исследованию более сложной загадки, которая лежала неподъемным камнем на пути к доказательству теории о бактериальном возникновении сибирской язвы. Верно, одни овцы заражались при контакте с больными животными. Но почему же другие заболевали сибирской язвой, не бывая нигде, кроме пастбища? После многочисленных экспериментов и кропотливой работы Кох отыскал разгадку, которая распахнула новое окно в мир микробов и заболеваний. Выяснилось, что сибирская язва с дьявольской изобретательностью меняет обличье. В неблагоприятных условиях, например, попадая в почву, она формирует споры, способные выживать при недостатке кислорода и жидкости. При возвращении благоприятных условий (попадении в организм живого носителя) споры снова образуют смертельно опасные бактерии. Таким образом, овцы, которые заболели сибирской язвой, казалось бы, не имея никакого контакта с больными животными, на самом деле тоже вступали в контакт с переносчиком болезни.
Сделанное Кохом открытие – жизненный цикл сибирской язвы и ее роль в возбуждении болезни – немедленно принесло ему громкую славу. Установив, что Bacillus anthracis – специфический возбудитель сибирской язвы, он заставил медицинское сообщество сделать следующий огромный шаг к принятию микробной теории. Но для окончательного триумфа нужно было подождать, пока он не раскроет загадку болезни, которая давно уже терзала человеческий род. В конце XIX века от нее страдали почти все жители крупных европейских городов, и на ее счету было 12 % от общего числа смертей. Даже сегодня благодаря летучему болезнетворному агенту она остается одной из самых распространенных причин смерти, а в развивающихся странах вызывает 26 % смертей, которых можно было бы избежать.
Веха № 8
Дело сделано: открытие причины туберкулеза
Когда Кох приступил к исследованию туберкулеза, также известного как чахотка, симптомы и исход этой болезни были хорошо известны, хотя ее течение могло оказаться совершенно непредсказуемым. Больной мог умереть через пару месяцев, страдать годами, а то и выздороветь. Среди первых симптомов пациенты часто называли сухой кашель, боль в груди и затрудненное дыхание. На более поздних стадиях кашель становился мучительным, сопровождался периодическими приступами лихорадки, учащением пульса и появлением нездорового румянца. На последних стадиях пациент имел изможденный вид, запавшие щеки и глаза, а голос превращался в хриплый шепот из?за того, что горло было изъедено язвами. Последним симптомом, возвещающим о приближении смерти, становился «могильный кашель». Туберкулез унес многих известных деятелей культуры XIX века: поэта Джона Китса, писателей Антона Чехова и Эмили Бронте.
Хотя собранные ранее обрывочные данные давали повод заподозрить, что туберкулез может быть заразным, к концу XIX века врачи в целом продолжали считать его наследственной болезнью, вызванной неясным нарушением деятельности легочных клеток пациента. Чаще всего оно объяснялось умственными и моральными недостатками личности, а не деятельностью посторонней формы жизни. В начале XIX века, получив должность руководителя бактериологической лаборатории в Императорском отделении здравоохранения в Берлине, Роберт Кох поставил перед собой цель доказать, что туберкулез, напротив, вызван микроорганизмом.
Задача была не из легких, Коху пришлось разработать ряд новых техник, в том числе изобрести метод окрашивания, который помогал выделить болезнетворный микроб на фоне окружающей ткани, и создать питательную среду, которая позволяла культивировать медленно растущие микроорганизмы. Наконец в 1882 г. Кох объявил миру о своем открытии: после успешной изоляции, культивации и инокуляции животным подозреваемых микробов он выяснил, что туберкулез вызывает Mycobacterium tuberculosis. Использовав для описания палочковидных бактерий термин «бациллы», он заключил: «Бациллы, присутствующие в туберкулезных метастазах, являются не спутником, но причиной болезни. Эти бациллы и есть истинные возбудители чахотки».
Веха № 9
Приговор для микроба: четыре знаменитых постулата Коха
Обнаружение Кохом туберкулезных бактерий стало переломным моментом, окончательно утвердившим статус микробной теории в медицине. Более того, принципы и приемы, которые Кох использовал при исследовании туберкулеза и других заболеваний, помогли ему сделать еще один существенный шаг: совместно с Фридрихом Леффлером сформулировать свод правил, к которым могли обратиться другие врачи, чтобы вынести обвинительный приговор другим микробам. Согласно «постулатам Коха», микроб может быть признан виновным, если отвечает следующим пунктам:
- Микроорганизм обнаруживается во всех случаях заболевания.
- Микроорганизм выделен от больного и выращен в чистой культуре.
- Чистая культура вызывает идентичное заболевание у здорового человека (животного).
- Микроорганизм выделен повторно от зараженного человека (животного).
Исследования Коха в области туберкулеза в итоге принесли ему Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Однако, разобравшись с туберкулезом, он не прекратил свои передовые исследования в сфере бактериологии. В 1884 г. он открыл (или, точнее, заново открыл) возбудителя холеры и предложил принять меры для обеспечения общественного здравоохранения, которые помогли подавить эпидемию холеры в Гамбурге в 1892 г. Кроме того, благодаря разработанным им микробиологическим приемам обученные им сотрудники смогли открыть множество других видов болезнетворных бактерий. Позже Кох ошибочно заявлял, что нашел лекарство от туберкулеза. Однако полученный им экстракт – туберкулин – используется в модифицированной форме и в наши дни как средство массовой диагностики.
Микробная теория через 100 лет: сюрпризы (и уроки) еще не закончились
В XIX веке микробная теория прошла длинный извилистый путь. Что интересно, хотя она шаг за шагом завоевывала все более широкое признание, сам термин «микробная теория» появился в английской медицинской литературе примерно в 1870 г. Польза микробной теории скоро стала очевидной, но и сегодня нередко упускают из вида другие аспекты ее влияния на медицинскую практику. Например, для многих молодых врачей в конце XIX века микробная теория открыла новый мир, полный надежды. Вытеснив устаревшие теории миазмов и самопроизвольного зарождения, она убедила всех, что для любой болезни может быть найдена причина – если не лекарство. Это придавало врачам новый авторитет в глазах пациентов. Как недавно написала Нэнси Томс в Journal of the History of Medicine, к концу XIX века врачам «начали больше доверять, не потому, что теперь они могли чудесным образом вылечить инфекционное заболевание, а потому, что они были способны объяснить и предотвратить его».
Микробная теория изменила представления врачей о том, как их собственное поведение отражается на здоровье пациентов. Новый образ мыслей достаточно устоялся уже к 1887 г. Именно тогда один из посетителей медицинского собрания, услышав, что другой врач перешел от инфекционного больного в родильное отделение, не вымыв руки, гневно заявил: «Меня крайне удивляет, что в наше просвещенное время такой человек, как доктор Бейли, имеющий репутацию учителя и практикующего врача, по?прежнему противится микробной теории специфических заболеваний… Надеюсь, никто из членов этого сообщества не последует его примеру».
К началу ХХ века микробная теория изменила в буквальном смысле все, даже внешний облик медиков. Следуя новым гигиеническим требованиям, молодые врачи перестали отпускать солидные бороды, которые традиционно носили их старшие коллеги.
* * *
Сегодня, несмотря на свое универсальное распространение, микробная теория по?прежнему вызывает в обществе ажиотаж, озабоченность, противоречия и недопонимание. Плюс в том, что возможность идентифицировать, предотвратить или вылечить спровоцированное микробами заболевание сегодня позволяет спасти миллионы жизней. Технологический прогресс позволил нам увидеть своими глазами мельчайшие микроорганизмы, такие как риновирус, вызывающий обычную простуду. Он настолько мал, что на острие иглы вполне могут уместиться 500 млн его представителей. Изучение бактериальных заболеваний заставило нас задуматься над фундаментальной загадкой жизни; ученые задаются вопросом, являются ли вирусы на самом деле «живыми», и размышляют о том, почему прионные заболевания[7], например синдром коровьего бешенства или фатальная семейная бессонница, могут быть заразными и смертельными, если распространяющий их агент очевидно не принадлежит к классу живых организмов.
Не так давно ученые нашли способ расшифровать геном (совокупность генетического материала) микробов, что привело к новым исследованиям, поднимающим вопрос о самой сути и природе нашего существования. В 2007 г. Национальные институты здравоохранения запустили проект «Микробиом человека» (Human Microbiome Project), который подробно рассказывает о геноме сотен микробов, в норме населяющих человеческое тело. Сама идея, что каждый человек служит носителем «микробиома» – коллективного генома всех микроорганизмов в его теле, – придает микробной теории совершенно новое звучание. Учитывая, что человеческое тело населяет около 100 трлн микробов (их в десять раз больше, чем наших собственных клеток, и у них в 100 раз больше генов, чем у нас самих), возникает вопрос: где же проходит граница между «нами» и «ими»? Тот факт, что большинство этих микробов играют важную роль в нашей жизнедеятельности, помогая организму функционировать (например, отвечают за пищеварение, иммунитет и метаболизм), делает этот вопрос еще более загадочным.
Следует заметить, что при всех своих достоинствах микробная теория оказалась своего рода ящиком Пандоры. Получив научный статус в конце XIX века, она выпустила страхи и тревоги, мучающие нас по сей день. В самом деле, что может быть ужаснее вездесущего, невидимого и всемогущего врага, чье оружие – болезни и смерть? Кто сегодня не подумает дважды, прежде чем взяться за дверную ручку в общественной уборной, пожать руку незнакомцу или сделать глубокий вдох в переполненном лифте, автобусе или самолете? Отчасти эти опасения имеют под собой реальную почву, но у впечатлительных людей они могут развиться в полноценное тревожное расстройство, которое подчинит себе всю их жизнь. Неудивительно, что многие из нас с тихой грустью думают о невинной доиндустриальной эпохе, когда мы ничего не знали о микробах и пребывали в блаженном негигиеническом неведении.
Современная битва против микробов привела к широкому распространению в обществе странной одежды и привычек: шапочки и перчатки у сотрудников ресторанов, антибактериальное мыло, синтетические моющие средства, пластмассовые разделочные доски, клавиатуры и детские игрушки, появившиеся в каждом доме. Совсем недавно борьба против микробов привела к широкому распространению дезинфицирующих спреев и гелей для рук на спиртовой основе, которые поселились не только в кабинетах врачей и больницах, но и в супермаркетах, на заправках, в сумочках и задних карманах. Все эти меры – хотя некоторые критикуют их как повышающие сопротивляемость бактерий – указывают на скрытую фобию, пронизывающую нашу жизнь. Мы не задумываясь направляем против невидимого врага новейшее антисептическое оружие в надежде обрести немного душевного спокойствия.
Как уничтожить миллионы незваных гостей: ответ у нас под рукой
И все же возникает вопрос: как определить, проявляем мы опасную беспечность или, наоборот, чересчур осторожничаем? Даже в наши дни беспечность становится причиной множества болезней и смертей. По иронии судьбы, это происходит именно в местах, предназначенных для того, чтобы нам стало лучше. Согласно исследованию Центра контроля и предотвращения заболеваний (Center for Disease Control and Prevention, CDC) от 2002 г. (статья опубликована в 2007 г.), в американских больницах ежегодно происходит 1,7 млн случаев заражения внутрибольничными инфекциями, из которых около 100 тыс. оканчиваются смертью. Хотя эти высокие цифры складываются из множества факторов, едва ли не самым главным среди них можно назвать тот, который давным?давно обнаружил Игнац Земмельвейс.
«Если бы каждый ухаживающий за больными, переходя от постели одного пациента к другому, неуклонно следил за гигиеной рук, – писал врач Дональд Голдман в 2006 г. в журнале New England Journal of Medicine, – мы могли бы наблюдать незамедлительное и весьма существенное снижение распространения резистентных бактерий». Исследования показали, что количество бактерий на руках медперсонала составляет от 40 тыс. до 5 млн. Разумеется, многие из них – обыкновенные человеческие бактерии?«резиденты», но есть и другие, «бродячие» микробы, приобретенные в результате контакта с пациентом и нередко вызывающие вспышки внутрибольничных инфекционных заболеваний. В отличие от бактерий?«резидентов», которые находятся в глубоких слоях кожи, недавно подхваченные микробы «несложно удалить с помощью обычного мытья рук».
Хотя CDC и другие группы пропагандируют идею мытья рук по меньшей мере с 1961 г., исследования показали, что сотрудники сферы здравоохранения соблюдают эти требования «небрежно», зачастую в пределах 40–50 %. Это весьма печально, учитывая, что, по данным CDC, использование дезинфицирующих средств на спиртовой и мыльной основе «гарантированно пресекает вспышки заболеваний в медицинских учреждениях, снижает передачу антимикробно?резистентных организмов и уменьшает общие показатели инфицирования». Почему же мытьем рук пренебрегают? Сотрудники клиник называют разные причины, в том числе сухость и раздражение кожи, вызванные частым мытьем, неудобное расположение или нехватку раковин, сильную занятость, нехватку персонала и большой наплыв пациентов, незнание правил, забывчивость.
Надо отдать Голдману должное: при обсуждении причин небрежности сотрудников системы здравоохранения он старается быть справедливым. «Отчасти в этом виновата система», – пишет он, указывая, что больницы не должны настолько нагружать сотрудников, что тем некогда даже подумать о гигиене. Он добавляет, что в больницах необходимо проводить обучающие курсы для персонала, обеспечивать удобный доступ к спиртовым антисептикам и следить за тем, чтобы дозаторы с ними были всегда наполнены и в рабочем состоянии. Однако он предупреждает: если персонал продолжает пренебрегать гигиеной после того, как больница со своей стороны сделала все возможное, чтобы этого не происходило, «виновных следует призвать к ответственности».
Когда Игнац Земмельвейс 160 лет назад изложил похожие соображения своим сотрудникам – ничего не зная о микробах и обладая только интуитивным пониманием их невидимого присутствия, – он помог спасти бесчисленное количество женщин от смерти в результате родильной горячки. И хотя медицинское сообщество «вознаградило» его усилия полным бойкотом на протяжении следующих 30 лет, открытие Земмельвейса в конечном итоге подтолкнуло медицину вперед, заставило сделать один из первых маленьких шажков по направлению к открытию и подтверждению микробной теории.
С этой теорией – неважно, насколько убедительной, подтвержденной и актуальной в вопросах здоровья, болезни, жизни и смерти – многие из нас пытаются разобраться и сегодня.
Глава 4
Как избавиться от невыносимой боли: открытие анестезии
В мире высоких медицинских технологий, где традиционные врачебные навыки один за другим уходят в прошлое, вытесненные цифровыми помощниками, сенсорами и гаджетами, немногие жалеют – или вообще помнят – об утраченном искусстве раскалывания ореха.
Это досадно. Ведь если вы обладаете сноровкой – умеете оценить толщину скорлупы и рассчитать силу так, чтобы аккуратно расколоть орех, – возможно, в темные века медицины вы могли бы стать анестезиологом. Древнее руководство гласит: наденьте на голову пациента деревянную миску и ударьте, чтобы он потерял сознание, «с достаточной силой, чтобы расколоть миндальный орех, но не повредить череп».
Или, возможно, у вас есть особый талант деликатного удушения. Этот метод анестезии сегодня совершенно забыт: врачи перекрывали пациентам доступ к кислороду, доводя их до обморока, но стараясь не убить. Так делали ассирийцы перед обрезанием детей – несомненно, без предварительного письменного согласия пациентов. И этот же метод использовали в Италии до конца XVII века.
Конечно, в истории были и другие, менее травмоопасные способы избавить пациента от боли под ножом хирурга: опиумные препараты, снотворные семена белены, мандрагора (корень, похожий на человеческую фигуру, согласно преданию издающий громкий вопль, когда его вытаскивают из земли) и, разумеется, самое популярное во все времена средство – алкоголь.
К несчастью, все ранние методы анестезии имели три существенных недостатка. Они или не действовали, или убивали пациента, а порой и то и другое сразу. Настоящая анестезия – надежный и безопасный способ добиться частичной или полной утраты пациентом чувствительности с потерей или без потери сознания – была официально «открыта» только в 1846 г. Страшно подумать, скольким людям до этого момента пришлось перенести мучительнейшие процедуры, от удаления зубов до ампутации конечностей, практически без обезболивания. До середины XIX века главным вопросом, который задавал пациент при выборе хирурга, был такой: насколько быстро он работает. Скорее всего, вы предпочли бы видеть у операционного стола такого профессионала, как Уильям Чеселден или Жан?Доминик Ларрей. Первый, английский хирург, мог удалить почечный камень за 54 секунды; второй, главный хирург наполеоновской армии, производил ампутацию за 15 секунд.
Увы, ни анестезия, ни скорость хирургов не помогли Фанни Берни, знаменитой писательнице XIX века, чьи произведения позже вдохновляли Джейн Остен. Воспоминания Берни о пережитой без обезболивания серьезной операции можно уверенно назвать одним из самых ужасающих документов в истории медицины. 30 сентября 1811 г. врачи произвели мастэктомию, удалив Берни пораженную раком правую грудь. Процедура длилась около 4 часов. Берни как?то удалось выжить, и через 9 месяцев она описала все пережитое в письме к сестре. Единственной «анестезией», которую она получила, был ликер, а также то, что она узнала об операции всего за 2 часа до ее начала. Но и это ей не слишком помогло. «Эти два часа были исполнены ужаса, – пишет она. – Они показались мне поистине бесконечными».
Нетрудно понять и ощутить ужас, охвативший Берни в тот момент, когда она вошла в одну из комнат своего дома, подготовленную для операции. «При виде огромного количества бинтов, компрессов и губок мне стало немного дурно. Я ходила из угла в угол, пытаясь справиться с волнением, пока наконец меня не охватили полное оцепенение и безучастность. В таком состоянии я пребывала до того момента, как часы пробили три».
Вряд ли Берни почувствовала себя более уверенно, когда в комнате внезапно появились «семь человек в черном» – врачи и их ассистенты.
«Я ощутила возмущение, и это ненадолго вывело меня из оцепенения. Почему их так много, и без моего разрешения? Но я не могла произнести ни слова… Меня охватила сильная дрожь. Хотя она была вызвана скорее отвращением, которое рождали во мне приготовления, чем страхом боли».
Вскоре Берни уложили на операционный «матрас» и дали ей еще одно, последнее подобие анестезии: накрыли лицо льняным платком, чтобы она не видела, как проходит операция. К несчастью, платок не справился со своей незамысловатой функцией.
«Платок был тонким, и сквозь него я прекрасно видела, как вокруг моей постели собрались семеро мужчин и сиделка. Увидев, как блестит начищенная сталь инструментов, я закрыла глаза… На несколько минут воцарилось молчание. Должно быть, врачи осматривали меня и жестами отдавали распоряжения помощникам. О, до чего ужасное ожидание!»
А продолжение было еще ужаснее. До этого Берни полагала, что ей удалят небольшой фрагмент пораженной ткани, но теперь услышала, как врачи говорят о необходимости полностью удалить правую грудь. «Я вскочила, сбросила с себя платок и закричала… Я объяснила, в чем причина моих страданий…»
Доктора внимательно выслушали ее, но ответили «полным молчанием». Платок вернули на место, и Берни прекратила сопротивляться. Операция началась. Берни поведала об этом сестре в подробностях.
«Когда ужасная сталь вонзилась в мою грудь, рассекая вены, артерии, плоть и нервы… я начала кричать, и кричала без остановки все время, пока делали надрез. Странно, что этот крик до сих пор не звучит у меня в ушах, такой невыносимой была боль… Когда инструмент вынули, боль не уменьшилась, поскольку поток воздуха внезапно устремился к этим нежным частям, как масса крохотных, острых и зазубренных кинжалов, рвавших края раны».
Позже, «когда инструмент вынули во второй раз, я посчитала, что операция закончена – но нет! Снова начали резать, и это было еще хуже, чем раньше… о небо! Я чувствовала, как нож касается грудной кости и царапает ее!»
Берни вспоминает, что за время операции дважды теряла сознание. Наконец, «когда все было окончено, меня подняли. Силы полностью меня оставили, я не могла шевельнуться, мои руки и ноги безжизненно повисли, а в лице, как сказала мне потом сиделка, не было ни кровинки». Она добавила: «Почти год я не могла говорить об этом ужасном дне, воспоминания слишком живо вставали передо мной. Даже сейчас, хотя прошло уже 9 месяцев, у меня разболелась голова».
Болезненно долгое ожидание: почему анестезия появилась только через 50 лет
Хорошая новость: после операции Берни прожила еще 29 лет. Плохая новость: она вполне могла избежать ужасов хирургии без обезболивания, потому что в 1800 г., за 11 лет до ее операции, английский ученый Гемфри Дэви в ходе эксперимента открыл примечательные свойства одного газа: «Оксид азота… способен снять физическую боль, – писал он, – поэтому его можно с успехом использовать при проведении хирургических операций».
Если Дэви отметил «болеутоляющие» свойства оксида азота уже в 1800 г. – а другие врачи вскоре выяснили, что схожими свойствами обладают эфир и хлороформ, – почему официальное «открытие» анестезии состоялось только через 50 лет? Спорам нет конца, но многие историки полагают, что сочетание религиозных, социальных, медицинских и технических факторов в первой половине XIX века создало условия, в которых люди не искали анестезии – или не были к ней готовы.
Один из ключей к разгадке лежит в самом слове «боль». Английское pain происходит от греческого poine, что значит «наказание», и подразумевает, что боль – определенное богом наказание за некое прегрешение, неважно, понимает человек, что совершил его, или нет. И тем, кто согласен с этим определением, попытки избавиться от боли казались глубоко безнравственными и вызывали сильнейший протест. Сила этого образа мыслей стала особенно ясна, когда в 1840?е развернулись дебаты о том, нравственно ли давать обезболивание женщинам при родах. Свою роль сыграл ряд социальных факторов – в том числе тех, для которых прекрасно подходит термин «бессмысленная бравада». Историки отмечают, что почти во всех цивилизациях способность стойко переносить боль считается признаком благородства, мужества и твердости духа. Наконец, в XIX веке некоторые врачи возражали против обезболивания, поскольку считали, что боль имеет важную физиологическую функцию и ее устранение помешает выздоровлению.
Однако, как убедительно доказывает письмо Фанни Берни, многие пациенты в XIX веке, завидев блеск приближающегося скальпеля, радостно приняли бы анестезию. И многие доктора не менее радостно дали бы ее, хотя бы из эгоистических соображений: ничто так не мешает мелкой моторике, как пациент, который кричит, корчится и сопротивляется. Это было понятно уже в III веке до н. э., когда взгляды на этот вопрос изложили в «Гиппократовом сборнике». Задача пациента, как отмечал автор в одном из трактатов о хирургии, состоит в том, чтобы «всеми силами способствовать врачу, проводящему операцию… и сохранять неподвижность той части тела, на которой она проводится». Ах да, и когда на вас надвигается хирург со скальпелем, автор велит «не избегать его, не отворачиваться, не отдергивать руку и ногу».
Конец ознакомительного фрагмента – скачать книгу легально
[1] Действительно нельзя, ведь имя Гиппократа (Hippokrates) переводится с греческого как «укротитель лошадей». Прим. ред.
[2] В 1525 г. сборник появился на латыни, в 1526 г. – на греческом языке. Прим. ред.
[3] Направление исследований, занимающееся изучением источников физического и душевного здоровья человека (от лат. salutis – «здоровье» и греч. genesis – «происхождение»). Прим. ред.
[4] Уайтхед самостоятельно пошел собирать информацию об умерших, еще раз систематизировал всю проделанную им и Сноу работу в 1854 г. и опубликовал статью, в которой четко связал вспышку в Сохо с загрязнением воды. Прим. ред.
[5] Бустерные дозы вакцины – дополнительные дозы, вводимые при повышенном риске инфицирования. Прим. ред.
[6] Серогруппа – группа микроорганизмов одного вида, имеющих схожую антигенную структуру. Прим. ред.
[7] Нейродегенеративные заболевания, для которых характерны прогрессирующее поражение головного мозга и летальный исход. Прион (англ. Infectiousprotein) – инфекционная частица, состоящая из белка и не несущая генетической информации. Прим. ред.
Библиотека электронных книг "Семь Книг" - admin@7books.ru