
Парижские истории (Дмитрий Якушкин)
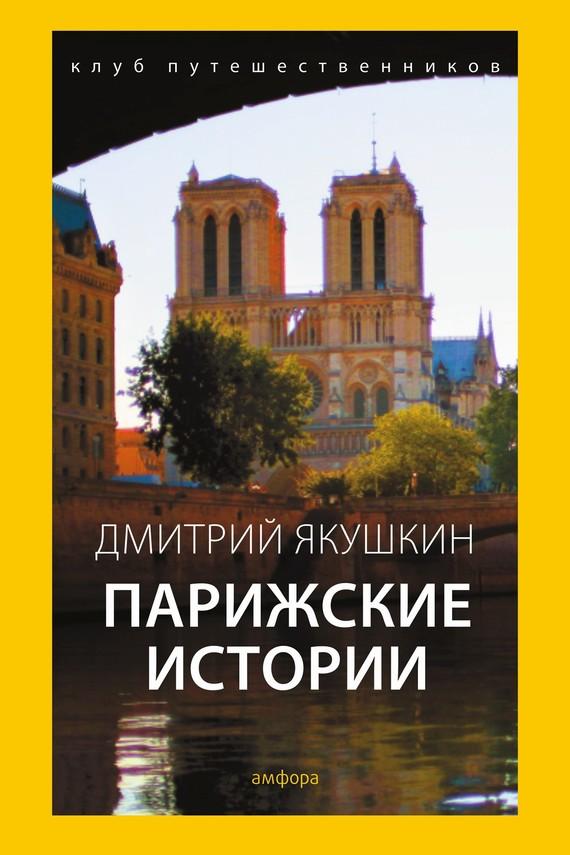
Дмитрий Якушкин
Парижские истории
Время путешествий
Руасси
Само звучание этого слова приятно для слуха. Небрежно произнесешь «у меня сегодня самолет из Руасси» – и кажется, что ты уже не в зрительном зале, а смотришь пьесу где?то из?за кулис. Наверное, человек, оказавшийся в Париже проездом, ненадолго, скажет иначе, вспомнит генерала де Голля например. У крупнейшего французского аэропорта два названия. Одно происходит от городка Руасси?ан?Франс, рядом с которым в середине шестидесятых годов, смяв сопротивление близлежащих муниципалитетов, сопровождавшее затем каждое новое расширение взлетных полос, решили заложить третий столичный аэропорт. Руасси должен был сменить соседний Ле Бурже и разгрузить находящийся на юге, романтичный Орли, получивший свою порцию славы благодаря фильмам шестидесятых – семидесятых. Второе название главного аэропорта, более строгое и чаще употребляемое, – «Шарль?де?Голль» – связано с именем первого президента Пятой республики. Каждая багажная бирка с аббревиатурой CDG теперь апеллирует к памяти о генерале.
Первый терминал аэропорта открылся в 1974 году и функционирует до сих пор, хотя и вытеснен на периферию событий, обслуживая неродственные «Эр Франс» авиакомпании. В нем спокойно, почти как в музее. Вся суета переместилась в необозримый терминал 2, который с каждым годом присваивает все новые и новые буквы алфавита (уже А и В казались верхом совершенства, сейчас освоили Е, но и это вроде не предел). Аэропорт разросся настолько, что с момента приземления и до окончательной остановки самолета нефранцузской компании иногда проходит минимум минут двадцать руления вдоль полей, испещренных кроличьими норами.
По сути все новые крупные аэропорты в мире, несмотря на незначительные особенности, восходят к одному проекту. Строят, как правило, просторный, высокий, желательно пропускающий максимум дневного света ангар, делят его внутри на секции для регистрации, надеясь справиться с возрастающими людскими потоками – в преддверии олимпийских игр, чемпионатов мира и всемирных выставок…
Высаживаясь в терминале 2, особенно в его отдаленных рукавах, совершенно не чувствуешь, что попал в Париж. Все процедуры после выхода из самолета воспринимаешь отстраненно и как неизбежный пролог к чему?то более яркому. Возможно, чтобы вдохнуть жизнь в новый комплекс, группа U2 на пике своей популярности записала в Руасси «It’s a beautiful day» – песню с подходящим сюжетом и соответствующим полету драйвом.
По сравнению со своим преемником первый терминал Руасси изначально демонстрировал больше характера, больше индивидуальности, которая пассажиром сразу же считывалась как французская. В старом Руасси эстетика соревновалась с функциональностью. Авангардное по замыслу и исполнению сооружение, напоминающее нечто вроде круглого пирога или стопку блинов из бетона, на удивление не грубого, а элегантного материала, – так раньше начинался для приезжих и Руасси, и Париж. Обнаженный бетон окружал пассажира повсюду внутри здания. Терминал выглядел футуристически, особенно в более спокойные вечерние часы, когда рейсов становилось меньше. Сюжет полуфантастического романа «Мадрапур» писателя Робера Мерля начинается именно в Руасси.
Могут ли аэропорты импонировать больше, чем города назначения? В Руасси хотелось приезжать просто так, не имея билета, независимо от того, встречал ли ты кого?то или провожал. В воздухе терминала 1 висело предчувствие полета и перемен, которое нас ободряет.
Нестандартное решение нашли даже для паркинга – три его уровня расположились не под землей, не где?то сбоку в отдельном здании, как это принято, а над этажами прилета и отлета. Вопреки логике, для оплаты за стоянку сначала надо было выехать на крышу, а уж затем съехать оттуда по опоясывающим терминал пандусам в город. Внутри самого здания оставили неширокое открытое пространство, куда проникал дневной свет. Через него перекинули несколько прозрачных рукавов для подъема и спуска пассажиров из одной зоны в другую. Два встречных потока людей с разным настроением плыли навстречу, всматриваясь в лица. Внизу, перед тем как ступить на ленту движущегося транспортера, махали рукой тем, кто оставался, – тогда в аэропортах еще принято было встречать и провожать. Сверху спускались только что прибывшие пассажиры, вырвавшиеся наконец на свободу после полета. В «космических» переходах Руасси иногда снимали большое кино, но уже не такое шестидесятническое, как в Орли. Пройдет еще немного времени – и полеты перестанут быть приключением.
В Руасси?1 самолеты подруливали к разнесенным по полю семи павильонам. Архитектором аэропорта, возможно, двигало наивное представление, что если главный терминал сделать круглым, а сателлиты вокруг него вынести по периметру, то площадок для стыковки самолетов хватит на многие годы. Московский рейс обычно пришвартовывался к сателлиту 3, который хорошо просматривался с автотрассы, поэтому встречавшие уже на подъезде к аэропорту могли понять, прибыл ли рейс из Москвы или запаздывает. В Лондон летал рейс № 242, в Нью?Йорк – № 315, а SU252 был порядковым номером единственного парижского рейса «Аэрофлота» в 1980?е. Он улетал из Шереметьево около десяти часов утра и прибывал в Париж еще до полудня. Символический выигрыш во времени настраивал на оптимистическое и одновременно обостренное восприятие окружающего мира, когда любая деталь казалась важной, а каждый час жизни наполненным содержанием.
С главным зданием сателлиты соединяли подземные туннели с движущимися дорожками. Между ними по дизайнерской моде семидесятых были расставлены крупные белые шары на стойках с рекламными заставками. Раздавался щелчок – и встроенная в них картинка менялась. Сигнал поступал из какого?то иного мира, и, проплывая мимо этих шаров, ты чувствовал, что с этого момента начинается настоящая заграница. Все это происходило под аккомпанемент ставших знаменитыми позывных композитора Бернара Пармеджани, специально сочиненных для объявлений о прилетах и отправлениях в Руасси. (Сейчас у анонсов тоже есть узнаваемый джингл, недавно я услышал его в Московском доме фотографии на Остоженке, просто теперь он совсем другой.) Музыкальная композиция Пармеджани звучит у Романа Полански в фильме «Неукротимый» («Frantic»), в котором перманентно взвинченный Харрисон Форд теряет свою жену сразу после приезда из Руасси в «Гранд?отеле» на рю Скриб, исторической гостинице рядом с Оперой. У Полански воссоздана атмосфера прилета в Париж ранним?ранним утром и поездки на такси по еще полупустой окружной дороге – периферик – с чернокожим водителем, напевающим мелодии своей далекой родины. Когда у машины лопается колесо, становится понятно, что все в дальнейшем сложится совсем не гладко, как это часто и происходит в картинах Полански.
Контекст полетов был раньше более человеческим. Мы могли увидеть весь экипаж. Во время стоянки в Париже пилоты выходили в транзитную зону и прогуливались по магазинам дьюти?фри. На аэрофлотовской стойке регистрации работали знакомые, осевшие с мужьями?французами русские сотрудницы. Да и купить билет в авиакассе на Фрунзенской набережной – уже одно это было событием. Сейчас самолеты российских компаний летают в Париж с утра до вечера и, в отличие от западных перевозчиков, прихватывают ночь; нумерация рейсов усложнилась настолько, что не возникает эмоциональной привязки к определенному номеру. Пустых кресел практически не бывает, люди все больше и больше путешествуют налегке, иногда совсем без вещей. Загрузиться сегодня в салон самолета – это как бы согласиться провести какое?то время в достаточно тесном автобусе ради перемещения в другую реальность.
Мишленовский гид
Считаю удачей найти на французских антикварных развалах в провинции пусть и не идеально сохранившийся, проржавевший и покореженный, зато настоящий, отслуживший свое металлический рекламный щит – некогда опознавательный знак почти всех автомастерских на дорогах Франции. Не из восьмидесятых или девяностых, и тем более не заново сделанный (как, я подозреваю, происходит с пепельницами «Cinzano», популярным артефактом на всех блошиных рынках страны), а образца первых послевоенных или даже довоенных лет. С легкой поправкой на стиль десятилетия на вас неизменно смотрит веселый, довольный, полный жизни, упитанный персонаж – Бибендум, – мишленовский логотип и талисман. Он радостно указывает вам дорогу, и хочется верить, что это именно дорога на юг (та, что ведет из Парижа в Прованс через Лион, так и называется – «автострада солнца»), к лету, к отпуску, к мистралю, виноградникам и лаванде. Наряду с «Ситроеном ДС», с папиросами «Gitanes», Бибендум сохранил себе место среди не подверженных времени французских символов. Откуда вообще такое непреходящее жизнелюбие?
Если за рубежом вы видите туриста, который держит в руках удлиненного формата путеводитель зеленого цвета, то, скорее всего, это будет француз. В мире издается множество серийных путеводителей, но какой из них назовешь национальным брендом? Слово «мишлен» можно писать без кавычек и с маленькой буквы. Герой романа Уэльбека «Карта и территория» заворожен мишленовскими картами и создает из них произведения искусства. На заре ХХ века, дитя раннего французского капитализма, компания «Мишлен» придумала выпускать бесплатные гиды для популяризации автомобильного туризма и продвижения своих покрышек. Начинался период романтической автомобилизации. Задуманные как рекламное пособие путеводители превратились с годами в самостоятельный проект.
Основных гидов два – красный и зеленый. Освоив на первом этапе жизни Францию, красный составляет теперь рейтинг ресторанов и в других странах и столицах, отдавая предпочтение в последние годы Токио. Тиражи гида в Японии указывают на то, что маленькую красную книжку, по всей видимости, относят там к вечным французским ценностям.
Я знаю фанатов мишленовской системы, которые, вооружившись справочником, квадрат за квадратом, как при игре в морской бой, обходят «звездочные» рестораны, не размениваясь на рекомендации простых смертных или менее строгих и структурированных гидов новой формации (вроде справочника «Загат», который лично я ценю за неожиданные и неформальные характеристики ресторана, как, например, настроение и манеры официантов). Схема выставления оценок у «Мишлена» сопоставима по секретности с формулой кока?колы. Оценивается презентация блюд и качество используемых ингредиентов, уровень обслуживания и общая атмосфера.
На тему того, как присваиваются звездочки или «снежинки» (максимальное число – 3), какое количество инспекторов задействует компания, что это за люди в «обычной» жизни и как часто посещают они рестораны, существуют разные версии, которые по?своему укрепляют авторитет красного гида. Проверяющие дают обет молчания, и нарушение корпоративной тайны карается изгнанием из необычного профессионального клуба. Так случилось с одним из инспекторов – Паскалем Реми, опубликовавшим в 2004 году свои собранные за 16 лет работы заметки на салфетках. Писательство бывает несовместимо с некоторыми видами деятельности.
Известно, что важно не столько быть замеченным мишленовским инспектором и заполучить хотя бы одну звезду, сколько сохранить ее в дальнейшем. Настоящая жизнь ресторана начинается после завоевания признания. Многие рестораторы работают на грани нервного срыва, опасаясь оказаться не на уровне при повторном визите проверяющих. Политика «Мишлен» заключается в том, чтобы периодически возвращаться в рецензируемые места, хотя злые языки и задаются вопросом, в какой мере это практически осуществимо и не формальны ли применяемые критерии, а потому не устарела ли вообще вся система оценок.
Однако дискуссия относительно ресторанной еды во Франции сегодня лежит не в обсуждении мишленовской достоверности, а в другой плоскости: насколько аутентично меню в заведениях даже с приличной репутацией. Психологически убедительны кадры, снятые телерепортерами на задворках ресторанов, где в мусорных баках свалены металлические банки из?под уток конфи. В гипермаркетах, рассчитанных на профессиональных рестораторов, предлагают купить не только полуфабрикат, но и готовое блюдо. Далее остается на кухне ресторана довести его до «авторского», «домашнего» вида и продавать с такой наценкой, перед которой трудно устоять хозяину заведения, если он хочет справиться с наплывом поклонников франко?парижской кухни, сэкономить на персонале, не разориться из?за арендной платы и заплатить налоги. Кстати, четверть века назад похожая дискуссия касалась другого национального достояния – хлеба. Обсуждали, должна ли его выпечка оставаться ручной. В 2014 году приняли закон, обязывающий рестораны ставить отметку «приготовлено на месте» против тех блюд в меню, которые не завезены на кухню извне. Это, естественно, не нравится тем, кто прибегает к услугам супермаркетов. Один из признаков полуфабрикатных меню – в них подозрительно много позиций. Понятно, чем среди прочего вызвана мода на открытые кухни.
Но вернемся к «Мишлен». По сравнению с красным кулинарным гидом народное и более массовое издание – гид зеленый. Когда?то Александр Игнатов, мой предшественник в парижском корпункте, оставил мне «по наследству» серию мишленовских гидов 1970?х годов. Теперь они могут стать предметом культурологического анализа. Когда их издавали, туризм еще не принял окончательно характер эпидемии. В тех гидах гораздо больше текста, отсутствуют цветные фотографии, рассказ построен вокруг рисунков, не указаны адреса ресторанов или отелей, что несколько противоречит жанру классического путеводителя. Воображению отдается больше простора, чем сейчас.
Если аскетизм прежней верстки и ушел в прошлое, то неизменным остался классический мишленовский принцип ранжирования достопримечательностей. Не всем покажется приемлемым распределение долин и замков, мостов и храмов по значимости и обязательности. Однако в этом нет насилия над личным вкусом и свободой выбора. «Мишлен» выставляет три разных вида оценок городам и деревням, музеям и отдельным улицам, национальным паркам, развалинам и пейзажам. Самая высокая, трехзвездочная рекомендация состоит в том, что визит «оправдает всю вашу поездку». Две звезды указывают на то, что ради этого места или памятника «стоит отклониться от вашего маршрута». Третий по счету и самый нейтральный совет заключается в том, что достопримечательность «представляет собой интерес». «Звездочный» метод упорядочивает разнообразную информацию, которая накопилась в голове и дает проверенные ориентиры. На такой основе уже можно самому импровизировать сколько угодно.
«Мишлен» давно пересек французские границы, хотя до сих пор у него нет путеводителя по России. В нашем зыбком мире его прелесть в том, что это сугубо французский продукт. Раз уж вы во Франции, то лучше потреблять местное.
Парижская квартира
В Москве мы не слишком избалованы неиспорченными городскими перспективами, поэтому такое сильное впечатление производит вид из парижского окна на серебристо?серые крыши. Внизу – колодец, из нижних окон долетают громкие разговоры и звук посуды. И конечно же, хоть это не связано с уровнем жилья, физическое ощущение абсолютно свежего воздуха (даже на самой узкой улице в центре), в меру влажного, напоминающего о том, что в 200 километрах отсюда на запад почти открытая Атлантика.
Вернемся к подъезду. Если на минуту закрыть глаза и представить типичный образ парижской квартиры, то какой она предстанет?
Скорее всего, сначала будет улица с османовскими домами, которые сливаются, если не всматриваться в детали фасадов, в один сплошной и единообразный ряд, хотя на самом деле каждый из них имеет свой неповторимый облик, с высеченными на фасаде фамилиями архитекторов и датой постройки. Заданные бароном Османом правила строительства, касающиеся высоты, соответствия уровня этажей, доминируют в облике города. Дух Османа живуч. Кажется, что построенное и до него, и существенно позднее, вплоть до муниципальных домов 1930?х, сделано по одним и тем же канонам.
Массивная первая дверь ведет в парадную, за ней – дверь полегче, и второй домофон. Раньше в некоторых домах днем коды отключали и войти мог любой – во всяком случае, во двор, – нажав нижнюю кнопку. Для входа вечером и ночью код надо было записывать, и когда не было мобильных телефонов, утрата заветных цифр и букв создавала проблемы.
Далее проходим минуя квартиру консьержки. Из ее каморки с полупрозрачной занавеской доносится характерный запах незнакомого арабского блюда, мелькают изображения на телеэкране. Редко когда из?за занавески кто?нибудь выглядывает, но все равно создается ощущение, что гости в доме под присмотром. Как утверждал Сименон, консьержки – это лучшие друзья полицейских, и, наверное, это актуально и по сей день, хотя во многих домах они теперь исчезают как класс, что некоторые считают очередным ударом по парижскому стилю жизни.
Дальше может оказаться переход через двор – в домах постарше османовских бывают внутренние, квадратной формы дворы с несколькими парадными по периметру, обозначенные как A, B, C и D.
Затем такой выбор: либо крутая лестница с натертым и сильно пахнущим мастикой полом, со ступеньками, потерявшими равновесие на поворотах, либо лифт, кабина которого по?кулибински втиснута в неприспособленное для него пространство. Войдут от силы двое, а если есть чемодан с шереметьевской биркой – не верится, что ее прикрепили только утром, – то его приходится ставить вертикально. «В старых домах не было ничего красивее лестниц, – заметил Жорж Перек. – В современных зданиях нет ничего более уродливого, холодного, враждебного, мелочного»[1].
Двери квартир без номеров. Приглашая в гости, хозяин указывает – правая или левая сторона после лифта. Похожие замки на трех точках. Глазки встречаются не часто, и вообще здесь открывают, не спрашивая, хотя и в Париже залезают и воруют.
Внутри квартиры полы обычно старые и половицы скрипучие. Чего уж точно не увидишь, так это блестящего лака. По?прежнему востребованы бордовые текинские потрепанные ковры. Уличную обувь не снимают никогда.
Первое впечатление от квартиры – много кремового, белого цвета. И в целом отсутствие ярких, вызывающих тонов. Если это не мансарда, предназначавшаяся когда?то для слуг, то потолки высокие и, конечно же, есть лепнина.
Днем – свет из окон; а типичные османовские окна – от пола до потолка, без подоконника, разделенные на секции. Вечером – галогенные торшеры, верхнего освещения, как правило, нет. Сами витражи – в одно стекло, ручки на окнах бронзовые, и такая характерная деталь: даже если они заменены, отреставрированы, все равно ощущение, будто они здесь со времен первого хозяина.
Присутствует камин, но чаще всего он давно лишь украшение, над камином – зеркало с патиной. Не хватает только персонажа Мопассана, облокотившегося о каминную полку.
Это то, что приобретается с помощью маклера. Остальное – плод творчества самих хозяев, хотя и оно следует некоторым устойчивым правилам.
Новых (в смысле – только что приобретенных) предметов в интерьере почти нет, или они на втором плане. Это не означает, что люди живут в окружении антиквариата. Критерий, пожалуй, таков: все вещи не заметны сами по себе, а органично вписываются в общую концепцию. Все должно дышать. Главное здесь – талант соединять разномастные предметы. Поэтому несколько кресел могут быть не одинаковых форм и цветов. Есть деревенские комоды и сундуки – вот уж действительно ни грана потерь в смысле семейного исторического наследия, но может всплыть и мебель из «ИКЕА». Ключевое слово – эклектика: в комнатах все живет, все со смыслом, все с предысторией, нигде не чувствуется рука приглашенного дизайнера. Само это слово для Парижа инородно. Все придумывается, как правило, хозяином или хозяйкой, которые в лучшем случае прибегают к совету друзей, родственников, но основываются на доверии к собственному вкусу, выбору, ощущению. Зачем нужен кто?то чужой, когда идеи разлиты в атмосфере города?
Почти обязательно есть книги. Не то чтобы старинные, а типично французские – в мягких бледно?желтых переплетах, поставленные в достаточно простые, без стекол книжные шкафы.
Много подушек и много цветов – и живых, и высушенных.
Особая жизнь разворачивается на кухнях, которые даже в самых шикарных квартирах выглядят по?рабочему непритязательно. То же самое можно сказать и о ванных, где облупившаяся штукатурка не редкость, и сохранились газовые колонки, и где замечаешь обилие флаконов и склянок, и нет ни следа магазинного лоска. Над унитазом вешают старую театральную афишу, и по ней ты изучаешь, кто и в каком году был занят в знаменитом или не очень спектакле.
Из всего этого вывод такой: в парижской квартире ощутимо уважение к пространству, стремление к прямым формам, к приглушенным цветам, к простоте линий и борьбе с излишествами. Если и уцелело золото в интерьере, то оно будет обязательно блеклым, никто его надраивать не собирается. Иначе не принято. В общем, чаще всего парижская квартира – это соединение буржуазного, студенческого и богемного начала. Ни мода, ни время, ни политика пока не в силах размыть этот стандарт.
Самое начало бульвара
Из всех эмоционально заряженных точек в Париже я бы выбрал пересечение бульвара Сен?Жермен и рю дю Бак. Отсюда же берет начало бульвар Распай. Удивительно, как расположенные даже на близком расстоянии отрезки одной и той же улицы могут не совпадать по настроению. Если стоять лицом к реке, то левая часть Сен?Жермена, которая ведет к зданию Национальной ассамблеи, безусловно, тоже симпатична, но из?за министерских зданий и присутственных мест официальна, несколько суховата и, как правило, безлюдна, независимо от дня недели и времени суток. Там расположена одна из самых спокойных в городе станций метро – «Сольферино». Она оживляется, когда из вагонов поезда высыпают туристы, спешащие встать в хвост очереди в музей Орсе.
Борис Виан, объясняя разницу между атмосферой 6?го округа в целом и его прославленного анклава Сен?Жермен?де?Пре, пишет, что она совсем незначительна, но именно неуловимость и делает их разными. (Все подробности квартала Виан описал в своем «Учебнике по Сен?Жермен?де?Пре».) Метров через двести после пересечения с рю дю Бак бульвар Сен?Жермен совершает нерезкий поворот, так что его более оживленное продолжение, которое тянется к церкви Сен?Жермен?де?Пре, к Одеону и далее к Сен?Мишелю, с выбранного мной перекрестка не просматривается. Не знаю, может быть, из?за больших деревьев так привлекательно это место?
Всегда удивляешься, что листва появляется в Париже уже в марте. Ветки платанов смыкаются над проезжей частью такой пышной кроной, что весной и летом фасады домов почти полностью скрыты от глаз; осенью к асфальту прилипают скользкие листья, но и непродолжительной парижской зимой тоже неплохо. Сен?Жермен на этом участке спокойный, несуетливый, и тротуары пошире, и магазинов не так много, а в тех, что есть, почему?то не видно покупателей. В сотне метров от нас – рю Сен?Пьер, некогда центр мира парижских издательств – до того момента, когда некоторые из них стали переезжать в кварталы подешевле. Сотни раз проходил по Сен?Жермену в этом месте. Иду ли в кино, или в ресторан «Флор» на встречу, или до Бюси на рынок – выбираю этот путь, хотя расстояние можно было бы сократить, пройдя по маленьким боковым улицам.
Если перечислять все связанное с этим перекрестком и прилегающими к нему улочками, с районом вокруг рю де Гренель, то обнаружишь, что почти вся жизнь в Париже протекала именно здесь. Впечатления тридцатилетней давности смешиваются с тем, что было двадцать, затем десять лет назад, есть и совсем недавние.
На углу Сен?Жермена и дю Бак работало кафе «Эскориал», где я обедал на первые парижские суточные. Теперь здесь продают вызывающе холодную современную мебель, представленную, в частности, прозрачными стульями. Освоение метро начиналось тоже в этом месте – со станции «Рю дю Бак» 12?й линии. Я еще застал то время, когда билеты были желтого цвета, а вагоны разделялись на первый и второй классы – милый кивок в сторону Европы, какой мы ее представляем себе до Второй мировой войны, но очевидный анахронизм в часы пик в наши дни. Даже еще осталось смутное опасение наткнуться на контролера, если нечаянно перепутаешь вагоны.
У входа в метро до сих пор стоит все тот же киоск с прессой (разве что газетный павильон стал постильнее и побогаче, Париж вообще бережет свои киоски и устраивает торжества по случаю юбилеев их появления), в котором я, оглушенный непривычным изобилием, покупал сразу несколько газет. Печатное слово обладало большой силой, каждое издание имело свое лицо и почти партийную позицию, а газетный язык с непривычки удивлял множеством незнакомых реалий. Нынешние газеты слабее прежних – от них уже не ждешь открытий; обязательных для чтения изданий нет, ориентируешься на анонсы и тематические приложения, но воспроизвести жест из собственного прошлого – подойти к киоску, выбрать что?нибудь, чтобы прочесть в метро, – почему бы и нет?
Или вот за углом автошкола, где я брал уроки вождения – не для того, чтобы научиться водить с нуля, а чтобы приспособиться к специфическим условиям Парижа. Ожидал, что самым трудным будет вписаться в автомобильный круговорот на площади Этуаль и затем перестроиться в потоке, никого не задев, особенно когда на авеню, выходящих к площади, включали мигающий желтый. Оказалось, что от езды вокруг арки можно получать удовольствие. Освоив машину, приезжал на бульвар Распай на бензоколонку «Шелл» – одну из немногих работавших круглосуточно в самом центре.
Шел в гости – покупал цветы рядом со стоянкой такси в одном из первых магазинов открывшейся новой сети «Имя розы». Напротив такси и цветов – хоть и пятизвездочная, но затерявшаяся в тени крупных гостиниц правого берега «Пон Руаяль» – «литературный» отель, известный благодаря своей близости к издательскому кварталу и, в частности, к штаб?квартире «Галлимар», где для развлечения литераторов руководство поставило столы для игры в пинг?понг. «Пон Руаяль» с совсем неписательскими ценами за номера тем не менее поддерживает имидж квартала: в гостиничных коридорах, как в московском Доме литераторов, висят черно?белые фотографии классиков, и, выйдя из лифта, можно отгадывать, кто есть кто. Вот и Эренбург предпочитал останавливаться здесь – о его парижских привычках рассказывали мне люди, общавшиеся с ним лично.
Сейчас на первом этаже отеля расположен ресторан Жоэля Робюшона, где заказ столика принимают лишь в определенные часы, а в остальное время все посетители ждут в общей очереди; попадая, сидят на высоких стульях, словно за барной стойкой. И я тоже пробовал и запомнил там авторское блюдо – картофельное пюре Робюшона; оно определенно вкусное, хотя кто?то заметит, что секрет его в том, чтобы не жалеть сливок и масла.
С противоположной стороны перекрестка виднеется еще один ресторан – «Лао Це», как будто залетевший сюда случайно из 13?го округа осколок парижско?китайской империи еды. Он, может, и без изысков, зато и кухня достойная, и хозяин гостеприимный, хотя невозмутимый и по?азиатски сдержанный, привыкший видеть в двух своих очень тесных залах «знакомые» лица – уж такой это политизированный квартал. И сколько же лет проверяется его радушие? По крайней мере, лет двадцать.
Дверь в дверь к «Лао Це» – магазин старых плакатов, где была куплена карта Восточной Сибири 1811 года выпуска, и она сейчас не на полу среди тех подаренных картин, с которыми не знаешь, что делать, а висит в рабочем кабинете.
Наискосок от плакатов и эстампов – нетипичный для Парижа по стилю, больше подходящий для провинции отель «Дюк де Сен?Симон», из категории маленьких очаровательных гостиниц. В 1980?е только проезжал мимо него, в нулевые – останавливался.
Вспоминаю обостренное внимание ко многим внешним деталям, тем более к таким, которые казались необычными. В старых записях, сделанных на рю дю Бак в 1984 году, я читаю про тряпки на мостовой, набитые песком, чтобы регулировать струи воды, которыми дворники смывают остатки мусора; о раздвижных лестницах, наподобие пожарных, по которым поднимают мебель через окна в квартиры, иначе не пронести по узким пролетам; об автобусе № 69, еще старого образца, который лишь со второго захода, особенно когда кто?то припаркует свою машину близко к углу перекрестка, вписывается в поворот с дю Бак на Гренель. Остановившись сейчас на этом же углу, можно наблюдать, как водитель, представляющий уже другое поколение, по?прежнему вынужден демонстрировать хладнокровие и мастерство, чтобы повторить тот же впечатливший меня маневр. Тряпок стало меньше, лестницы продолжают использовать, 69?й маршрут не упразднен, но стал бы я коллекционировать эти впечатления, если попал бы сюда впервые сейчас?
Емкое понятие «Гренель». По парижским меркам довольно протяженная улица. От бульвара Распай она тянется до Марсова поля. На полпути неожиданно вырывается на прекрасные негородские просторы площади Инвалидов, где по субботам и воскресеньям играют на лужайках в футбол; по левую сторону от вас остается Музей Родена, а справа – павильон авиакомпании «Эр Франс», откуда до сих пор ходят автобусы в Орли. У писателя Жоржа Перека, собирателя не замечаемых всем остальным миром деталей, есть почти стихи: «Сесть в автобус в направлении Орли на площади Инвалидов и в это время думать, как тот человек, которого вы должны встретить в аэропорту, вылетев из Гренобля, пересекает разные французские департаменты…» (Кто сегодня отправится в аэропорт встречать внутренний рейс?) Здесь же на Инвалидах, не доходя до авиационного павильона, перед польским консульством, в восьмидесятые стоял огромный крест. Его водрузили над символической могилой, возникшей после разгрома профсоюза «Солидарность». Сейчас даже в Интернете не найти следов этой политической инсталляции, символа заключительной фазы первой холодной войны.
Вокруг Гренель – в основном министерско?посольский квартал. Во французском политическом лексиконе закрепилось понятие «соглашения Гренель», они были подписаны между правительством и профсоюзами в расположенном здесь Министерстве труда как результат неспокойного мая шестьдесят восьмого и с тех пор могут обозначать любое принципиальное мировое соглашение. Рядом «Ке д’Орсе» – французский МИД, а также административные здания, где работают депутаты. Когда приоткрываются ворота и, шурша покрышками по гальке, въезжают министерские или дипломатические машины, можно увидеть, какие элегантные внутренние дворы расположены на рю де Гренель и параллельной ей, похожей по стилю рю де Варенн, где находится резиденция премьер?министра. Бывшие конюшни превращены в гаражи. И еще роскошные парки. На картах Google видно, что внутри кварталов, примыкая к особнякам, спрятаны огромные зеленые пространства, какие не ожидаешь обнаружить в центре большого города.
В ряду резиденций – царское, советское, российское посольство, находящееся в удачно купленном 150 лет назад царем Александром II особняке ХVIII века. Гренель часто упоминается в мемуарах русских эмигрантов. Принять приглашение на прием, на любую встречу в здании на Гренель рассматривалось частью русской диаспоры как переход во враждебный стан. Как эхо этих опасений названия «Гренель» и «рю дю Бак» встречаются и в книгах руководителей НКВД, отвечавших за иностранное направление. Они останавливались в маленьких гостиницах вокруг посольства.
Можно фантазировать на тему разговоров, которые велись в стенах резиденции; персонажей, переступавших ее порог в разное время и с разными целями. Я застал время, когда в предбаннике посольства сидели пограничники в форме, перед зданием дежурили полицейские и было запрещено оставлять машины вблизи ворот. Потом нравы смягчились, и наши здания за рубежом перестали казаться некими бастионами на недружественной территории. А во время перестройки особняк на Гренель даже стали открывать для посещения обычными гражданами в рамках проводимых по всему Парижу дней национального наследия.
Своей историей, архитектурой, предметами интерьера, парком особняк на Гренель как бы олицетворяет те особые или, как еще их принято называть, привилегированные отношения между Россией и Францией. Франковеды могут спорить по поводу того, насколько эта особенность приносила какую?то практическую пользу, но объединявший нас вектор на двустороннюю разрядку (от французского d€etente) безусловно присутствовал. Он заложен был сразу после войны. Мы поддержали вхождение Франции в постоянные члены Совета Безопасности OOН и вообще с вниманием относились к запросам и интересам де Голля.
По речам генерала студентам в лингафонном кабинете ставили французское произношение. Де Голль подарил нам фразу о «Европе от Атлантики до Урала», которую стали использовать в дипломатии как формулу. Соответственно и наши послы в Париже во все послевоенные годы подбирались с тем расчетом, чтобы соответствовать особому характеру двусторонних отношений.
Блестящий историк?франковед Юрий Рубинский, чьи лекции составляли силу Института международных отношений и который бок о бок работал со многими из этих дипломатов, вспоминает, как посол Юлий Воронцов однажды отреагировал на колкость Миттерана. На одном из приемов президент подошел к Воронцову и заметил как бы в шутку: «Я знаю, господин посол, в Москве меня не любят». Разговор происходил в начале 1980?х, сразу после нашумевшей высылки 47 советских дипломатов. Посол ответил в том же тоне и без заминки: «Любовь, господин президент, должна быть взаимной». За многолетнюю дипломатическую карьеру Воронцов занимался проблемами таких непохожих стран, как США, Индия или Афганистан. Его бросали на те участки, которые требовали особого внимания, представлялись наиболее важными. Перемещение из одной точки мира в другую должно было бы приучить его к ощущению временности пребывания в стране и, следовательно, не очень глубокому погружению в ее реалии, прошлое и настоящее. Но к Воронцову это не относилось. Он всегда досконально вникал в новую для него тематику – историю и политическую действительность. Так произошло и при назначении во Францию.
Я готовился к командировке от молодежной газеты по случаю юбилея освобождения Парижа и хорошо помню, как Воронцов рассказывал об истории Сопротивления, особенностях «странной войны» 1940 года, о роли компартии. Перефразируя выражение из какого?нибудь старого романа – «это был не встречающийся ныне тип русского военного», о Воронцове можно было бы написать, что это был редкий для нашего времени пример российского чиновника, для которого отстаивание интересов страны было делом не формальным.
Давно заметил: стоит чуть погрузиться в какую?нибудь тему, она возвращается к тебе бумерангом – через статью в газете, услышанную во время застолья историю, книгу, раскрытую случайно в магазине… Ким Филби, рассказывая Генриху Боровику о своей жизни разведчика, особенно был поражен одним эпизодом. В годы Гражданской войны в Испании он работал под прикрытием корреспондента лондонской «Таймс» и свои донесения отсылал на выданный ему парижский адрес некоей мадемуазель Дюпон – согласно легенде, его возлюбленной. В письмах была «официальная» часть и неформальная, причем отрабатывать «любовную» версию ему изрядно надоело, приходилось постоянно поднимать градус настроения и выдумывать новые повороты в несуществующем романе. Оказавшись в Париже после войны, Филби решил прогуляться и посмотреть, что же все?таки располагалось на месте дома его фиктивной приятельницы и связного. По его словам, он был готов увидеть все что угодно – подвал, цветочную лавку, булочную, адвокатскую контору, тюрьму, бомбоубежище, но по адресу Гренель, 79, обнаружил… советское посольство. Вот так реальность почти всегда оказывается проще, чем нам кажется. Если бы такой поворот сюжета заложили в киносценарий, то решили бы, что это выдумка сценариста.
Франсуа Миттеран
Тот текст вышел не слишком запоминающийся – из разряда приветствий участникам какого?нибудь слета или съезда («разрешите сердечно поздравить…»), который сам автор, скорее всего, и в глаза не видел. Он был ценен тем, что под ним стояла подпись первого лица – Франсуа Миттерана, президента республики, а такое раньше в печати ценилось. Так уж удачно сложились обстоятельства: я столкнулся буквально лоб в лоб с президентом на выходе из Елисейского дворца после какой?то большой пресс?конференции и воспользовался случаем, чтобы попросить его об интервью в связи с выходом в Париже первого номера самой известной тогда за рубежом советской газеты – «Московские новости». И уже совсем неважно, что из этого получилось в итоге, главное, что в ходе разговора мне представилась возможность почувствовать миттерановскую стилистику.
Он любил ореол таинственности, часто высказывался двусмысленно, сохраняя интригу, заставляя всех потом ломать голову, что же именно он имел в виду. Так, долго водил всех за нос относительно своего решения, идти ли ему или не идти на второй президентский срок. Его называли «флорентийцем» – за страсть и талант к закулисной игре, тонкому выстраиванию отношений с ближним кругом, который при нем по существу напоминал королевский двор, с элитой, с журналистами. У Миттерана были фавориты и особенно фаворитки, которые переживали из?за смены президентских преференций охлаждение к себе, сближение с другими. Под конец второго срока один из самых близких советников, посвященный в личные секреты президента, покончил жизнь самоубийством прямо в кабинете в Елисейском дворце, находясь в тяжелом душевном состоянии из?за своего отлучения.
Жак Аттали, тоже советник Миттерана из первого призыва его консультантов, вспоминает: «Он всегда оставался величественным, председательствуя на совете министров и совете по обороне. Миттеран никого, за исключением двух сотрудников, не называл на „ты“. В отличие от Олланда он никогда бы не пересек двор Елисейского дворца в одиночестве (без охраны)». При этом окружение Миттерана состояло совсем не из заурядных персон, а наоборот – из людей самостоятельных, со своими идеями и программой. В его орбите в разные годы находились такие яркие политики, как бывший премьер Мишель Рокар, министр культуры Жак Ланг, министр юстиции Робер Бадентер. Они не растворялись в тени президента.
Наше, даже короткое, общение походило на аудиенцию у короля в окружении почтительной свиты, обступившей нас и терпеливо наблюдавшей за затянувшимся диалогом их патрона с вынырнувшим из толпы неизвестным им простолюдином. Миттеран совсем не торопился, так что я успел ему объяснить что и зачем. Говорил он доброжелательно, чуть покровительственно, при этом уважительно. Вполне можно было бы и дальше продолжать приятно беседовать, но мне мешало чувство служебного долга. Четко помню, что в этом разговоре с Франсуа Миттераном я дважды попросил его указать мне того помощника, с кем придется согласовывать в дальнейшем все рабочие моменты и чтобы тот всенепременно услышал: президент лично пообещал встречу. Эти настойчивые просьбы вызвали у всех, в том числе и у самого президента, смех, но мне было не до того.
Вторая «встреча» с Миттераном состоялась уже после его смерти. В конце девяностых в Москву приезжал известный французский рекламщик, а по современным российским понятиям политтехнолог Жак Сегела, чтобы прозондировать почву относительно намечавшейся кампании по выбору российского президента. Сегела участвовал в двух президентских кампаниях Миттерана, именно он придумал для второго срока предвыборный объединительный лозунг «Спокойная сила», оказавшийся успешным.
В популярном одно время месте встреч, венском кафе на первом этаже гостиницы «Балчуг», Сегела убеждал меня, что на выборах побеждает только тот, кто к этому действительно серьезно стремится, человек со сверхсильными президентскими амбициями. Его французского клиента действительно отличало незаурядное упорство. Так, поздним вечером в октябре 1959 года, выйдя из знаменитого ресторана «Липп», где за ним в течение многих лет был закреплен один и тот же столик, Миттеран отправился домой, но на авеню Обсерватуар его «пежо» обстреляли неизвестные. Эта история, будто украденная из политического кино, так и получила название – «дело Обсерватуар». Вскоре появилось немало данных, указывающих на то, что операция инсценирована самим Миттераном с помощью друзей. Как бы то ни было, несмотря на всю театральность эпизода, «неудавшееся» покушение вывело Миттерана из политического небытия, где он оказался после прихода к власти де Голля. Затем он сделает три попытки завоевать президентское кресло. Первые две окажутся неудачными, но он не отчаялся и все?таки победил с третьего захода, причем на тот момент ему исполнилось 64 года.
Когда Миттеран выиграл президентские выборы в 1981 году, в Париже люди вышли на улицы и ликовали так, как сейчас это бывает по случаю крупных футбольных побед. Он реализовал ряд важных реформ, «развязав корсет», как тогда говорили, французскому обществу, жаждавшему перемен. Провел децентрализацию местной власти, отменил смертную казнь, ввел пенсионный возраст с 60 лет, 39?часовую рабочую неделю, запустил реформу радио и телевидения, что привело к появлению десятка частных FM?радиостанций, без которых сегодня немыслим французский медийный пейзаж.
Во власти Миттеран пробыл два срока – четырнадцать лет. Наивысший подъем был в самом начале мандата, но к концу Франция от него подустала. И его коснулась обычная смена настроений общества по отношению к правителю. Прозорливый, начитанный и любивший историю, по идее он должен был предвидеть, что случается, когда человек засиживается на высоком посту.
Лично мне Миттеран в пожилом возрасте казался мудрее и основательнее, чем когда он был министром и совсем не выделялся на фоне других функционеров. Однажды, отвечая на вопрос об отсутствии привлекательных лидеров на левом фланге, Миттеран пояснил, что «харизма приходит с должностью». А вот в глазах общества его возраст стал олицетворять уже не государственную мудрость, а инертность. Все знали, что Миттеран болен, но состояние его здоровья по неформальной договоренности было своего рода табу у французской прессы. Так же, как и его личная жизнь. До самого последнего момента Миттеран сумел сохранить в тайне, что у него параллельно с первой существовала полноценная вторая семья и росла незаконнорожденная дочь Мазарин – имя, выбранное в высоком миттерановском стиле. Когда Миттеран умер, то ее мать – хранительница музея Орсе – стояла у гроба бывшего президента рядом с его законной супругой. Говорят, что личная жизнь политика во Франции, в отличие от англосаксонских стран, вне поля общественного зрения, – пример Миттерана иллюстрирует это положение как нельзя более точно.
Из маргинальной политической группировки, набиравшей на выборах около 5 % голосов, Миттеран превратил социалистическую партию страны в реальную силу, конкурирующую – и успешно – с другими политическими движениями за мандаты разных уровней. В том, что на выборах в мае 2012 года победил выходец из левого лагеря Франсуа Олланд, есть заслуга Миттерана.
Миттеран запомнится тем, что подорвал позиции компартии, которая в момент его победы на выборах 1981 году, несмотря на многочисленные моральные потери, связанные с негативным отношением к политике СССР, оставалась мощнейшей силой во Франции, стабильно получая на выборах больше 20 % голосов. Это в итоге сломало всю партийную конструкцию внутри страны. Миттеран провел многоходовую комбинацию по заключению союза с коммунистами, а затем пригласил их даже в правительство. Рейган был в ужасе от того, что хоть и в отколовшейся от НАТО, но все?таки союзнической стране в кабинете министров будут заседать настоящие «красные». Трудно поверить, но тогда во французском обществе всерьез обсуждали возможность появления советских танков на улицах Парижа.
Расчет Миттерана строился на том, что отказаться от участия в правительстве коммунисты никогда не посмели бы – ведь этой цели они добивались десятилетиями. Они действительно получили несколько портфелей, но в результате потеряли великое преимущество оппозиционной силы. Войдя в кабинет, ФКП становилась заложницей миттерановской политики, а она с каждым днем делалась все менее левой. Для коммунистов это стало «поцелуем смерти», от которого они не оправились.
В исторической памяти французов Миттеран следует за де Голлем, но если де Голль – это практически доисторическая глыба, до которой в ближайшей перспективе трудно кому?либо дотянуться, то Миттеран – это еще очень близко. Выходцы из его политического гнезда на сцене сегодня – от проштрафившегося в нью?йоркском «Софителе» Доминика Стросс?Кана до действующего президента Франсуа Олланда.
Из всех французских президентов за послевоенную историю Франции именно Миттеран, возможно, оказал наибольшее влияние на умы граждан. Его опыт и перипетии карьеры поучительны для тех, кто видит себя на общественном поприще. Актер Мишель Буке, сыгравший в кино роль президента Франции, отозвался о нем так: «Я не был поклонником Миттерана, но его сомнения не оставляли меня равнодушным». О Миттеране говорят как о человеке правых взглядов, но сделавшем себе карьеру на левых идеях.
А как он любил всевозможные «жесты». Покровитель интеллектуалов, сам готовый заниматься сочинительством, свое президентство он начал с того, что предоставил французское гражданство двум опальным писателям?эмигрантам – Хулио Кортасару и Милану Кундере. Победив на первых выборах, окруженный соратниками, Миттеран показательно пройдет пешком от своего дома в 6?м округе к Пантеону, чтобы возложить цветы на могилы социалиста Жана Жореса, героя Сопротивления Жана Мулена и депутата Виктора Шельшера, боровшегося за отмену рабства в колониях. А что может сравниться по силе эмоционального эффекта с его знаменитым рукопожатием с канцлером Гельмутом Колем осенью 1984 года перед могилами французов и немцев в Вердене, ставшим символом прекращения вечной вражды?
В судьбе Миттерана много такого «человеческого» материала. Предчувствуя близкий уход из жизни, он захотел объясниться по поводу своего участия в коллаборационистском правительстве Виши. Сенсацией стала книга «Молодые годы», написанная известным своими расследованиями журналистом Пьером Пеаном. Она вышла всего за полтора года до смерти Миттерана и была написана на основе диалогов с президентом и с его одобрения. Пеан впервые раскрыл детали сотрудничества Миттерана с Виши и, главное, его многолетних дружеских отношений уже в наше время с префектами, чиновниками, обвиненными в конкретных военных преступлениях, но избежавшими суда. Публикация пеановской книги сыграла роль водораздела в отношении к политику. Те, кто поддерживал Миттерана многие годы, кто испытывал к нему признательность за победу левых, почувствовали себя преданными.
Миттерана сильно занимала тема забвения, и он связывал след в большой политике с архитектурой. Его отличало чувство стиля. Неортодоксальная стеклянная пирамида Лувра, сама концепция расширения музея, включая тривиальную, но непростую по бюрократическим законам операцию по ликвидации во внутреннем дворе Лувра парковки Министерства финансов, – это инициатива Франсуа Миттерана. Ему принадлежит идея ряда других архитектурных преобразований в столице, хотя, по общему мнению, и не столь органичных. Это строительство в верхней части Сены, за вокзалом Аустерлиц, Большой библиотеки, которая теперь носит его имя, или арочного здания в деловом квартале Дефанс, что якобы завершает – на самом деле скорее портит – перспективу мирового значения Лувр – Тюильри – Триумфальная арка.
Он приехал в столицу из провинции, но был человеком Парижа. Обыкновенные прохожие встречали его на бульваре Сен?Жермен недалеко от рю де Бьевр, где у него была квартира, в книжных магазинах на Левом берегу. Он мог выйти на мост Александра Третьего, через который переезжал тысячи раз, направляясь в резиденцию и обратно домой, и сказать, как же это все?таки красиво. Меня лично подкупало в Миттеране то, что, будучи президентом, он любил много ходить пешком по парижским кварталам. В этом была какая?то дань великому городу.
Город без войны
Колонна немецких солдат неспешно огибает Триумфальную арку и готовится спуститься вниз по Елисейским Полям. Кадры победного марша – символа четырехлетней оккупации Парижа – переходят затем в черное. Это эпиграф «Армии теней», одного из лучших, по общему признанию, фильмов о войне, сформировавших представление о ней французской нации. В 1969 году его снял Жан?Пьер Мельвиль по мотивам романа ветерана двух мировых войн и выходца из России писателя Жозефа Кесселя.
Мельвиль гордился планом. Он добился разрешения снимать немецкий марш там, где по негласному правилу люди в нацистской форме, даже если это актеры, не должны были появляться больше никогда. Репетиция сцены прошла в три утра, съемки начались в шесть. На большом экране можно детально рассмотреть, как выглядела площадь вокруг арки на рассвете – в кадр не попало ничего постороннего, что противоречило бы эпохе. Эффект такой, будто смотришь немецкую кинохронику сороковых годов.
Кинообразы часто предопределяют дальнейшее восприятие истории. Прошло немало лет, но по?прежнему помню, как школьником смотрел «Армию теней» в кинотеатре «Мир», когда картину привезли на очередную неделю французских фильмов. Тогда впервые увидел на экране Лино Вентуру. В фильме Мельвиля он сыграл одного из руководителей Сопротивления, инженера?голлиста Жербье. Жербье арестовывают, приговаривают к расстрелу, и командующий казнью немецкий офицер приказывает заключенным бежать по подземному туннелю, за что обещает сохранить им жизнь до следующей казни. Жербье колеблется, но, когда ему стреляют по ногам, срывается с места и бежит. Через несколько метров сверху через люк ему бросают веревку, и товарищи вытаскивают на поверхность. Сидя в увозящей всю группу легковой машине, как бы между прочим Жербье – Вентура произносит, не обращаясь ни к кому конкретно: «А если не побежал бы?» В «Армии теней» передана вся атмосфера военного времени во Франции: жесткие условия работы в подполье, разделение страны на сотрудничавших, сопротивлявшихся и просто выжидавших.
Париж и война – противоестественное сочетание слов. Не из?за срока давности. Первая мировая война отстоит от нас уж совсем далеко, но ее следы в большей степени присутствуют во Франции. В каждой деревне есть ухоженный памятник погибшим. Весь восток от Парижа до Страсбурга усеян бесконечными кладбищами, в том числе и русскими. Грандиозный военный мемориал под Верденом подавляет вопросом, на который невозможно найти разумный ответ: как могли две цивилизованные нации?соседи – французы и немцы – сначала ввязаться в немыслимую бойню в центре Европы, а затем планомерно изничтожать свои молодые поколения в течение стольких лет?
На фоне первой масштабной войны ХХ столетия, которую до середины прошлого века было принято называть Великой, Вторая мировая война представляется для национального сознания французов гораздо более противоречивой историей. Перефразируя название одной книги, рассматривающей период режима Виши, это то минувшее, которое сопротивляется стать прошлым. Иногда оно выливается в запоздалые акты возмездия. Уже в наше время – в 1990?е – один из руководителей вишистской полиции Рене Буске, против которого неоднократно выдвигались обвинения в военных преступлениях и который, тем не менее, оставался на свободе, был застрелен в своей парижской квартире «охотником» за военными преступниками.
В живых практически не осталось ни героев, ни антигероев, но смысловые точки еще до конца не расставлены, оценки подвижны и пересматриваются, воспоминания не смягчаются. Наоборот, как будто происходит все большее осознание коллективной ответственности за преступления – не немцев, а французского государственного аппарата в лице режима Виши.
Мой товарищ фотограф Антон Ланге считает, что в 1940?м Франция оказалась настолько морально сломленной, что не оправилась от поражения до сих пор. Нобелевский лауреат по литературе за 2014 год французский писатель Патрик Модиано, называющий себя ребенком оккупации, посвятил большую часть традиционной речи, произносимой при вручении премии, осмыслению этой страницы в истории страны.
Общественная интерпретация случившегося в военное время прошла несколько этапов. В первые послевоенные десятилетия происходила героизация роли французского Сопротивления. Это укрепляло авторитет двух самых влиятельных политических группировок – коммунистов и голлистов, которые действительно составляли костяк подполья и выступали союзниками. У истоков объединяющей нацию идеи примирения с прошлым стоял сам де Голль. Уже в своем первом выступлении в освобожденном Париже он в свойственной ему стилистике (де Голль говорил энергичными рублеными фразами) произнес: «Париж возмущенный! Париж раненый! Париж принесенный в жертву! Но Париж освобожденный! Освободивший себя сам при поддержке всей Франции, Франции сражающейся, единственно возможной Франции, настоящей Франции, вечной Франции».
Заинтересованный в возрождении сильной духом страны и нации, де Голль хотел избежать гражданского раскола, прекратить сведение счетов и жесткие чистки, которые начались сразу после освобождения, хотел убедить людей поскорее забыть моральные травмы, нанесенные войной. «Произошло политическое чудо, – пишет историк и публицист Александр Адлер. – Де Голль легко сумел сдержать центробежные силы как слева, так и справа. И не состоит ли загадка популярности де Голля в первую очередь в его фантастической способности отождествлять себя с невероятным взрывом идей и настроений, которые принесло движение Сопротивления. Ведь глубина поражения Франции, тяжесть морального краха режима Виши могли бы привести к настоящей гражданской войне, как это произошло в 1871 году».
Вторую подобную операцию по удержанию гражданского мира в стране де Голль предпринял в 1958 году, когда Франция оказалась на грани нового грандиозного взрыва и даже военного переворота из?за недовольства его решением оставить Алжир.
В начале семидесятых, после ухода де Голля с политической сцены и пересмотра некоторых идеологических постулатов вследствие событий мая 1968 года, оценки войны качнулись в противоположную сторону: стало модно утверждать, что Франция пережила тотальный коллаборационизм.
Первым документальным прорывом в понимании подлинной роли французских государственных институтов во время оккупации стала книга американского историка Роберта Пакстона «Франция Виши: старая гвардия и новый порядок». Как констатировал в своей статье «Парижане и немцы» Жан?Поль Сартр: «Все то, через что Лондон сумел пройти, не потеряв чувство гордости, Париж пережил с чувством стыда и отчаяния».
Понадобилось время, чтобы уйти от крайних оценок и осмелиться говорить публично о самых тяжелых вопросах. Совсем недавно – всего лишь в 1995 году, полвека спустя после трагедии, – президент Франции Жак Ширак совершил мужественный поступок. Он официально попросил прощения за те «непоправимые» действия, которые совершало в годы оккупации само французское государство. Его предшественник Франсуа Миттеран избегал разговора об ответственности государства, что, возможно, было продиктовано его связью с режимом Виши. Покаяние Ширака было приурочено к очередной годовщине массовой карательной операции против евреев, проведенной в июле 1942 года в Париже. Тогда людей согнали в здание крытого велодрома, находившегося в 15?м округе, и затем отправили в товарных вагонах в Освенцим. Когда отмечалось семидесятилетие этих трагических событий, новый президент – Франсуа Олланд – пошел еще дальше в своем выступлении. Он заявил: «Правда состоит в том, что ни один немецкий солдат – ни один – не был задействован в этой операции. Все сделали французы».
Париж практически не знал ни больших разрушительных бомбежек (хотя некоторые французские города – Руан, Нант, Гавр сильно пострадали от авианалетов союзников), ни тяжелых и продолжительных уличных боев. В 1940 году немецкие войска вошли во французскую столицу, не встретив сопротивления. Париж была объявлен открытым городом. Интересно, что вход немецких военных колонн – как и последовавшая вскоре инспекторская поездка Гитлера – словно бы повторяли обычный экскурсионный маршрут, который совершают туристы и сегодня, приехав в Париж впервые.
Конец ознакомительного фрагмента – скачать книгу легально
[1] Пер. В. Кислова.
Библиотека электронных книг "Семь Книг" - admin@7books.ru