
Плач | Кристофер Джон Сэнсом
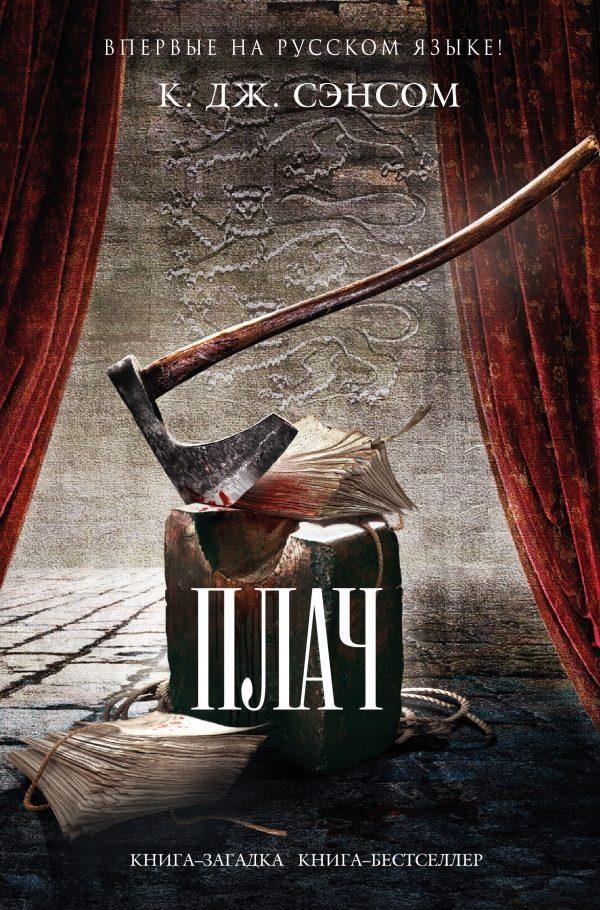
Кристофер Джон Сэнсом
Плач
Книга-загадка. Книга-бестселлер
Мэтью Шардлейк – 6
* * *
Комментарий автора
Тонкости религиозных различий в Англии XVI столетия сегодня могут показаться неважными, но в сороковых годах того века они были буквально вопросом жизни и смерти. Генрих VIII в 1532–1533 годы отверг верховенство папы римского над английской Церковью, но позже, до конца своего правления, колебался между сохранением традиционных католических порядков и переходом к протестантским. Тех, кто предпочитал традиционные устои – или даже хотел возвращения к верности Риму, – называли по‑разному: консерваторами, традиционалистами и даже папистами. Те же, кто хотел перехода к лютеранским, а позже к кальвинистским порядкам, стали называться радикалами или протестантами. Термины «консерваторы» и «радикалы» тогда не имели приобретенного позже смысла, связанного с социальными реформами. Многие в 1532–1538 годы переходили с одной стороны на другую – или по искреннему убеждению, или, чаще, из оппортунизма. Некоторые, хотя и не все, религиозные радикалы считали, что государство должно делать больше для борьбы с бедностью, однако и радикалы, и консерваторы в равной мере ужасались идеям анабаптистов, очень немногочисленных, но являвшихся жупелом для политической элиты. Анабаптисты верили, что истинное христианство означает разделение всех богатств между всеми людьми.
Пробным камнем приемлемой веры в 1546 году стала приверженность традиционной католической доктрине о «пресуществлении» – вере в то, что когда священник во время мессы освящает хлеб и воду, они физически преображаются в тело и кровь Христа. Это было традиционное верование, от которого Генрих никогда не отклонялся. Его «Актом о шести статьях» 1539 года отрицание пресуществления объявлялось изменой и наказывалось сожжением у столба. Другим основным верованием английского правителя было верховенство королевской короны: в вопросах учения Бог нарек верховными судьями монархов, а не папу, на подвластных им территориях.
* * *
Политические события в Англии летом 1546 года были необычайно драматическими. Анна Эскью была действительно обвинена в ереси, ее пытали и сожгли у столба, и она оставила отчет о своих страданиях. Празднования по случаю прибытия в Лондон адмирала д’Аннебо действительно имели место, и сохранились их описания. История про Бертано также не выдумана. Существовал заговор традиционалистов, чтобы сместить Екатерину Парр, и она написала книгу «Стенание грешницы», которая была опубликована только после смерти Генриха VIII. Впрочем, насколько известно, украдена эта книга не была.
* * *
Дворец Уайтхолл, отобранный Генрихом у кардинала Уолси и значительно расширенный им, занимал примерно то место, где сейчас располагаются Скотленд‑Ярд, Даунинг‑стрит, Темза и современный проезд в Уайтхолл с развлекательными строениями в западной его части. Дворец сгорел до основания после двух случайных опустошительных пожаров в 90‑х годах XVII века. До наших дней дожила лишь одна его постройка – Пиршественный зал, однако во времена Тюдоров ее еще не было.
* * *
Некоторые английские слова времен Тюдоров имеют сейчас другое значение. Голландцами (Dutch) называлось население современных Голландии и Бельгии. Имя Кэтрин писалось по‑разному – Catherine, Katharine или Katryn. Королева Екатерина Парр, ставя подпись, использовала последний вариант.
Действующие лица и их место в политико‑религиозном спектре
В романе присутствует необычно большое число персонажей, прототипы которых действительно жили в то время, однако, конечно же, изображение их личностей принадлежит мне.
Королевское семейство
Король Генрих VIII
Королева Екатерина Парр
Принц Эдуард, 8 лет, наследник трона
Леди Мэри, 30 лет, горячая сторонница традиционализма
Леди Елизавета, 12–13 лет
Семейство Екатерины Парр, все реформаторы
Лорд Уильям Парр, ее дядя
Сэр Уильям Парр, ее брат
Леди Энн Герберт, ее сестра
Сэр Уильям Герберт, ее зять
Члены королевского Тайного совета
Джон Дадли, лорд де Лайл, реформатор
Эдвард Сеймур, граф Хартфордский, реформатор
Томас Кранмер, архиепископ Кентерберийский, реформатор
Томас, лорд Ризли, лорд‑канцлер, не имеет твердой религиозной приверженности
Сэр Ричард Рич, не имеет твердой религиозной приверженности
Сэр Уильям Пэджет, государственный секретарь, не имеет твердой религиозной приверженности
Стивен Гардинер, епископ Винчестерский, традиционалист
Томас Говард, герцог Норфолкский, традиционалист
Другие
Уильям Соммерс, шут короля
Джейн, дурочка королевы Екатерины и леди Мэри
Мэри Оделл
Уильям Сесил, впоследствии главный министр королевы Елизаветы I
Сэр Уильям Уолсингэм
Джон Бойл
Анна Эскью (Кайм)
Глава 1
Мне не хотелось присутствовать на сожжении. Я никогда не любил даже таких вещей, как травля медведя, а тут собирались сжечь у столба заживо четырех человек – и среди них женщину – за отрицание того, что тело и кровь Христовы физически присутствуют на святой мессе. Вот до чего мы дошли в Англии в 1546 году во время охоты за еретиками!
Меня вызвали из моей конторы в Линкольнс‑Инн[1] к казначею, мастеру Роуленду. Несмотря на мой статус сержанта[2], самый высокий для барристеров, мастер Роуленд меня недолюбливал. Думаю, его самолюбие так и останется уязвленным с тех пор, как три года назад я – совершенно заслуженно – проявил к нему свое неуважение. Сейчас, здороваясь со снующими туда‑сюда юристами в черных робах[3], я перешел мощенную красным кирпичом площадь, залитую ярким солнечным светом, и посмотрел на окна Стивена Билкнапа. Это был мой старый враг, как в суде, так и вне его. Окна были закрыты ставнями. Он болел с начала года, и уже много недель его никто не видел. Говорили, что он при смерти.
Подойдя к кабинету казначея, я постучал в дверь, и резкий голос пригласил меня войти. Роуленд сидел за столом в своем просторном помещении – все полки на стенах кабинета были уставлены тяжеленными юридическими томами, демонстрируя статус его владельца. Это был старый, за шестьдесят, человек, тощий, как щепка, но твердый, как дуб, с узким морщинистым нахмуренным лицом. Он щеголял седой бородой, длинной и раздвоенной по нынешней моде, тщательно расчесанной и доходящей до середины его шелкового камзола. Казначей очинивал гусиное перо и, когда я вошел, поднял на меня глаза. Пальцы у него, как и у меня, были в пятнах от многолетней чернильной работы.
– Дай вам Бог доброго утра, сержант Шардлейк, – проговорил он своим пронзительным голосом и положил ножик.
Я поклонился.
– И вам, мастер казначей.
Роуленд махнул рукой в сторону табурета и сурово посмотрел на меня.
– Как идут ваши дела? Много ли разбирательств внесено в список Михайловской судебной сессии?[4]
– Довольно много, сэр.
– Я слышал, вы больше не получаете работы от стряпчего королевы, – как бы невзначай сказал казначей. – В этом году никакой.
– У меня куча других дел, сэр. Все время занимает работа с гражданскими исками.
Мой собеседник наклонил голову.
– Я также слышал, что некоторых придворных королевы Екатерины допрашивали в Тайном совете. За еретические воззрения.
– Ходят такие слухи. Но в последние месяцы кого только не допрашивали!
– Последнее время я частенько видел вас на мессе в церкви нашего инна. – Роуленд сардонически улыбнулся. – Проявляете должное благочестие? Разумно в наши бурные дни. Посещать церковь, избегать всяческой дискуссионной болтовни, следовать желаниям короля…
– Совершенно верно, сэр.
Казначей взял очиненное перо, поплевал на него, чтобы размягчить, и вытер о тряпочку, а потом снова пронзительно взглянул на меня.
– Вы слышали, что миссис Анна Эскью приговорена к сожжению вместе с тремя прочими еретиками? Сожжение состоится в пятницу, шестнадцатого июля.
– В Лондоне только об этом и говорят. Некоторые шепчут, что после приговора ее пытали в Тауэре. Странная вещь…
Роуленд пожал плечами:
– Уличные сплетни. Но эта женщина выбрала неудачное время для своей сенсации. Бросить мужа и явиться в Лондон, чтобы проповедовать мнения, явно противоречащие «Акту о шести статьях»… Отказаться переменить веру, публично спорить со своими судьями… – Он покачал головой, а потом подался вперед. – Сожжение будет грандиозным зрелищем. Такого не было уже много лет. Король хочет показать, к чему приводит ересь. Там будет половина Тайного совета.
– Без короля? – уточнил я. Ходили слухи, что и он может прийти на казнь.
– Без.
Я вспомнил, что весной Генрих серьезно заболел, и с тех пор его толком никто не видел.
– Его Величество хочет, чтобы там были представители от всех лондонских гильдий, – заметил Роуленд, после чего сделал паузу и добавил: – И от всех судебных иннов.
Я так и уставился на него.
– Я, сэр?
– У вас меньше социальных и церемониальных обязанностей, чем полагается для вашего ранга, сержант Шардлейк. Похоже, на это дело нет охотников, поэтому решать приходится мне. Думаю, пришла ваша очередь.
Я вздохнул:
– Знаете, я всегда был слабоват для таких поручений. Если хотите, я готов выполнить нечто большее. – Я глубоко вдохнул. – Но прошу вас, не такое. Это будет ужасно. Я никогда не видел сожжения, и у меня как‑то нет никакого желания.
Роуленд пренебрежительно махнул рукой.
– Вы слишком привередливы. Это странно для фермерского сына… Вы же видели экзекуции, я знаю. Когда вы работали у лорда Кромвеля, он заставил вас присутствовать при отсечении головы Анны Болейн.
– И это было ужасно. А теперь будет еще хуже.
Казначей похлопал по бумагам на столе.
– Мне прислали требование, чтобы я выделил кого‑нибудь на сожжение. Подписано государственным секретарем, самим Пэджетом. Я должен сообщить ему имя сегодня же вечером. Мне очень жаль, сержант, но я решил, что пойдете вы. – Он встал, давая понять, что разговор закончен.
Я тоже встал и снова поклонился.
– Благодарю вас за желание глубже погрузиться в деятельность инна, – сказал Роуленд, снова спокойным голосом. – Я посмотрю, какие еще, – он замялся, неуверенно подыскивая подходящее слово, – мероприятия могут случиться в ближайшее время.
* * *
В день сожжения я проснулся рано. Казнь была назначена на середину дня, но мне было очень тяжело в таком удрученном состоянии духа идти в кабинет судьи. Пунктуальный, как всегда, мой стюард Мартин Броккет в семь утра принес мне в спальню льняные полотенца и кувшин с горячей водой и, пожелав доброго утра, выложил рубашку, камзол и летнюю робу. Как обычно, его манеры были серьезны, спокойны и почтительны. С тех пор как он со своей женой Агнессой начал работать у меня зимой, мое домашнее хозяйство стало функционировать как часовой механизм. Через приоткрытую дверь я слышал, как Агнесса просит мальчика Тимоти, чтобы тот не забыл принести свежей воды, а девушку Жозефину – поспешить со своим завтраком, чтобы успеть накрыть стол для меня. Она говорила легким, дружелюбным тоном.
– С новым прекрасным днем, сэр, – рискнул поздравить меня Броккет. Ему шел пятый десяток, и у него были редеющие волосы и невыразительное, незапоминающееся лицо.
Я не говорил никому из домашних, что иду на сожжение.
– Спасибо, Мартин, – поблагодарил я стюарда. – Вот уж действительно прекрасный день! Пожалуй, утром я поработаю у себя в кабинете, а после полудня мне нужно будет уйти.
– Прекрасно, сэр. Ваш завтрак вот‑вот будет готов. – Броккет поклонился и вышел.
Я встал, поморщившись от спазма в спине. К счастью, теперь это случалось реже – после того как я стал прилежно делать упражнения, которые мне прописал мой друг доктор Гай. Мне бы хотелось чувствовать себя свободнее с Мартином. Мне нравилась его жена, но в его холодной, скованной чопорности было что‑то такое, отчего мне никогда не было с ним легко. Умыв лицо и облачившись в чистую, благоухающую розмарином льняную рубашку, я пожурил себя за непоследовательность, поскольку, как хозяину, мне самому и следовало бы инициировать менее формальные отношения.
Затем я посмотрелся в стальное зеркало. Подумалось, что морщин прибавилось. Весной мне исполнилось сорок четыре. Морщины на лице, седина в волосах, сгорбленная спина… Поскольку в моде были бороды – мой помощник Барак недавно отрастил себе опрятную русую бородку, – пару месяцев назад я попытался тоже отпустить такую же, но в бороде, как и в волосах, пробивалась седина, и я считал, что это было мне не к лицу.
Через окно с тонким переплетом я посмотрел на сад, где разрешил Агнессе установить несколько ульев и посадить цветы. Последние улучшили вид и, кроме хорошего запаха, еще и приносили практическую пользу. Вокруг них жужжали пчелы, пели птички, и все было ярким и полным цвета. Что за день для молодой женщины и троих мужчин, которых ожидает ужасная смерть!
Мои глаза обратились к письму на столике у кровати. Оно пришло из Антверпена, из испанских Нидерландов, где жил мой девятнадцатилетний подопечный Хью Кёртис, который работал там у английских купцов. Теперь Хью был счастлив. Первоначально он собирался учиться в Германии, но вместо этого остался в Антверпене и обнаружил неожиданный интерес к торговле тканями, особенно к выискиванию и оценке редких шелков и новых материй – например, хлопка, поступающего из Нового Света. В письмах от Хью сквозило удовольствие от работы, а также от интеллектуальной и социальной свободы большого города, от рынков, дискуссий и чтений в камерах риторов[5]. Хотя Антверпен являлся частью Священной Римской империи, католический император Карл V не вмешивался в дела живших там протестантов – он не смел подвергать опасности коммерцию фландрских банков, которые финансировали его войны.
Хью никогда не говорил о мрачной тайне, которую мы хранили после нашей встречи в прошлом году, и все его письма выдерживались в радостном тоне. Впрочем, в этом письме были новости о прибытии в Антверпен множества английских беженцев.
«Они в плачевном состоянии и обращаются к купцам за помощью. Это реформаторы и радикалы, боящиеся попасть в сеть преследований, которую, по их словам, епископ Гардинер накинул на всю Англию».
Со вздохом я облачился в робу и спустился к завтраку. Я больше не мог оттягивать начало этого страшного дня.
* * *
Охота на еретиков началась весной. Зимой переменчивая королевская религиозная политика словно бы склонилась в пользу реформаторов: король убедил парламент дать ему право уничтожить часовни, где священники получали деньги по завещанию немощных жертвователей, чтобы те отслужили мессу за их души. Но, как и многие другие, я подозревал, что он руководствовался не религиозными, а финансовыми мотивами – гигантскими расходами на войну с Францией, где англичане по‑прежнему оставались осажденными в Булони. Генрих VIII продолжал понижение качества монет, и цены взлетали так сильно, как не было еще никогда на людской памяти. Самые новые «серебряные» шиллинги были покрыты лишь тонким слоем серебра поверх меди, и это покрытие уже страшно износилось. Король получил прозвище Старый Медный Нос. Скидка, которую требовали торговцы за такие монеты, делала их дешевле шестипенсовиков[6], хотя жалованье платили по цене, указанной на аверсе монеты.
А потом, в марте, вернулся с переговоров о новом договоре с императором Священной Римской империи епископ Стивен Гардинер – самый консервативный из королевских советников, когда дело касалось религии. В апреле пошли слухи, что людей высокого и низкого звания хватают и допрашивают за их взгляды на мессу и за обладание запрещенными книгами. Допросы коснулись даже придворных короля и королевы, а среди прочих наполнявших улицы слухов был и такой: что Анна Эскью, самая известная из приговоренных за ересь, была связана с двором королевы, где проповедовала и вела пропаганду среди фрейлин. Я не видел королеву Екатерину с тех пор, как год назад она оказалась замешана в потенциально опасном деле, и знал, к своему большому сожалению, что вряд ли снова увижу эту милую и благородную женщину. Но я часто думал о ней и боялся за нее, поскольку охота за радикалами усиливалась: только на прошлой неделе был выпущен указ с подробным длинным списком книг, которые запрещалось иметь, и на той же неделе придворный Джордж Блэгг, друг короля, был приговорен к сожжению за ересь.
Я больше не симпатизировал ни той, ни другой стороне в этой религиозной сваре и иногда сомневался в самом существовании Бога, но исторически сложилось так, что я оказался связан с реформаторами, и потому, как и большинство людей в этом году, старался не высовываться и держать рот на замке.
Из дома я вышел в одиннадцать. Тимоти вывел моего доброго коня по кличке Бытие к входной двери и установил специальную лесенку, чтобы я мог сесть верхом. Мальчику уже было тринадцать, он вытянулся и стал худым и нескладным. Весной я отдал моего предыдущего слугу, Питера, в подмастерья, чтобы дать ему шанс в жизни, и планировал сделать то же самое для Тимоти, когда ему исполнится четырнадцать.
– Доброе утро, сэр. – Юный слуга улыбнулся своей застенчивой улыбкой, показав отсутствие двух передних зубов, и убрал со лба спутанные волосы.
– Доброе утро, молодой человек, – поприветствовал я его. – Как твои дела?
– Хорошо, сэр.
– Наверное, скучаешь по Питеру?
– Да, сэр. – Парень потупился, передвигая ногой камешек на земле. – Но ничего, я справляюсь.
– Ты хорошо справляешься, – поощрил я его. – Но, возможно, пора подумать и о твоем обучении ремеслу. Ты задумывался, чем хотел бы заниматься в жизни?
Слуга уставился на меня с внезапной тревогой в карих глазах.
– Нет, сэр… Я… Я думал остаться здесь. – Он отвел глаза на мостовую. Тимоти всегда был тихоней, в нем не было уверенности Питера, и я понял, что мысль о выходе в мир пугает его.
– Что ж, – успокоил я своего подопечного, – торопиться некуда. – Парень как будто воспринял это с облегчением. – А теперь мне пора. – Я вздохнул. – Дела.
* * *
Я проехал через Темпл‑Барские ворота и свернул на Гиффорд‑стрит, которая вела к Смитфилдской площади. Многие направлялись в ту сторону по пыльной дороге – некоторые верхом, большинство пешком, богатые и бедные, мужчины, женщины… Я даже заметил нескольких детей. Часть людей, особенно те, кто был одет в темные одежды, которые предпочитали радикалы, шли с серьезным видом, другие выражали безразличие, а у третьих на лицах было предвкушение, как у тех, кто идет на увеселительное мероприятие. Я надел под черную шляпу свою белую сержантскую шапочку и уже начал потеть от жары. К тому же я с раздражением вспомнил, что во второй половине дня у меня назначена встреча с самым моим трудным клиентом, Изабель Слэннинг, чье дело – спор с братом о наследстве матери – было самым глупым и самым затратным из всех, с какими я когда‑либо сталкивался.
Я обогнал двух молодых подмастерьев в синих камзолах и шапках.
– Зачем устраивать это в полдень? – ворчал один из них. – Там не будет никакой тени.
– Не знаю. Наверное, есть какое‑то правило. Жарче для доброй госпожи Эскью. Она нагреет себе задницу до исхода дня, а? – посмеивался второй.
* * *
На Смитфилдской площади уже собралась толпа. Открытое пространство, где дважды в неделю продавали коров и быков, было заполнено народом. Все смотрели на огороженное место в центре, которое охраняли солдаты в железных шлемах и белых плащах с крестом святого Георгия. Вид у них был суровый, и в руках они держали алебарды. В случае какого‑либо протеста солдаты были готовы решительно расправиться с ним. Я печально посмотрел на них – теперь при виде солдат я всегда думаю о моих погибших друзьях и о том, как и сам я чуть не погиб, когда огромный корабль «Мэри Роуз» пошел ко дну при отражении французского вторжения. Прошел уже год, подумалось мне, почти день в день. В прошлом месяце пришли вести, что война почти закончена – переговоры с Францией и Шотландией были почти завершены, и осталось лишь несколько мелочей. Вспомнив свежие лица молодых солдат и их падающие в воду тела, я закрыл глаза. Для них мир настал слишком поздно.
С седла мне было видно лучше, чем большинству, и лучше, чем мне хотелось бы. Я оказался рядом с ограждением, потому что толпа напирала и толкала всадников вперед. В центре огороженного пространства стояли три дубовых столба семи футов высотой, вбитые в пыльную землю. У каждого сбоку было металлическое кольцо, через которое лондонские констебли продевали железные цепи. Они повесили на эти цепи замки и проверили, работают ли ключи. Все делалось спокойно и деловито. Чуть в стороне другие констебли стояли вокруг огромной кучи хвороста – увесистых вязанок из тонких веток. Я был рад, что стоит сухая погода, так как слышал, что если дрова сырые, то огонь разгорается дольше и мучения жертв ужасно затягиваются. Напротив столбов стояла выкрашенная в белый цвет высокая деревянная кафедра. Перед сожжением состоится проповедь – последний призыв к еретикам раскаяться. Читать проповедь должен был Николас Шекстон, бывший епископ Сэлисберийский, радикальный реформатор, приговоренный к сожжению вместе с другими, но публично отрекшийся от своих заблуждений ради спасения своей жизни.
На восточной стороне площади, за рядом изящных, ярко раскрашенных новых домов, я увидел высокую старую колокольню церкви Святого Варфоломея. Когда семь лет назад монастырь был ликвидирован, его земли перешли к члену Тайного совета сэру Ричарду Ричу, который и построил эти новые дома. К их окнам припало множество зрителей. Перед монастырской сторожкой был воздвигнут высокий деревянный помост с навесом, выкрашенным в королевские цвета – зеленый и белый, – а на длинную скамью уложили яркие толстые подушки. Отсюда лорд‑мэр и члены Тайного совета будут наблюдать за сожжением. Среди верховых в толпе я узнал многих городских чиновников и кивнул тем, с кем был лично знаком. Чуть поодаль собралась группа людей среднего возраста – они смотрели серьезно и встревоженно. Услышав несколько слов на иностранном языке, я понял, что это фламандские купцы.
Вокруг меня стоял гул голосов, а также резкая вонь лондонской толпы, какая бывает жарким летом.
– Говорят, ее пытали на дыбе, пока не порвались сухожилия на руках и ногах… – слышались отовсюду голоса.
– Ее нельзя было пытать после приговора…
– И Джона Лэсселса тоже сожгут. Это он донес королю о флирте Екатерины Говард[7]…
– Говорят, Екатерина Парр тоже попала в беду. Пока с этим не закончено, король может завести уже седьмую жену…
– Их отпустят, если они отрекутся от своей веры?..
– Поздно…
Рядом с навесом возникло какое‑то движение, и все головы повернулись к группе людей в шелковых робах и шапках. У многих из них на шее были золотые цепи. Они вышли из здания у ворот в сопровождении солдат и медленно поднялись на помост. Потом перед ними выстроились солдаты, и пришедшие сели длинным рядом, поправляя свои шапки и цепи и глядя на толпу оценивающим суровым взглядом. Многих из них я узнал: там был лондонский мэр Боуз в красных одеждах и герцог Норфолкский, постаревший и похудевший за те шесть лет, что прошли с тех пор, как мы с ним виделись, – его надменное суровое лицо выражало высокомерие. Рядом с герцогом сидел священнослужитель в белой шелковой сутане и черном стихаре поверх нее. Я не узнал его, но догадался, что это, должно быть, епископ Гардинер. Ему было около шестидесяти, и это был коренастый смуглый человек с напоминающим клюв носом и большими темными глазами, которые то и дело обегали толпу. Он наклонился и что‑то тихо сказал герцогу Норфолкскому, а тот кивнул и сардонически улыбнулся. Многие говорили, что эти двое, будь их воля, вернули бы Англию в лоно Рима.
Рядом с ними сидели еще три знатные особы, возвысившиеся на службе Томасу Кромвелю, но после его падения переместившиеся в консервативную партию Тайного совета, сгибаясь и крутясь под переменчивыми дуновениями ветра, вечно с двумя лицами под одним капюшоном. Одним из них был Уильям Пэджет, государственный секретарь, пославший письмо Роуленду. У него было широкое и плоское, как кирпич, лицо над кустистой темно‑русой бородой, а его тонкие губы резко изогнулись вниз у одного края, образовав узкую прорезь. Говорили, что Пэджет близок к королю как никто другой, и ему дали прозвище «Мастер интриг».
Рядом с Пэджетом сидел лорд‑канцлер Томас Ризли, глава юридического сословия, высокий и худой, с торчащей рыжеватой бородкой, а чуть дальше – сэр Ричард Рич, все еще старший тайный советник, несмотря на обвинения в коррупции два года назад. В последние пятнадцать лет его имя связывали с самыми отвратительными видами коммерции, и я точно знал, что на его совести есть убийства. Это был мой старый враг. Меня спасло от него только то, что я кое‑что знал о нем и что все еще оставался под защитой королевы. Однако я с тяжелым чувством гадал, чего эта защита стоит теперь. Я взглянул на Рича. Несмотря на жару, на нем была зеленая роба с меховым воротником, и к своему удивлению, я прочел на его тонком изящном лице тревогу. Длинные волосы под его расшитой драгоценностями шапкой совершенно поседели. Поигрывая золотой цепью, Ричард оглядел толпу и вдруг поймал мой взгляд. Его лицо вспыхнуло, а губы сжались. Какое‑то мгновение он смотрел на меня, но потом Ризли наклонился что‑то сказать ему, и он отвел глаза. Меня пробрала дрожь, и моя тревога передалась Бытию, который стал топать копытами – пришлось похлопать его, чтобы успокоить.
Какой‑то солдат осторожно пронес мимо меня корзину.
– Дорогу, дорогу! Это порох!
Меня обрадовали эти слова. По крайней мере, будет хоть какое‑то милосердие. Приговор за ересь заключался в сожжении заживо, но некоторые обладающие властью лица разрешили привязать к шее каждой жертвы мешочек с порохом, чтобы тот взорвался, когда до него доберется пламя, и мгновенно убил жертву.
– Надо дать им сгореть до конца! – запротестовал кто‑то.
– Да, – согласился другой. – Огненный поцелуй, такой легкий и мучительный…
Раздалось ужасное хихиканье.
Я посмотрел на другого всадника, тоже в шелковой робе юриста и темной шапке, который, пробравшись сквозь толпу, остановился рядом со мной. Он был на несколько лет младше меня, с красивым, хотя и несколько угрюмым лицом, с короткой темной бородкой и проницательными голубыми глазами, смотрящими честно и прямо.
– Добрый день, сержант Шардлейк, – поздоровался он.
– И вам также, брат Коулсвин, – отозвался я.
Филип Коулсвин был барристером из Грейс‑Инна и моим оппонентом в злополучном деле о завещании миссис Коттерстоук, матери миссис Слэннинг. Он представлял интересы брата моей клиентки, который был таким же вздорным и тяжелым человеком, как и его сестра, но хотя нам, как их доверенным лицам, приходилось скрещивать мечи, я находил самого Коулсвина вежливым и честным человеком, не из тех адвокатов, которые за достаточные деньги с энтузиазмом отстаивают самые грязные дела. Я догадывался, что его клиент так же раздражает его, как моя клиентка – меня, а кроме того, слышал, что сам он реформатор. В эти дни обо всех ходили слухи, касающиеся их религиозной принадлежности, но лично мне не было до этого дела.
– Вы представляете здесь Линкольнс‑Инн? – спросил Коулсвин.
– Да. А вас избрали от Грейс‑Инна?
– Да. Я не хотел.
– Как и я.
– Жестокое дело. – Филип прямо взглянул на меня.
– Да. Жестокое и ужасное.
– Скоро они объявят противозаконным почитание Бога, – с легкой дрожью в голосе проговорил мой коллега.
Я ответил уклончивой фразой, но сардоническим тоном:
– Наш долг почитать его так, как предписывает король.
– А вот и его предписание, – тихо ответил Коулсвин, после чего покачал головой и добавил: – Прошу прощения, брат, я должен выбирать слова.
– Да, нынче это нужно.
Солдат уже поставил корзину с порохом в угол огражденного пространства. Он перешагнул через ограждение и теперь стоял с другими солдатами лицом к толпе совсем рядом с нами. Потом я увидел, как Томас Ризли наклонился и поманил его пальцем. Солдат побежал на помост под навесом, и я заметил, как Ризли сделал жест в сторону корзины с порохом. Солдат что‑то ответил и вернулся на свое место, а Томас откинулся назад, как будто бы удовлетворенный.
– Что там такое? – спросил солдата стоявший рядом товарищ.
– Он спросил, сколько там пороху, – услышал я его ответ. – Боялся, что когда он взорвется, то горящие хворостины полетят на помост. Я ответил, что пакеты будут привязаны к шее, на достаточной высоте над хворостом.
Его товарищ рассмеялся:
– Радикалы пришли бы в восторг, если б Гардинер и половина Тайного совета тоже сгорели. Джон Бойл мог бы написать про это пьесу.
Я ощутил на себе чей‑то взгляд. Чуть слева от меня стоял юрист в черной робе с двумя молодыми джентльменами в ярких камзолах, выкрашенных дорогой краской, и с жемчугом на шапках. Юрист был молод, лет двадцати пяти – невысокий худой парень с узким умным лицом, с глазами навыкате и реденькой бородкой. Он пристально смотрел на меня, а поймав мой взгляд, отвел глаза.
Я повернулся к Коулсвину:
– Вы знаете этого юриста, что стоит с двумя молодыми попугаями?
Филип покачал головой:
– Пожалуй, видел его пару раз в судах, но не знаком.
– Не важно.
По толпе пробежала новая волна возбуждения, когда с Литтл‑Бритн‑стрит вошла процессия. Новые солдаты окружали троих человек в длинных белых рубахах, одного молодого и двоих средних лет. У всех были застывшие лица с дикими, испуганными глазами. А за ними двое солдат несли стул с привлекательной светловолосой молодой женщиной лет двадцати пяти. Стул покачивался, и она вцепилась в его края, а ее лицо дергалось от боли. Это и была Анна Эскью, которая бросила мужа в Линкольншире, чтобы прийти проповедовать в Лондоне, и говорила, что святое причастие – не более чем кусок хлеба, который заплесневеет, как любой другой, если его оставить в коробке.
– Я не знал, что она так молода, – прошептал Коулсвин.
Несколько констеблей подбежали к горе хвороста и сложили несколько связок в кучу высотой примерно в фут. Затем все мы увидели, как туда повели троих мужчин. Ветки трещали под ногами констеблей, когда они привязывали двоих из них – спина к спине – к одному столбу, а третьего к другому. Послышалось звяканье цепей, когда ими закрепляли лодыжки, пояс и шею несчастных. Потом к третьему столбу поднесли Анну Эскью на стуле. Солдаты поставили ее, и констебли приковали ее цепями за шею и талию.
– Значит, это правда, – сказал Коулсвин. – Ее пытали в Тауэре. Видите, она не может сама стоять.
– Но зачем пытать несчастное создание, когда она уже приговорена? – вырвалось у меня.
– Одному Богу известно.
Солдат вынул из корзины четыре коричневых мешочка, каждый размером с кулак, и аккуратно привязал их к шее каждой жертвы. Приговоренные инстинктивно отшатнулись. Из старого помещения у ворот вышел констебль с зажженным факелом, который бесстрастно встал у ограждения. Все глаза обратились к нему. Толпа затаила дыхание.
Какой‑то пожилой человек в сутане священника поднимался на кафедру. У него были седые волосы и красное, искаженное страхом лицо, и он старался взять себя в руки. Николас Шекстон. Если б не его отступничество, его тоже приковали бы к столбу. В толпе послышался ропот, а потом кто‑то крикнул:
– Позор тебе, что сжигаешь последователей Христа!
Возникло временное смятение, и кто‑то ударил крикнувшего. Двое солдат поспешили разнять сцепившихся.
Шекстон начал проповедь – долгое исследование, оправдывающее древнюю доктрину мессы. Трое осужденных мужчин слушали молча, и один из них не мог унять дрожь. Пот выступил у них на лицах и на белых рубахах. Но Анна Эскью периодически перебивала проповедника криками:
– Он пропускает, говорит не по книге!
Ее лицо теперь казалось радостным и спокойным – она чуть ли не наслаждалась этим представлением. Я подумал, не сошла ли бедняжка с ума. Кто‑то в толпе выкрикнул:
– Хватит! Зажигайте!
Николас наконец закончил. Он медленно спустился, и его повели обратно в здание у ворот. После этого проповедник хотел уйти, но солдаты схватили его за руки и заставили встать в дверях. Его заставят смотреть.
Вокруг осужденных разложили еще хворосту – теперь он уже доходил им до икры. Подошел констебль с факелом и стал по одной зажигать хворостины. Послышалось потрескивание, все затаили дыхание, а когда пламя охватило ноги привязанных, раздались крики. Один из приговоренных мужчин снова и снова кричал: «Христос, прими меня! Христос, прими меня!» Я услышал скорбный стон Анны Эскью и закрыл глаза. Толпа вокруг молча наблюдала.
Крики, треск хвороста, казалось, продолжались вечность. Бытие опять неспокойно затопал копытами, и в какой‑то момент я испытал то ужасное чувство, которое преследовало меня несколько месяцев после потопления «Мэри Роуз» – как будто все качалось и наклонялось подо мной, – и мне пришлось открыть глаза. Коулсвин мрачно смотрел перед собой, и я не удержался, чтобы проследить за его взглядом. Языки пламени быстро поднимались, легкие и прозрачные среди ясного июльского дня. Трое мужчин еще вопили и корчились: пламя добралось до их рук и нижней части туловища и сожгло кожу, кровь капала в огонь. Двое из них наклонились вперед в безумной попытке воспламенить порох, но пламя было еще недостаточно высоким. Анна Эскью сгорбилась на своем стуле, словно потеряв сознание. Мне стало плохо. Я посмотрел на ряд лиц под навесом – все смотрели сурово, нахмурив брови. Потом я увидел худого молодого юриста, снова посмотревшего на меня из толпы, и с беспокойством подумал: «Кто он такой? Что ему нужно?»
Коулсвин застонал и поник в седле. Я протянул руку, чтобы поддержать его. Он глубоко вдохнул и выпрямился.
– Мужайтесь, брат, – тихо сказал я.
Коллега посмотрел на меня – его лицо было бледным, на нем бусинами выступил пот.
– Вы понимаете, что любого из нас теперь может постичь такое? – прошептал он.
Я увидел, что некоторые в толпе отворачиваются. Какой‑то ребенок или даже двое детей плакали, потрясенные страшным зрелищем. Я заметил, что один из голландских купцов вытащил маленький молитвенник и, держа его раскрытым перед собой, тихо читал молитву. Но большинство смеялись и шутили. Теперь, кроме вони толпы, над Смитфилдом стоял запах дыма, смешанный с другим, знакомым по кухне, – запахом жареного мяса. Я невольно взглянул на столбы. Пламя поднялось выше, тела жертв почернели снизу, тут и там показались белые кости, а в верхней части все было красным от крови, и пламя лизало ее. С ужасом я увидел, что к Анне Эскью вернулось сознание и она жалобно застонала, когда сгорела ее рубаха.
Она начала что‑то кричать, но потом пламя добралось до мешочка с порохом, и ей разнесло голову – кровь, кости и мозги взлетели в воздух и с шипением упали в огонь.
Глава 2
Как только все закончилось, я поехал прочь вместе с Коулсвином. Трое мужчин у столбов умирали дольше, чем Анна Эскью: они были прикованы стоя, а не сидя, и прошло еще с полчаса, прежде чем пламя добралось до мешочка с порохом на шее у последней жертвы. На протяжении всего этого времени я держал глаза закрытыми. Если б я мог также заткнуть уши!
Двигаясь по Чик‑лейн по направлению к судебным иннам, мы не разговаривали, но потом Филип все же прервал тягостное молчание:
– Я слишком откровенно говорил о своих тайных думах, брат Шардлейк. Я знаю, что следует соблюдать осторожность.
– Ничего, – ответил я. – Трудно сдержаться, когда видишь такое. – Тут я вспомнил его замечание, что любого из нас может постичь то же самое, и, подумав, не связан ли он с радикалами, сменил тему. – Сегодня я встречаюсь с моей клиенткой миссис Слэннинг. Нам обоим нужно многое сделать, прежде чем процесс продолжится в сентябре.
Коулсвин иронически рассмеялся – словно залаял.
– Действительно. – Его взгляд говорил, что его мнение об этом деле совпадает с моим.
Мы доехали до Саффронского холма, где наши пути разошлись: Филипу нужно было в Грейс‑Инн, а мне – в Линкольнс‑Инн. Я еще не был готов взяться за работу и поэтому предложил:
– Может быть, по кружке пива, брат?
Мой коллега покачал головой:
– Спасибо, но не могу. Вернусь в инн, попытаюсь отвлечься какой‑нибудь работой. Дай вам Бог доброго дня.
– И вам того же, брат.
Я смотрел, как адвокат, ссутулившись в седле, поехал прочь, но сам был еще не в силах вернуться в Линкольнс‑Инн и, сняв шляпу и белую шапочку, поехал в Холборн.
* * *
Я нашел тихий постоялый двор у церкви Святого Андрея. Наверное, он будет переполнен, когда толпа пойдет со Смитфилдской площади, но сейчас за столами сидели всего несколько стариков. Я взял кружку пива и устроился в тихом уголке. Пиво оказалось мутной бурдой, на поверхности которой плавала какая‑то пленка.
Мои мысли, как часто бывало, вернулись к королеве. Я вспоминал, как впервые встретился с ней, когда она была еще леди Латимер. Мои чувства к ней не ослабли, хотя я и говорил себе, что это смешные, глупые фантазии, что мне нужно найти себе женщину своего положения, пока я еще не состарился. Я надеялся, что у нее нет никаких книг из нового запретного списка. Список этот был длинный – Лютер, Тиндейл, Ковердейл и, конечно, Джон Бойл, чья непристойная новая книга «Акты английских монахов» о монахах и монахинях пользовалась большой популярностью среди лондонских подмастерьев. У меня самого были старые экземпляры Тиндейла и Ковердейла. За их сдачу была объявлена амнистия, срок которой истекал через три недели, но я подумал, что безопаснее будет тихо сжечь их в саду.
В трактир вошла небольшая компания.
– Хорошо скрыться от этого запаха, – сказал один из посетителей.
– Это лучше, чем смрад лютеранства, – прорычал другой.
– Лютер умер, и его похоронили, и Эскью с остальными тоже.
– В сумерках шныряет множество других.
– Брось, давай выпьем! У них тут есть пироги?
Решив, что пора уходить, я допил пиво и вышел на улицу. Мне не удалось сегодня пообедать, но мысль о еде вызывала у меня тошноту.
* * *
Я поехал назад через арку Линкольнс‑Инн, снова в своей робе, черной шляпе и белой шапочке. Оставив Бытие в конюшне, пошел к себе в кабинет. К моему удивлению, контора кипела активностью. Все три моих работника – мой помощник Джек Барак, клерк Джон Скелли и новый ученик Николас Овертон – бешено разыскивали что‑то среди бумаг на столах и полках.
– Божье наказание! – кричал Барак на Николаса, развязав ленту краткого изложения дела и начав быстро просматривать листы. – Не мог хотя бы запомнить, когда последний раз его видел?
Овертон, отвлекшись от просматривания другой стопки бумаг, поднял свое веснушчатое лицо под светло‑рыжей шевелюрой.
– Дня два назад – может быть, три. Мне дали просмотреть столько документов…
Скелли внимательно посмотрел на Николаса через очки. Взгляд у него был снисходительным, но голос прозвучал строго:
– Просто если б вы запомнили, мастер Овертон, это немного сузило бы область поисков.
– Что тут происходит? – спросил я, остановившись в дверях.
Мои подручные были так заняты своими бешеными поисками, что не видели, как я вошел. Барак повернулся ко мне с рассерженным красным лицом над бородой:
– Мастер Николас потерял документ Карлингфорда о передаче собственности! Все свидетельства, что Карлингфорд – владелец своей земли, а документ нужно представить суду в первый же день сессии… Тупая дубина! – пробормотал он. – Безмозглый идиот!
Овертон, покраснев, посмотрел на меня:
– Я нечаянно.
Я вздохнул. Я взял этого молодого человека на работу два месяца назад по просьбе одного друга, барристера, перед которым я был в долгу, и уже почти жалел о том, что сделал это. Николас был из линкольнширской дворянской семьи и на двадцать втором году жизни, очевидно так и не решив, к чему лежит его сердце, согласился поработать год‑другой в Линкольнс‑Инн, чтобы понять, как закон может помочь ему управлять отцовским поместьем. Мой друг намекал, что между Николасом и его семьей произошел какой‑то разлад, но уверял меня, что он хороший парень. И в самом деле, Овертон оказался добродушным, но безответственным. Как и большинство других джентльменов его возраста, он проводил много времени, исследуя лондонские злачные места, и уже имел неприятности из‑за драки на мечах с другим студентом за проститутку. Этой весной король закрыл саутуоркские бордели, но в результате через реку в город стало ходить еще больше проституток. Большинство молодых дворян учились фехтованию на мечах, а их статус позволял им носить меч в городе, но таверны – неподходящее место, чтобы демонстрировать свою ловкость в этом деле. А острый меч – смертоносное оружие, особенно в неосторожных руках.
Посмотрев на высокую поджарую фигуру Овертона, я заметил под его ученической блузой зеленый камзол с разрезами, из‑под которых виднелась подкладка из тонкого желтого дамаста, в нарушение правил инна, предписывающих ученикам носить скромное платье.
– Продолжайте искать, но спокойнее, – сказал я и спросил напрямик: – Николас, ты не выносил этот документ из конторы?
– Нет, мастер Шардлейк, – ответил парень. – Я знаю, что это запрещено. – У него была изысканная речь с легкой линкольнширской картавостью, а его лицо с длинным носом и округлым подбородком выглядело теперь очень расстроенным.
– Так же, как и ношение шелковых камзолов с разрезами. Ты хочешь неприятностей от казначея? Когда найдешь документ, ступай домой и переоденься, – велел я ему.
– Да, сэр, – смиренно ответил молодой человек.
– А когда сегодня придет миссис Слэннинг, я хочу, чтобы ты сидел при нашем разговоре и вел записи, – добавил я.
– Да, сэр.
– А если документ так и не найдется, останься допоздна и найди его.
– Сожжение закончилось? – неуверенно рискнул спросить Скелли.
– Да. Но я не хочу об этом говорить, – отрезал я.
Барак взглянул на меня:
– У меня для вас пара новостей. Новости хорошие, но не для огласки.
– Хорошие новости мне сегодня не помешают.
– Я думаю, – с сочувствием ответил Джек.
– Зайдем в мой кабинет.
Он прошел за мной в кабинет, где из окна с тонким переплетом виднелся внутренний двор. Я снял свою робу и шапку и сел за стол, а Барак уселся напротив. Я заметил проблески седины в его темно‑русой бороде, хотя в волосах ее еще не было. Джеку было тридцать четыре года, на десять лет меньше, чем мне, но его некогда худое лицо уже начало расплываться.
– Эта задница, молодой Овертон, доведет меня до могилы. Все равно что надзирать за обезьяной, – проворчал он.
Я улыбнулся:
– Да нет, он не так глуп. На прошлой неделе он неплохо подготовил для меня изложение дела Беннетта. Ему просто нужно организоваться.
Барак хмыкнул:
– Я рад, что вы сказали ему про одежду. Было бы неплохо, если б я мог позволить себе носить шелка.
– Он еще молодой, немного безответственный, – криво улыбнулся я. – Каким был и ты, когда мы только встретились. Николас, по крайней мере, не сквернословит, как солдат.
Мой помощник опять хмыкнул, а потом посмотрел на меня серьезным взглядом:
– Как там было? На сожжении?
– Ужасно, неописуемо. Но каждый исполнял свою роль, – горько добавил я. – Толпа, городские власти и сидевшие на помосте члены Тайного совета. На каком‑то этапе случилась небольшая стычка, но солдаты быстро ее прекратили. Те несчастные умерли ужасной смертью, но достойно.
Барак покачал головой:
– Почему они не могли отречься?
– Наверное, думали, что отречение навлечет на них проклятье, – вздохнул я. – Ну а что за хорошие новости?
– Вот первая. Пришла сегодня утром. – Джек поднес руку к кошельку на поясе, вытащил три ярких, маслянистых золотых соверена и положил их на стол вместе со сложенным листом бумаги.
Я посмотрел на них:
– Просроченный гонорар?
– Можно и так сказать. Посмотрите на записку.
Я взял листок и развернул его. Там было послание, написанное трясущейся рукой.
Вот деньги, которые я должен вам за содержание с тех пор, как жил у миссис Эллиард. Я тяжело болен и прошу навестить меня.
Ваш собрат по профессии, Стивен Билкнап.
Барак улыбнулся:
– Вы даже рот разинули. Неудивительно, я тоже разинул, когда увидел.
Я взял соверены и внимательно рассмотрел их – не шутка ли? Но это были настоящие золотые монеты, выпущенные до снижения качества чеканки, с изображением короля на одной стороне и тюдоровской розы на другой. В это было почти невозможно поверить. Стивен Билкнап был известен не только своей бессовестностью – как в личной, так и в профессиональной жизни, – но также и скупостью: говорили, что он держит дома сундук с сокровищами и по ночам любуется ими. За годы Билкнап скопил свое богатство путем всевозможных грязных сделок, отчасти заключенных во вред мне, а кроме того, предметом его гордости была невыплата долгов, если ему удавалось уклониться от нее. Три года назад в приливе неуместного великодушия я заплатил одному моему другу, чтобы тот присмотрел за ним, когда он заболел, и Билкнап не возместил мне моих расходов.
– В это почти невозможно поверить, – стал рассуждать я. – И все же, помнится, прошлой осенью, перед тем как заболеть, он какое‑то время был со мной дружелюбен. Пришел ко мне и спросил, как я поживаю, как идут дела, словно был моим другом или собирался им стать.
Я вспомнил, как в один прекрасный осенний день Стивен подошел ко мне через четырехугольник двора – его черная роба болталась на тощей фигуре, а на измученном лице была болезненная заискивающая улыбка. Жесткие светлые волосы, как обычно, клочками торчали во все стороны из‑под шапки. «Мастер Шардлейк, как поживаете?» – спросил он тогда. Вспоминая об этом, я покачал головой.
– Я был с ним краток. Я не доверял ему ни на грош, конечно, и был уверен, что за этим что‑то кроется. И он никогда не упоминал о деньгах, которые задолжал мне. А через некоторое время понял, что я о нем думаю, – и опять стал меня игнорировать.
– Может быть, он раскаивается в своих грехах, если действительно так заболел, как говорят…
– Опухоль в кишках? Он болеет уже два месяца, верно? Я не видел, чтобы он выходил. Кто принес записку?
– Какая‑то старуха. Сказала, что ухаживает за ним.
– Святая Мария! – воскликнул я. – Билкнап возвращает долг и просит прийти?
– Вы пойдете навестить его?
– Полагаю, милосердие этого требует. – Я удивленно покачал головой. – А какая вторая новость? После первой, если ты скажешь, что над Лондоном летают лягушки, я, наверное, не удивлюсь.
Джек опять улыбнулся счастливой улыбкой, которая смягчила его черты.
– Нет, это сюрприз, но не чудо. Тамасин снова ждет ребенка.
Я склонился над столом и схватил его за руку.
– Это хорошая новость. Я знал, что вы хотите еще.
– Да. Братишку или сестренку для Джорджи. Говорит, что в январе.
– Чудесно, Джек, мои поздравления. Мы должны это отпраздновать.
– Мы пока не объявили об этом. Но приходите на небольшую вечеринку, которую мы устроим на первый день рождения Джорджи, двадцать седьмого. Там и объявим всем. И не могли бы вы попросить прийти Старого Мавра? Он хорошо ухаживал за Тамасин, когда она носила Джорджи.
– Гай сегодня придет ко мне на ужин. Вечером я попрошу его.
– Хорошо. – Барак откинулся на спинку стула и удовлетворенно сложил руки на животе.
Их с Тамасин первый ребенок умер, и одно время я боялся, что беда навсегда разорвет их отношения, но в прошлом году у них родился здоровый мальчик. И вот теперь Тамасин уже ждет второго ребенка, так скоро… Я подумал, как успокоился в последнее время Барак, как он не похож теперь на того беснующегося парня, выполнявшего сомнительные поручения Томаса Кромвеля, когда я познакомился с ним шесть лет назад.
– Чувствую, я воспрянул духом, – сказал я. – Возможно, в конце концов, в этом мире может происходить и что‑то хорошее.
– Вам надлежит доложить о сожжении казначею Роуленду?
– Да. Я заверю его, что мое представительство от инна было замечено. Среди прочих Ричардом Ричем.
Джек приподнял брови:
– Этот негодяй был там?
– Да. Я не видел его целый год. Но он, конечно, меня запомнил. И бросил на меня злобный взгляд.
– На большее он не способен. У вас на него слишком много материалов.
– У него был обеспокоенный вид. Не знаю почему. Я думал, нынче он высоко взлетел, считает себя ровней с Гардинером и консерваторами. – Я посмотрел на Барака. – Ты поддерживаешь связь со своими друзьями, с которыми вместе служил Кромвелю? Слышал какие‑нибудь сплетни?
– Я иногда захожу в старые таверны, когда Тамасин позволяет. Но слышу мало. И заранее скажу, что о королеве – ничего.
– Слухи, что Анну Эскью пытали в Тауэре, оказались правдой, – сказал я. – Ее пришлось нести к столбу на стуле.
– Бедняга… – Барак задумчиво погладил бороду. – Не знаю, как просочилась эта информация. Должно быть, в Тауэре служит кто‑нибудь из сочувствующих радикалам. Но я лишь слышал от моих друзей, что епископ Гардинер сейчас имеет доступ к уху короля, а это и так все знают. Не думаю, что архиепископ Кранмер присутствовал при сожжении, а?
– Нет. Наверное, он от греха подальше не покидает Кентербери. – Я покачал головой. – Удивительно, что он так долго продержался. Кстати, на сожжении был один молодой юрист с какими‑то джентльменами, который не отрывал от меня глаз. Невысокий и худой, с русыми волосами и бородкой. Я гадал, кто это может быть.
– Вероятно, кто‑нибудь из ваших оппонентов на следующей сессии – составлял мнение о противной стороне.
– Возможно. – Я потрогал монеты на столе.
– Не думайте постоянно, что кто‑то за вами следит, – тихо проговорил Барак.
– Да, грешен. Но что тут удивляться, после всего, что было в последние годы? – вздохнул я. – Кстати, на сожжении я встретил нашего коллегу Коулсвина: его заставили представлять Грейс‑Инн. Это достойный человек.
– В отличие от его клиента. Или вашей клиентки. Поделом этому долговязому Николасу, придется ему сегодня посидеть со старой каргой Слэннинг!
Я улыбнулся:
– Да, я тоже об этом подумал. Что ж, пойду посмотрю, не нашел ли он документ.
Джек встал.
– Я пну его в задницу, если не нашел, джентльмен он или нет…
С этими словами Барак оставил меня щупать монеты. Посмотрев на записку, я не удержался от мысли: «Что еще задумал теперь Билкнап?»
* * *
Миссис Изабель Слэннинг пунктуально прибыла ровно в три. Николас, уже в более скромном камзоле из тонкой черной шерсти, сидел рядом со мной с пером и бумагой. К счастью для него, он нашел пропавший документ, пока я разговаривал с Бараком.
Скелли с некоторой опаской пригласил миссис Слэннинг войти. Это была высокая худая вдова на шестом десятке, хотя морщины на ее лице, тонкие поджатые губы и постоянная нахмуренность старили ее еще больше. Я раньше видел ее брата Эдварда Коттерстоука на слушаньях в суде на прошлой сессии, и меня удивило, как он похож на нее комплекцией и лицом, разве что у него была маленькая седая бородка. На Изабель было фиолетовое платье из тонкой шерсти с модным стоячим воротником, прикрывающим ее тощую шею, и бесцветный капор, расшитый мелким жемчугом. Она была состоятельной женщиной: ее последний муж был успешным галантерейщиком, и, как многие вдовы богатых торговцев, она приобрела властную внешность, которую можно было бы счесть нелепой для женщины низкого сословия. Слэннинг холодно поздоровалась со мной, а на Николаса и вовсе не обратила внимания.
И, как всегда, сразу перешла к делу.
– Ну, мастер Шардлейк, что у нас нового? Я полагаю, что этот негодяй Эдвард снова пытается затянуть дело? – Ее большие карие глаза смотрели с осуждением.
– Нет, мадам, дело включено в список для рассмотрения Королевской коллегией в сентябре.
Я предложил ей сесть, снова задавшись вопросом, почему они с братом так ненавидят друг друга. Их отцом был купец, преуспевающий хлеботорговец, который умер совсем молодым. Их мать снова вышла замуж, а его дело перешло к их отчиму, но через год тот тоже умер, после чего миссис Коттерстоук продала все предприятие и жила оставшуюся жизнь на вырученные деньги – весьма существенные. Больше замуж она не выходила и умерла в прошлом году в возрасте восьмидесяти лет после апоплексического удара. Священник засвидетельствовал ее завещание на смертном одре. По большей части все в нем было ясно: деньги делились поровну между двумя ее детьми, большой дом близ Чандлерс‑холла, в котором она жила, надлежало продать, а вырученные деньги опять же делились поровну. Эдвард, как и Изабель, обладал средним достатком – он служил старшим клерком в ратуше – и для обоих состояние матери явилось существенным обогащением. Трудность возникла в распоряжении домашним имуществом. Вся мебель должна была достаться Эдварду, однако все гобелены, ковры и картины «всякого рода внутри дома, любой природы, где бы и как бы они ни были закреплены» доставались Изабель. Это была необычная формулировка, но я получил показания священника, который записывал завещание, и он определенно заявил, что престарелая леди, которая до самой смерти оставалась в здравом уме, настаивала именно на таких словах.
Эта формулировка и довела нас до нынешнего положения дел. Первый муж старой миссис Коттерстоук, отец обоих детей, интересовался живописью, и их дом был полон произведениями искусства: так, имелось много гобеленов, несколько портретов, и, самое главное, в столовой, прямо по штукатурке, была расписана целая стена. Я посетил этот дом, ныне пустующий, если не считать старого слуги, оставленного в качестве сторожа, и осмотрел роспись. Я умею ценить живопись – в молодые годы сам рисовал и писал красками, – и эта фреска была особенно изысканной. Написанная примерно пятьдесят лет назад, в правление старого короля, она изображала семейную сцену: молодая миссис Коттерстоук и ее муж в наряде, соответствующем его сословию, и высокой шляпе тех времен сидят вместе с Эдвардом и Изабель, маленькими детьми, в этой самой комнате. Лица сидящих, как и летние цветы на столе и лондонские улицы за окнами, были тонко прорисованы: старая хозяйка следила, чтобы роспись регулярно освежалась и краски не теряли своей яркости, так как эта картина тоже стала бы имуществом при продаже дома. Поскольку фреска была написана прямо на стене, по закону она являлась соединенной с недвижимостью, но особая формулировка в завещании старой леди позволяла Изабель заявить, что роспись по праву принадлежит ей и должна быть удалена из дома, если понадобится, вместе со стеной – которая хотя и не была несущей, но не могла быть снесена без повреждения фрески. Эдвард отказался отдать картину, настаивая, что она является частью недвижимости и должна остаться в доме. Споры о наследовании недвижимости – каковой являлся дом – разбирались Королевской судебной коллегией, но споры о движимом имуществе – а Изабель настаивала, что картина является движимостью – все еще оставались под юрисдикцией Церкви и рассматривались Епископским судом. Таким образом, мы с беднягой Коулсвином, прежде чем рассматривать завещание по существу, погрязли в спорах о том, к юрисдикции какого суда относится это дело. В последние месяцы Епископский суд постановил, что роспись является движимым имуществом. Изабель вынудила меня обратиться в Королевскую коллегию, которая, всегда стремясь заявить свое верховенство над церковными судами, постановила, что вопрос входит в ее юрисдикцию, и назначила отдельное слушанье на осень. В общем, дело перебрасывали туда‑сюда, как теннисный мяч, с привязанным к нему имуществом.
– Мой брат попытается снова затянуть дело, вот увидите, – сказала моя клиентка своим обычным самоуверенным тоном. – Он пытается взять меня измором, но ничего у него не выйдет. С этим его адвокатом. Это хитрый и коварный тип. – Она возмущенно возвысила голос, как это всегда случалось после пары произнесенных фраз.
– Мастер Коулсвин вел себя в этом деле откровенно, – решительно ответил я. – Да, он пытался отложить слушанья, но адвокаты ответчика всегда так делают. Он должен следовать инструкциям своего клиента, так же как я – вашим.
Николас, сидящий рядом со мною, записывал каждое наше слово, и его длинные тонкие пальцы быстро двигались по бумаге. По крайней мере, он получил хорошее образование и писал хорошим секретарским почерком.
Миссис Слэннинг возмутилась:
– Этот Коулсвин – протестантский еретик, как и мой брат! Они оба ходят в церковь Святого Иуды, где сняты образа, а священник отправляет службу за пустым столом. – Это была еще одна кость раздора между сестрой и братом: Изабель оставалась твердой традиционалисткой, в то время как Эдвард был реформатором. – Этого священника следует сжечь, – продолжила она, – как ту Эскью и ее сторонников.
– Вы были на сожжении сегодня утром, миссис Слэннинг? – спокойным тоном спросил я. Сам я ее там не видел.
Женщина наморщила нос:
– Я не хожу на такие зрелища. Но те четверо заслужили это.
Я заметил, как Николас сжал губы. Он никогда не говорил о религии – по крайней мере, в этом отношении парень держался осмотрительно.
– Миссис Слэннинг, – сказал я, меняя тему разговора, – когда мы пойдем в суд, результат будет совершенно непредсказуем. Это очень необычное дело.
Изабель задрала подбородок:
– Справедливость восторжествует. И мне известно ваше мастерство, мастер Шардлейк. Потому я и наняла сержанта юстиции, дабы он представлял в суде мои интересы. Я всегда любила эту картину. – В ее голосе проскользнуло какое‑то чувство. – Это единственная память о моем дорогом отце.
– С моей стороны было бы нечестно, если б я оценил наши шансы выше, чем пятьдесят на пятьдесят, – предупредил я ее. – Многое будет зависеть от показаний экспертов и свидетелей. – По крайней мере, было достигнуто соглашение, что каждая сторона выберет из списка членов гильдии столяров и плотников эксперта, который будет докладывать суду, можно ли переместить роспись, а если можно, то как. – Вы посмотрели список, который я вам дал?
Клиентка отмахнулась:
– Я никого из них не знаю. Вы должны порекомендовать мне человека, который скажет, что картину можно легко перенести. Наверняка кто‑то сделает это за хорошее вознаграждение. Сколько бы это ни стоило, я заплачу.
– Нанять меч, – уныло проговорил я. Так назывались эксперты, которые за хорошее вознаграждение поклянутся, что черное – это белое. Конечно, таких хватало.
– Именно.
– Проблема в том, миссис Слэннинг, что суды знают подобных экспертов и их слова не вызовут большого доверия. Нам лучше выбрать такого, кто известен суду своей честностью.
– А что, если его оценка окажется не в нашу пользу?
– Тогда, миссис Слэннинг, нам придется снова подумать.
Изабель нахмурилась, и ее глаза превратились в узкие щелки.
– Вот для такого случая мы и выберем наемный меч, как его и определяет это странное название. – Она высокомерно посмотрела на меня, словно это я, а не она предложила обмануть суд.
Я взял со стола свою копию списка:
– Я бы посоветовал выбрать мастера Флетчера. Я имел с ним дело раньше, он уважаемый человек.
– Нет, – возразила женщина. – Я советовалась насчет списка. Там есть мастер Адам, он глава гильдии, и если есть способ снять картину – а я уверена, что есть, – то он его найдет.
– Я думаю, мастер Флетчер подошел бы лучше. Он имеет опыт в тяжбах.
– Нет, – решительно повторила моя подопечная. – Я сказала: мастер Адам. Я помолилась об этом и полагаю, что это тот человек, который склонит справедливость на мою сторону.
Я посмотрел на нее. Помолилась об этом? Неужели она думает, что сам Бог вмешивается в разбирательства сомнительных судебных исков? Но ее высокомерный тон и твердо сжатые губы сказали мне, что ее не переубедить.
– Очень хорошо, – сдался я, и она надменно кивнула. – Но помните, миссис Слэннинг: это ваш выбор. Я ничего не знаю о мастере Адаме. Я назначу день, когда два эксперта смогут встретиться в доме. Как можно скорее.
– А они не могут осмотреть стену по отдельности?
– Суду это не понравится.
Дама вновь нахмурилась:
– Суд, суд!.. Тут важны мои доводы. – Она глубоко вздохнула. – Что ж, если я проиграю в Королевской коллегии, то обращусь Канцлерский суд.
– По всей вероятности, то же самое сделает и ваш брат, если проиграет.
Я снова задумался о злобе брата и сестры друг на друга. Мне было известно, что эта враждебность зародилась давно: до смерти матери они несколько лет не разговаривали. Изабель с презрением отзывалась о том, как Эдвард не взял на себя руководство бизнесом после смерти отчима и как он уже мог бы быть олдерменом[8], если б совершил усилие. И снова я задумался, почему их мать настояла на такой формулировке в завещании. Было даже похоже, что она зачем‑то хотела еще больше поссорить детей.
– Вы видели мой последний счет издержек по делу, миссис Слэннинг? – спросил я.
– И сразу оплатила, сержант Шардлейк. – Клиентка снова заносчиво подняла подбородок.
И правда, она всегда расплачивалась сразу и без вопросов. Это не Билкнап.
– Я знаю, мадам, и благодарен за это. Но если дело перейдет на следующий год в Канцлерский суд, издержки будут расти и расти.
– Тогда вы должны заставить Эдварда заплатить за все.
– Обычно в делах о завещании издержки покрываются из имущества. И помните, с обесцениванием денег дом и деньги вашей матери тоже дешевеют. Не будет ли разумнее, практичнее попытаться заключить мировое соглашение прямо сейчас?
– Сэр, вы мой адвокат! – возмутилась Изабель. – Вы, конечно же, должны советовать мне, как выиграть дело, а не как закончить его без явной победы.
Ее тон снова повысился, в то время как я намеренно продолжал говорить тихо.
– Многие договариваются, когда результат не определен, а расходы велики. Как в нашем случае. Я думал об этом. Вы не рассматривали такой вариант – выкупить у Эдварда его долю и продать собственное жилье? Тогда вы могли бы жить в доме матери и оставить стену с росписью нетронутой, такой, как она сейчас выглядит.
Миссис Слэннинг издала неприятный смешок:
– Дом матери слишком велик для меня. Я бездетная вдова. Я знаю, что она жила в нем одна, если не считать слуг, но она была глупа – он слишком велик для одинокой женщины. Эти огромные комнаты… Нет, у меня в собственности будет снятая картина. Ее снимут лучшие лондонские мастера. Чего бы это ни стоило. И потом я заставлю Эдварда заплатить.
Я опять посмотрел на эту даму. У меня в свое время было немало трудных, безрассудных клиентов, но упрямство Изабель Слэннинг и злоба ее брата были чем‑то выдающимся. И в то же время она была умной женщиной, не старой дурой – разве что выставляла себя такой в этой тяжбе.
Что ж, я сделал то, что было в моих силах.
– Очень хорошо, – кивнул я. – Думаю, теперь нам следует вернуться к вашему последнему заявлению. Кое‑что из ваших утверждений, я думаю, лучше поправить. Мы должны показать суду нашу рассудительность. Называть брата упрямым мошенником – это не принесет пользы.
– Суд должен знать, кто он такой.
– Это не принесет вам пользы.
Миссис Слэннинг пожала плечами, но потом кивнула и поправила капор на седой голове. Я взял заявление. Внезапно Николас подался ко мне и спросил:
– С вашего позволения, сэр, могу я задать почтенной леди один вопрос?
Я поколебался в нерешительности, но его обучение было моей обязанностью.
– Если хочешь, – согласился я.
Овертон посмотрел на Изабель:
– Вы сказали, мадам, что ваш дом намного меньше, чем дом вашей матери.
Она кивнула:
– Да. Но для моих нужд его хватает.
– С не такими большими комнатами?
– Да, молодой человек, – раздраженно ответила женщина. – Когда дом меньше, то и комнаты меньше. Это всем известно.
– Но, насколько я понимаю, картина находится в самой большой комнате в доме вашей матери. И если вы сможете каким‑то образом снять ее, куда вы ее поместите?
Изабель покраснела и возмутилась:
– Это не ваше дело, юноша! Ваше дело – вести записи для вашего хозяина.
Николас в свою очередь покраснел и склонился над бумагами. Однако это был очень хороший вопрос.
* * *
Целый час мы рылись в документах, и мне удалось убедить миссис Слэннинг убрать из заявления разные оскорбительные комментарии о ее брате. К тому времени у меня уже все плыло перед глазами от усталости. Николас собрал свои записи и, поклонившись Изабель, вышел. Она встала, по‑прежнему полная энергии, но нахмуренная: похоже, ее рассердил вопрос Овертона. Я отправился проводить ее на улицу, где ее ждал слуга, чтобы отвезти домой. Миссис Слэннинг встала передо мной – она была высокой женщиной – и своими решительными глазами посмотрела прямо в мои.
– Признаюсь, мастер Шардлейк, иногда я не чувствую уверенности, что вы расположены к этому делу должным образом. А этот наглый юноша… – Она сердито покачала головой.
– Мадам, – ответил я, – вы можете быть уверены, что я буду отстаивать ваше дело со всем рвением, на какое способен. Но моя обязанность – рассмотреть для вас альтернативы и предупредить об издержках. Конечно, если вы мною не удовлетворены и хотите передать дело другому барристеру…
Изабель непреклонно покачала головой:
– Нет, сэр, не бойтесь, я оставлю его у вас.
Я уже не один раз делал ей подобное предложение, но странное дело – самые тяжелые и враждебно настроенные ко мне клиенты больше всего не хотели уходить от меня, словно назло стремились довести меня до ручки.
– Впрочем… – заколебалась вдруг моя собеседница.
– Да?
– Я думаю, вы не до конца понимаете моего брата. – На ее лице появилось выражение, какого я еще не видел. Несомненно, в нем был страх – страх, который исказил ее лицо, придав новые черты. На секунду Изабель стала просто испуганной старой женщиной. – Если б вы знали, сэр, – тихо продолжила она. – Если б вы знали, какие страшные вещи совершил мой брат…
– Что вы имеете в виду? Он что‑то сделал вам?
– И другим, – свирепо прошипела миссис Слэннинг, к которой вернулась ее злоба.
– Какие вещи, мадам? – настаивал я.
Но Изабель решительно замотала головой, будто пытаясь вытряхнуть из нее неприятные мысли, и глубоко вздохнула:
– Это не важно. Они не имеют отношения к данному делу.
Она повернулась и быстро вышла из комнаты. Льняные крылышки ее капора сердито рассекали воздух за ней.
Глава 3
Домой я вернулся в седьмом часу. В семь должен был прийти мой друг Гай – поздновато для ужина, но он, как и я, работал допоздна. Как обычно, Мартин услышал, как я спешился, и ждал в прихожей, чтобы принять у меня робу и шапку. Я решил пойти в сад и немного насладиться вечерним воздухом. Недавно я устроил в конце сада небольшую беседку с несколькими стульями, где можно было посидеть и полюбоваться цветочными клумбами.
Тени уже удлинились, а вокруг улья все еще жужжали несколько пчел. На деревьях ворковали вяхири, и я откинулся на спинку стула. Я заметил, что во время разговора с Изабель Слэннинг совсем забыл про сожжение – такова была сила ее личности. Молодой Николас задал ей неглупый вопрос о том, куда она денет роспись. Ее ответ оказался еще одним доказательством того, что для этой дамы самым важным было просто выиграть тяжбу. Я снова подумал о странном замечании в конце разговора – о каких‑то страшных вещах, которые якобы совершил ее брат. Во время наших встреч она обычно ничего так не любила, как обвинять и унижать Эдварда, но этот прилив страха был чем‑то новым.
Я обдумал, не стоит ли втихую поговорить с Филипом Коулсвином о наших клиентах. Но это было бы нарушением профессиональной этики. Мой долг, как и его, – всеми силами отстаивать интересы своего подопечного.
Мои мысли снова вернулись к ужасам утра. Огромный помост, наверное, уже убрали вместе с обугленными столбами. Я подумал о Коулсвине, сказавшем, что любой из нас теперь может подвергнуться тому же, и задал себе вопрос, нет ли у него самого опасных связей среди радикалов. А мне нужно избавиться от моих книг, пока не истек срок амнистии, вспомнил я и посмотрел на дом. Через окна столовой было видно, как Мартин зажигает восковые свечи в канделябрах, накрывает стол льняной скатертью и выкладывает мое лучшее серебро, тщательно выравнивая приборы.
Вернувшись в дом, я пошел на кухню. Там царил переполох. Тимоти поворачивал над плитой большую курицу, Джозефина, стоя у края стола, раскладывала салаты на тарелки, стараясь, чтобы все выглядело красиво, а у другого края Агнесса Броккет заканчивала приготовление миндального марципана. Когда я вошел, обе служанки сделали книксен. Агнесса была пухленькой женщиной за сорок с каштановыми волосами под чистым белым чепцом и с милым личиком. Впрочем, была на нем и грусть. Я знал, что у Броккетов есть взрослый сын, с которым они почему‑то не видятся – Мартин как‑то упомянул это в разговоре, но не вдавался в подробности.
– Похоже на блюдо для пира, – сказал я, глядя на марципан. – Должно быть, стоило вам большого труда.
Агнесса улыбнулась:
– Мне самой приятно готовить хорошее блюдо, сэр, как, наверное, скульптору приятно доводить до совершенства статую.
– Плоды его труда живут дольше. Но твои, возможно, приносят больше удовольствия.
– Спасибо, сэр, – ответила она. Миссис Броккет ценила комплименты. – Джозефина помогла, правда, дорогая?
Вторая служанка кивнула, неуверенно улыбнувшись мне. Я посмотрел на нее. Ее приемный отец, жестокий мерзавец, раньше служил у меня стюардом, и когда я буквально прогнал его из дома год назад, Джозефина осталась. Отец много лет запугивал и подавлял ее, но когда он исчез, дочь постепенно перестала быть робкой и запуганной. Она также стала следить за своей внешностью: теперь ее распущенные светлые волосы блестели, а лицо округлилось. Она стала хорошенькой молодой женщиной. Проследив за моим взглядом, Агнесса снова улыбнулась.
– Джозефина ждет не дождется воскресенья, – лукаво проговорила она.
– Вот как? Почему же? – поинтересовался я.
– Маленькая птичка нащебетала мне, что после церкви она пойдет гулять с молодым мастером Брауном, который служит в одном доме в Линкольнс‑Инн.
Я посмотрел на Джозефину:
– У кого же?
– У мастера Хеннинга, – краснея, ответила девушка. – Он живет при конторе.
– Хорошо, хорошо. Я знаю мастера Хеннинга, он прекрасный юрист. – Я снова повернулся к Агнессе: – Мне нужно сходить помыться, прежде чем придет гость. – При всем своем добродушии Агнесса умела быть немного деспотична, а я не хотел дальше смущать Джозефину. Но я был рад – девушке давно уже было пора завести молодого человека.
Когда я вышел из кухни, вернулся Мартин. Он поклонился:
– Стол накрыт, сэр.
– Хорошо. Спасибо.
На секунду я поймал взгляд Джозефины, брошенный на него, и это был неприязненный взгляд. Я и раньше пару раз замечал подобное и был озадачен этим, поскольку Броккет всегда казался мне хорошим управляющим для младших слуг.
* * *
Гай Малтон пришел в начале восьмого. Мой старый друг был медиком, а до ликвидации монастырей – бенедиктинским монахом. Он имел мавританские корни. Сейчас ему было уже за шестьдесят, его смуглое лицо покрывали морщины, а волосы совсем поседели. Когда он вошел, я заметил, что он ссутулился, что иногда бывает с людьми высокого роста в старости. Гай выглядел усталым. Несколько месяцев назад я намекнул ему, что, возможно, пора подумать об уходе на покой, но он ответил, что еще вполне крепок и, кроме того, не знает, чем заняться без работы.
В столовой мы вымыли руки у кувшина, заткнули за воротник салфетки и уселись. Гай восхищенно обозрел стол.
– Твое серебро так весело блестит при свечах! – сказал он. – Нынче все у тебя в доме выглядит прекрасно.
Постучав в дверь, вошел Мартин. Стюард расставил тарелки с салатом, травами и тонко нарезанными кусочками свежего лосося из Темзы, а когда он удалился, я сказал своему гостю:
– Ты был прав, они с Агнессой оказались просто находкой. Его прежний наниматель дал ему прекрасную рекомендацию. Но знаешь, мне всегда с ним неловко. Он так непроницаем…
Гай грустно улыбнулся:
– Помню, в мальтонском монастыре у нас был такой же стюард. Но это был отличный парень. Просто он считал, что никогда не следует фамильярничать с вышестоящими.
– Как дела у Святого Варфоломея? – спросил я.
Старая больница для бедных, одна из немногих в Лондоне, закрылась, когда король ликвидировал монастыри, но несколько добровольцев вновь открыли ее, чтобы обеспечить хоть какой‑то уход за больными. Одним из этих добровольцев был Гай. С чувством вины мне вспомнилось, что когда три года назад умер мой друг Роджер, я пообещал его вдове продолжить его работу по открытию новой больницы, но потом началась война, все страдали от налогов и обесценивания денег, которое так и продолжалось с тех пор, и никто не хотел жертвовать на больницу.
Медик развел руками:
– Каждый делает что может, хотя, видит Бог, этого мало. Говорят, что городские власти взялись за это. Они получили деньги от короля, но все равно ничего не движется.
– Я смотрю, в городе с каждым днем все больше нищеты.
– Нищеты и болезней.
Мы немного помолчали, а потом, чтобы поднять настроение, я сказал:
– У меня хорошая новость. Тамасин снова забеременела. Ребенок должен родиться в январе.
Малтон широко улыбнулся, сверкнув крепкими белыми зубами:
– Слава богу! Передай ей, что я буду рад снова помогать ей в течение беременности.
– Нас обоих приглашают на первый день рождения Джорджа. Двадцать седьмого числа.
– С радостью приду. – Мой друг взглянул на меня. – В понедельник на следующей неделе. И в тот понедельник будет… – Он некоторое время молчал в нерешительности. – Годовщина…
– День, когда потонула «Мэри Роуз». Когда столько людей погибло и я чуть не погиб вместе с ними. – Я понурился и печально покачал головой: – Кажется, мирный договор подписан. Наконец.
– Да. Говорят, король сохранит за собой Булонь или то, что от нее осталось, еще на десять лет.
– Небольшое достижение, если учесть всех погибших и крушение денежной системы, чтобы заплатить за это.
– Знаю, – согласился Гай. – А как у тебя, не прошло чувство, что земля уходит из‑под ног, как бывало после гибели корабля?
Я поколебался, вспомнив тот момент на сожжении.
– Теперь уже очень редко.
Доктор Малтон пристально посмотрел на меня, а потом сказал более веселым тоном:
– Маленький Джордж – восхитительный сорванец. С новым братиком или сестренкой он начнет обижаться, что ему уделяют меньше внимания.
Я криво усмехнулся:
– Братья и сестры… Да, они не всегда ладят между собой.
Не называя имен, я рассказал Гаю кое‑что про тяжбу миссис Слэннинг. Он внимательно слушал, и в сгущающихся сумерках его темные глаза блестели от света свечей.
– Я думал, что эта женщина на самом деле получает удовольствие от своей злобы на брата, но после того, что она сказала сегодня, думаю, тут может быть нечто большее.
Гай печально задумался:
– Похоже, эта ссора имеет давнюю историю.
– Думаю, да. Я даже хотел потолковать об этом с моим оппонентом, он здравомыслящий человек, – посмотреть, не сможем ли мы их примирить. Но, строго говоря, это было бы нарушением профессиональной этики.
– И могло бы не привести ни к чему хорошему. Некоторые ссоры зашли так далеко, что их не уладишь миром. – Печаль на лице Малтона усугубилась.
Мартин и Агнесса принесли следующую смену блюд – тарелки с курицей и беконом и миски с разнообразными овощами.
– Ты сегодня необычно пессимистичен, – сказал я Гаю. – А я могу привести пример, где человек, от которого я меньше всего этого ожидал, принес мне оливковую ветвь. – И я рассказал ему о записке от Билкнапа и деньгах.
Мой друг посмотрел мне в глаза:
– И ты поверил ему? Вспомни обо всем, что он сделал в прошлом!
– Похоже, он умирает. Но… – Я пожал плечами. – Нет, даже теперь я не могу заставить себя поверить Билкнапу.
– И умирающий зверь может укусить.
– Ты сегодня в мрачном настроении.
– Да, – тихо сказал врач. – В мрачном. Я все думаю о том, что произошло сегодня утром на Смитфилдской площади.
Я положил нож. В последние месяцы гонений я избегал обсуждать с Гаем религиозные вопросы, так как знал, что он всегда оставался католиком. Но, чуть поколебавшись, я все‑таки сказал:
– Я был там. Они сделали из этого целое представление – епископ Гардинер и половина Тайного совета смотрели на сожжение с большого крытого помоста. Меня заставил пойти туда казначей Роуленд: королевский секретарь Пэджет потребовал представителей от каждого инна. И вот я сидел и смотрел, как четыре человека сгорают в муках, оттого что не верят в то, во что велит король Генрих. Правда, им повесили по мешочку пороха на шею, и в итоге несчастным разнесло головы. Да, когда я был там, земля снова заколебалась у меня под ногами, как палуба того тонущего корабля. – Приложив руку ко лбу, я заметил, что она слегка дрожит.
– Да смилостивится Господь над их душами, – тихо произнес мой собеседник.
Я пристально посмотрел на него.
– Как это понимать, Гай? Ты думаешь, им нужна милость за то, что они говорили то, во что верили? Что священники не могут превратить кусок хлеба в тело Христово?
– Да, – тихо проговорил Малтон. – Я верю, что они заблуждались, отрицая таинство мессы – ту правду, которой Бог и Церковь учили нас веками. А это опасно для всех наших душ. И они заполонили весь Лондон, скрываясь в своих собачьих норах, эти сакраментарии, и даже хуже – анабаптисты, которые не только отрицают мессу, но и верят, что все общество должно быть разрушено и все должно быть общим для людей.
– В Англии за все время было всего несколько анабаптистов, лишь горстка отступников‑голландцев. Они воспитывались во зле. – Я сам услышал раздражение в своем голосе.
Гай гневно возразил:
– А эта женщина, Эскью? Она хвалилась своим отрицанием мессы. И ведь Эскью даже не ее настоящая фамилия, после замужества ее фамилия Кайм, но она бросила мужа и двоих малых детей, чтобы пойти в Лондон и произносить речи перед здешними жителями! Так ли должна вести себя женщина?
Я уставился на своего старого друга, чье величайшее достоинство заключалось в неизменной мягкости и доброте. Он поднял руку.
– Мэтью, это не значит, что их нужно убивать таким страшным образом. Нет, я так не считаю, нет. Тем не менее они были еретиками, и их следовало… заставить молчать. А если ты хочешь поговорить о жестокости, вспомни, что делала другая сторона, радикалы. Вспомни, что делал Кромвель с теми, кто отказывался принять верховенство короля десять лет назад, вспомни монахов, выпотрошенных заживо в Тайберне[9]. – Его лицо пылало эмоциями.
– Два заблуждения не составят истину.
– Нет, не составят. Мне, как и тебе, противна жестокость с обеих сторон. И я бы хотел увидеть конец жестокостям. Но не вижу. Вот что я имел в виду, говоря, что некоторые ссоры зашли так далеко, что их не уладишь миром. – Он посмотрел мне в глаза: – Но я не жалею, что король наполовину вернул нас к Риму и поддерживает мессу. Я бы хотел, чтобы он вернул нас к Риму до конца, – продолжал мой гость, все более пылко и страстно, – а старые обиды, нанесенные католической Церковью, сейчас заглаживаются, Тридентский собор, собранный папой Павлом Третьим, многое реформирует. В Ватикане есть люди, которые обратятся к протестантам и вернут их в лоно Римской церкви. – Он вздохнул. – Все говорят, что королю все хуже. А принцу Эдуарду еще нет и девяти. Я считаю это неправильным – что монарх назначает себя главой христианской церкви, объявляет, что он, а не папа, является гласом Божьим в претворении церковной политики. Как же маленький мальчик будет осуществлять этот главенство? Англии лучше воспользоваться возможностью вернуться в лоно святой Церкви.
– Церкви, которая сжигает людей во Франции и Испании посредством инквизиции? И намного больше, чем здесь. А император Священной Римской империи развязывает новую войну против своих подданных протестантов.
– Ты опять стал радикалом? – спросил Гай.
– Нет! – Я повысил голос. – Когда‑то я надеялся, что новая вера, основанная на Библии, ясно покажет людям мир Божий. Мне ненавистна последовавшая за этим болтовня о разделении, ненавистны эти радикалы, использующие выдержки из Библии, как приговор, как гвозди в крышке гроба, подобно папистам настаивая на том, что только они правы. Но когда молодую женщину вынесли к столбу на стуле, потому что перед этим ее пытали, а потом сожгли заживо перед высокими лицами государства, поверь мне, я смотрел на это без всякой тоски по старой религии. Я помню Томаса Мора, этого несгибаемого паписта, и людей, которых он сжег за ересь.
– Если б мы только могли найти суть истинного благочестия, которое заключается в жалости, милосердии, единстве… – печально проговорил Малтон.
– С таким же успехом мы можем желать луну с неба, – ответил я. – Что ж, значит, в одном мы согласны: наша страна так разделилась, что это разделение не прекратить, пока одна сторона не раздавит другую. И сегодня мне тошно было видеть людей, которых возвысил Томас Кромвель, полагая, что они будут продвигать реформы, и которые теперь переметнулись назад, чтобы продвигать свою карьеру, – Пэджет, Ризли, Ричард Рич… Епископ Гардинер тоже был там с властным и грозным видом. – Я горько рассмеялся. – Я слышал, радикалы прозвали его надутым поросенком папы.
– Пожалуй, нам не стоит больше обсуждать такие темы, – тихо сказал мой друг.
– Пожалуй. В конце концов, в наши дни небезопасно говорить свободно – не безопаснее, чем читать что хочешь.
Послышался тихий стук в дверь. Я решил, что это Мартин – он должен был принести марципан. Мне теперь уже не хотелось сладкого. Я надеялся, что Мартин не слышал наш спор.
– Войдите, – сказал я.
Это был и в самом деле Мартин, но он принес не десерт. На его лице, всегда таком бесстрастном, теперь проглядывало возмущение.
– Мастер Шардлейк, к вам пришли. Какой‑то юрист. Сказал, что ему срочно нужно с вами поговорить. Я сказал, что вы ужинаете, но он настаивает, – сообщил стюард.
– Как его имя? – спросил я.
– Простите, он не говорит. Сказал, что ему нужно поговорить с вами с глазу на глаз. Я оставил его у вас в кабинете.
Я взглянул на Гая. Он все еще выглядел расстроенным после нашего спора и мрачно ковырял вилкой в тарелке, но заставил себя улыбнуться и сказал:
– Тебе нужно увидеться с этим джентльменом, Мэтью. Я могу подождать.
– Хорошо. Спасибо.
Я встал из‑за стола и вышел. По крайней мере, перерыв даст моим чувствам остыть. Уже стемнело. Кого могло принести в такой час? Через окно в прихожей я увидел двух молодых парней с факелами: по‑видимому, они сопровождали пришедшего и освещали ему дорогу. С ними был третий – слуга в темном платье и опоясанный мечом. Значит, пришел некто непростой.
Я отворил дверь и, к своему удивлению, увидел молодого человека, который смотрел на меня днем, во время казни: он был по‑прежнему в своей скромной длинной робе юриста. При ближайшем рассмотрении его лицо, хотя и не красивое, обезображенное родинками на одной щеке, выражало силу характера, несмотря на молодость, а серые глаза навыкате смотрели остро и внимательно, словно прощупывали меня. Он поклонился.
– Сержант Шардлейк, дай вам Бог доброго вечера. Я прошу прощения, что побеспокоил вас за ужином, но, боюсь, вопрос не терпит отлагательств.
– Что такое? Какое‑то из моих дел?
– Нет, сэр. – Незваный гость закашлялся – это явно был неожиданный признак нервозности. – Я пришел из Уайтхолла, от Ее Величества королевы. Она просит вас о встрече.
– Просит? – удивленно переспросил я. Королевы не просят.
– Да, сэр. Она передает, что попала в большую беду, и умоляет о помощи. Она попросила меня прийти, не желая писать свою просьбу. Я служу младшим чином в Научном совете Ее Величества. Меня зовут Уильям Сесил. Вы нужны ей, сэр.
Глава 4
Мне было нужно присесть. Подойдя к стулу за моим рабочим столом, я пригласил Сесила сесть напротив, а сам принес свечку и поставил ее между нами. Она освещала лицо молодого человека, и тени подчеркивали ряд из трех небольших родинок на его правой щеке.
Я набрал в грудь воздуха:
– Вижу, вы барристер.
– Да, из Грейс‑Инн.
– Вы работаете с Уорнером, стряпчим королевы?
– Иногда. Но мастер Уорнер оказался среди тех, кого допрашивали в связи с еретическими речами. Он теперь, как говорится, не высовывается. А мне королева доверяет, она сама попросила стать ее посланником.
Я развел руками:
– А я всего лишь практикующий адвокат в суде. Какая неотложная нужда может быть во мне у королевы?
Сесил улыбнулся – мне показалось, немного грустно.
– Думаю, нам обоим известно, сержант Шардлейк, что ваши способности простираются шире этого. Впрочем, простите: я не могу сейчас посвятить вас глубже в подробности. Если вы соизволите прийти, королева встретит вас во дворце завтра в девять и там сможет рассказать больше.
Я снова задумался. Королевы не умоляют и не просят подданных прийти, они велят. До своего брака с королем Екатерина Парр обещала, что хотя и будет направлять мне юридические дела, но никогда не будет вовлекать меня в политику. Теперь же, очевидно, она хотела предложить что‑то серьезное, что‑то опасное и формулировкой своего послания предоставляла мне возможность отказаться. При желании я мог бы сказать Сесилу «нет».
– А сейчас вы не можете мне ничего рассказать? – надавил я на него.
– Нет, сэр. Я только спрашиваю, придете ли вы или решите отказаться, оставив мой визит в тайне.
Всей душой мне хотелось отказаться. Я помнил, чему стал свидетелем утром: пламя, крики, кровь… А потом подумал о королеве Екатерине, о ее мужестве и благородстве, о ее доброте и юморе. Изысканнейшая и благороднейшая леди, какую я только встречал, женщина, от которой я не видел ничего, кроме добра. Я глубоко‑глубоко вздохнул и сказал:
– Я приду.
Как дурак, я говорил себе, что просто увижусь с королевой, а потом, если понадобится, будет не поздно отклонить ее просьбу.
Сесил кивнул. У меня было такое чувство, что я не произвел на него впечатления. Вероятно, он увидел средних лет горбатого юриста, пришедшего в смятение от возможности подвергнуться опасности. И он был прав: именно так и обстояло дело.
– Подойдите по дороге к главным воротам в девять, – сказал он. – Я буду ждать вас там и проведу вас внутрь, а потом вас сопроводят в покои королевы. Наденьте робу юриста, но не надевайте шапочку сержанта. На данном этапе лучше привлекать к себе как можно меньше внимания. – Он погладил свою реденькую бородку, глядя на меня и, возможно, обдумывая наличие у меня горба. Я бы привлек внимание в любом случае.
Я встал:
– Тогда до утра, брат Сесил.
Он поклонился:
– До девяти, сержант Шардлейк. Сейчас я должен вернуться к королеве. Знаю, она будет рада вашему ответу.
* * *
Я проводил его до двери. Из столовой появился Мартин с еще одной свечой: он открыл Уильяму дверь и поклонился, как всегда досконально выполняя обязанности стюарда. Сесил шагнул на посыпанную гравием дорожку, где его ждал слуга вместе с факельщиками, чтобы проводить его домой, уж не знаю, куда именно. Броккет закрыл дверь.
– Я позволил себе вольность подать марципан доктору Малтону, – сказал он.
– Спасибо, – кивнул я. – Скажите ему, что я сию минуту приду. Но сначала пришлите Тимоти в мой кабинет.
Я вернулся в комнату – мое убежище, мою тихую гавань, где я держал собственную маленькую коллекцию книг по юриспруденции, а также дневники и записи за много лет. Мне стало интересно, что подумал бы Барак, узнай он об этой просьбе прийти в Уайтхолл. Он бы сразу сказал, что мне нужно отбросить мои сентиментальные фантазии о королеве и придумать на завтра какое‑нибудь срочное совещание где‑нибудь в Нортумберленде.
Пришел Тимоти, и я написал для него записку, велев ему сделать крюк и отнести ее в контору. В записке я просил Джека подготовить краткое изложение одного из моих самых важных дел, которым я собирался заняться завтра. Но потом я передумал.
– Нет, к черту! Бараку придется выпрашивать эти бумаги в канцелярии Шести Клерков.
Я исправил записку и попросил Николаса выполнить эту работу. Даже если парень что‑то напутает, это будет отправная точка.
Тимоти обеспокоенно посмотрел на меня своими темными глазами:
– Вы хорошо себя чувствуете, хозяин?
– Да, да, хорошо, – раздраженно ответил я. – Просто завален делами. Нет покоя в этом мире.
Пожалев о своем резком тоне, я дал подростку перед уходом полгрота[10], а сам вернулся в столовую, где мой гость без особого энтузиазма тыкал вилкой в марципановый пирог Агнессы.
– Извини, Гай, срочное дело, – вздохнул я.
Доктор улыбнулся:
– Я тоже прерываю свои трапезы, когда у какого‑нибудь бедного пациента кризис.
– И прошу прощения, что перед этим был слишком резок. Но увиденное утром страшно удручило меня.
– Понимаю. Однако если ты думаешь, что все противники реформ – или те из нас, кто, да, хотели бы вернуть Англию обратно в лоно Римской церкви – поддерживают подобные вещи, то ты крайне несправедлив к нам.
– Я лишь знаю, что вокруг трона слышны раскаты грома, – сказал я, перефразируя стихи Уайетта[11], и тут же снова вспомнил слова Филипа Коулсвина во время сожжения и содрогнулся. «Любой из нас теперь может подвергнуться тому же».
* * *
Рано утром на следующий день Тимоти оседлал Бытие, и я поехал по Чансери‑лейн. Мой конь старел: его тело округлилось, а голова тощала. Снова был приятный июльский день, жаркий, но с прохладным ветерком, шумевшим в зеленой листве. Я миновал ворота Линкольнс‑Инн и по краю дороги поехал на Флит‑стрит, пропустив стадо овец, которых гнали на бойню в Шамблз.
Город уже проснулся, лавки были открыты, и в дверях стояли приказчики, расхваливая свои товары. В пыли толкались разносчики со своими подносами, мимо прошел крысолов в грубой шерстяной рубахе, сгибаясь под тяжестью двух клеток на коромысле, полных лоснящихся черных крыс. Женщина с корзиной на голове кричала: «Горячие пирожки!» Я увидел на стене лист бумаги с перечнем запрещенных книг, которые должны были быть сданы до девятого августа. Кто‑то написал поперек списка: «Слово Божие есть слава Христова».
Когда я доехал до Стрэнда, путь стал спокойнее. Дорога, следуя за изгибом реки, сворачивала на юг, к Вестминстеру. Слева стояли большие трех‑ и четырехэтажные дома богачей с яркими разукрашенными фасадами и привратниками в ливреях у входа. Я прошел мимо большого каменного креста на Чаринг‑кросс и свернул на Уайтхолл‑роуд – широкую улицу, ведущую к Уайтхоллу. Впереди уже виднелось высокое здание дворца с башнями и укреплениями, на каждом шпиле которого красовались гербы Англии и Британии, сверкая позолотой на солнце, как сотни зеркал. Я даже зажмурился от их яркости.
Первоначально дворец Уайтхолл был резиденцией кардинала Уолси в Лондоне и назывался Йорк‑плейс, а когда Уолси пал, его собственность досталась королю. В последние пятнадцать лет Генрих постепенно расширял дворец, и говорили, что он хотел сделать его самым роскошным и внушительным замком в Европе. Слева от широкой дороги стояли главные здания, а справа располагались помещения для развлечений, теннисные корты, где когда‑то развлекался Его Величество, большая круглая арена для петушиных боев и охотничье угодье в Сент‑Джеймс‑парке. Через улицу мостом перекинулись спроектированные Гольбейном Большие ворота – гигантское четырехэтажное здание с двумя башнями, – которые связывали две части дворца. Как и сами стены замка, здание Больших ворот было выложено плиткой в черно‑белую шашечку и украшено огромными терракотовыми медальонами с изображениями римских императоров. Проход внизу казался маленьким из‑за размеров здания, но он был достаточно широк, чтобы в нем разъехались самые большие повозки.
Чуть не доходя гольбейновых ворот, сплошные дворцовые стены прерывались аркой, небольшой, но великолепной, которая вела к внутренним строениям дворца. Там стояла стража в бело‑зеленых мундирах. Я встал в небольшую очередь, чтобы войти, и за мной пристроилась длинная повозка, запряженная четверней лошадей. На ней были сложены стойки лесов, несомненно, для новых покоев леди Мэри, которые строились у реки. Другая повозка, которую сейчас отмечали, была нагружена гусями для кухни, а передо мной стояли трое молодых людей на конях с богато украшенными седлами, которых сопровождали слуги. На молодых джентльменах были зеленые камзолы с буфами и разрезами у плеч, отчего была видна фиолетовая шелковая подкладка, на головах у них красовались шапки с павлиньими перьями, а через одно плечо на новый испанский манер были прихвачены лямкой небольшие накидки. Я услышал, как один из них сказал:
– Я не уверен, что Ризли вообще здесь сегодня, не говоря уже о том, прочел ли он петицию Мармадьюка.
– Но человек Мармадьюка внес нас в список, и это позволит нам войти в приемную. Мы можем поиграть в примеро[12], и лишь Бог знает, кто может пройти мимо, пока мы будем там.
Я понял, что эти молодые люди – потенциальные придворные, вероятно, мелкие дворяне, как‑то отдаленно связанные с кем‑то из людей сэра Томаса Ризли, одни из бесконечной череды просителей, которые заполняли двор в надежде, что им дадут какую‑нибудь должность, какую‑нибудь синекуру. Вероятно, на эти наряды они потратили свой полугодовой доход в надежде привлечь глаз или ухо кого‑нибудь из значительных людей или даже слуг значительных людей. Мне вспомнилось обобщенное прозвище таких типов – «гроза придворных».
Подошла моя очередь. Стражник держал в руке список и маленьким стилусом отмечал имена. Я собирался назвать свое, когда из ниши в воротах появился молодой Уильям Сесил. Он коротко переговорил со стражником, и тот, сделав отметку на листке, махнул мне рукой, разрешая пройти. Въехав под арку, я услышал, как молодые люди спорят со стражником. Очевидно, их в списке все‑таки не оказалось.
Проехав арку, я спешился около конюшен. Сесил поговорил с конюхом, и тот взял у меня поводья.
– Я провожу вас в помещение стражи, – деловым тоном сказал он. – Там вас ждет человек, который и отведет вас к королеве.
Сегодня на Уильяме был другой наряд юриста, а пришитый у него на груди значок изображал голову и плечи молодой женщины в короне – это был символ святой Екатерины, личный значок королевы.
Я согласно кивнул и оглядел вымощенный булыжником внешний двор. Как‑то я уже был здесь во времена лорда Кромвеля. Справа шла стена крытой галереи, окружавшей королевский сад. Строения с трех прочих сторон поражали великолепием: все стены были или выложены в черно‑белую шашечку, или расписаны фантастическими зверями и растениями на черном фоне, отчего выделялись еще больше на белых стенах. За королевским садом, к югу от него, я разглядел длинный ряд трехэтажных зданий, протянувшийся до самых Больших ворот – в этих домах, как я помнил, располагались личные апартаменты короля. Перед нами возвышался дом с причудливо украшенными колоннами. У его дверей с гербом Англии тоже стояла стража. Сзади виднелась высокая крыша часовни.
Во дворе толпились люди, в основном молодые мужчины. Некоторые были в дорогих одеждах, как те трое у ворот, в ярко разукрашенных камзолах с разрезами и рейтузах всевозможных цветов с преувеличенно большими гульфиками, другие – в темных робах высоких чиновников, с официальными золотыми цепями на шее, в сопровождении несущих документы клерков. Толкались слуги в королевских бело‑зеленых ливреях с вышитыми буквами HR[13], в то время как между ними сновала прислуга с кухни или из конюшни в повседневной одежде. Мимо прошла какая‑то молодая женщина в сопровождении служанок. На ней было модное платье с фижмами, а ее коническая юбка с вышитым узором в виде цветов расширялась внизу, но сужалась на невероятно тонкой талии. Один‑два из кандидатов в придворные сняли перед ней шляпы, ловя ее внимание, но она даже не взглянула на них. Ее занимали свои мысли.
– Это леди Мод Лейн, – сказал Сесил, – кузина королевы и главная фрейлина.
– Она не выглядит счастливой.
– В последнее время у нее много забот, – грустно ответил мой спутник и посмотрел на придворных. – Искатели места, охотники за должностями, приспособленцы, подхалимы, злоупотребляющие доверием… – Он криво усмехнулся: – Но я, когда начинал карьеру, тоже искал внимания у высоких лиц. Впрочем, мой отец был королевским йоменом[14], так что у меня с самого начала были необходимые связи.
– Вы тоже стремитесь возвыситься? – спросил я его.
– На определенных условиях, с определенными принципами. – С этими словами Уильям посмотрел мне в глаза и добавил: – У определенного господина. – Он немного помолчал, а потом вдруг сказал: – Смотрите. Государственный секретарь Пэджет.
Я увидел, как двор пересекает человек с крупными, как каменные плиты, чертами лица, русой бородой и узкой щелью рта с опущенными уголками, которого видел на сожжении. Его сопровождали несколько слуг в черном, один из которых на ходу читал ему что‑то на ухо.
– Запомните его, сержант Шардлейк, – сказал Сесил. – Он ближе к королю, чем кто‑либо.
– Я думал, ближе всех епископ Гардинер.
Уильям тонко улыбнулся:
– Гардинер шепчет королю на ухо. Но Уильям Пэджет обеспечивает всю административную работу, обсуждает с королем политику, управляет назначениями на должности.
Я посмотрел на него:
– Судя по вашим словам, он теперь как Кромвель.
Сесил покачал головой:
– О нет. Пэджет обсуждает с королем политику, но никогда не заходит дальше, чем желает Его Величество. Он никогда не пытается управлять королем. В этом была ошибка Кромвеля – и Анны Болейн. Что и погубило их обоих. Теперь высшие люди королевства научились на их ошибках. – Молодой человек тяжело вздохнул: – Или должны были научиться.
Он повел меня по булыжной мостовой. Двое крепких детин в королевских ливреях протащили мимо нас за шиворот двух обтрепанных мальчишек и подзатыльником вышвырнули их за ворота. Сесил неодобрительно заметил:
– Эти оборвыши постоянно проникают внутрь, говоря, что они слуги слуг какого‑нибудь из низших придворных. Не хватает привратников, чтобы вышвырнуть их всех.
– Здесь нет охраны? – удивился я.
– Во внешнем дворе очень мало. Но внутри – вот увидите – совсем другое дело.
Уильям подвел меня к двери с английским гербом. Там стояли двое йоменов с длинными острыми алебардами в своих бросающихся в глаза красных мундирах, украшенных золотыми розами Тюдоров. Мой сопровождающий подошел к одному из них и сказал: «Мастер Сесил и адвокат для лорда Парра». Йомен отметил нас в своем списке, и мы прошли внутрь.
* * *
Мы вступили в большой зал, где стояли несколько стражников. Их наряды были еще великолепнее, чем у йоменов, – черные шелковые камзолы и шляпы с большим черным плюмажем и с расшитыми золотом полями. У каждого на шее висел на цепи большой золотой знак. Все они были высокими, крепкого сложения и с острыми бердышами. Наверное, это была личная охрана короля, гвардия телохранителей.
Стены здесь были украшены яркими гобеленами, и возле них стояли расписные деревянные сундуки. Внезапно я увидел занимающую всю стену картину, о которой много слышал, написанную в прошлом году одним из последних учеников мастера Гольбейна – «Король и его семейство». Она изображала внутреннее помещение дворца. В центре, на троне под богато расшитым балдахином восседал король, мощный, рыжебородый и суровый, в широком черном, расшитом зо́лотом кафтане. Одну руку он положил на плечо мальчику, принцу Эдуарду, своему единственному сыну. С другой стороны от короля находилась мать Эдуарда, давно умершая третья жена Генриха VIII Джейн Сеймур – она сидела, скромно сложив руки на животе. С обеих сторон от царственной пары стояли молодая леди и юная девушка – леди Мэри, дочь Екатерины Арагонской, и леди Елизавета, дочь Анны Болейн, обе восстановленные в праве наследования два года назад. Позади дочерей короля были видны две открытых двери, выходящих в сад. За дверью позади Мэри стояла маленькая женщина с ничего не выражающим лицом, а позади Елизаветы – низенький мужчина с горбом, на плече у которого сидела обезьянка в камзоле и шапке. Я задержался на секунду, захваченный великолепием стенной росписи, но Сесил тронул меня за руку, и я повернулся и пошел за ним.
В следующей комнате тоже было изрядное число богато наряженных молодых людей: они сидели на сундуках или стояли вокруг, и им не было конца. Один из них препирался со стражником, стоявшим перед единственной внутренней дверью.
– Если я не увижусь со стюардом лорда Лайла, – горячо настаивал он, – случится беда, сэр! Он хочет меня видеть.
Охранник равнодушно отвернулся.
– Если он захочет, нам скажут. А до тех пор прекратите шум в помещении королевской охраны.
Тут подошли мы, и стражник с облегчением повернулся к нам. Сесил тихо сказал ему:
– Лорд Парр ждет вас внутри.
– Мне сказали. – Страж быстро осмотрел меня. – Никакого оружия? Кинжала?
– Разумеется, нет, – ответил я.
Я часто носил с собой кинжал, но знал, что в королевских дворцах оружие запрещено.
Без лишних слов здоровенный стражник открыл дверь ровно настолько, чтобы мы могли войти.
* * *
Впереди была широкая лестница, покрытая толстой тростниковой циновкой, приглушавшей шаги, когда мы поднимались. Я дивился украшениям на стенах – все кричало красками и замысловатыми деталями. Там были ярко раскрашенные щиты с изображением герба Тюдоров и геральдических зверей, на стенах между ними нарисованы переплетенные ветви с листьями, а большие участки покрывали резные панели – на дереве были искусно вырезаны и раскрашены в разные цвета складки занавеса. На ступенях через равные интервалы стояли стражники из гвардии телохранителей, бесстрастно глядя перед собой. Я понял, что мы приближаемся к королевским апартаментам на втором этаже. Мы покидали обычный мир.
Наверху лестницы нас ждал широкоплечий человек. Он был уже в возрасте и держал в руке трость. На нем был черный кафтан со значком королевы, а на шее – золотая цепь необычайного великолепия. Его седые, как и маленькая бородка, волосы покрывала усыпанная драгоценными камнями шапка; морщинистое лицо было бледным. Сесил низко поклонился, и я последовал его примеру.
– Сержант Шардлейк – лорд‑канцлер королевы и ее дядя лорд Парр Хортонский, – представил нас друг другу мой спутник.
Лорд Парр кивнул ему и проговорил глубоким и чистым, несмотря на возраст, голосом:
– Спасибо, Уильям.
Сесил снова поклонился и отправился назад вниз по лестнице – аккуратная маленькая фигурка среди всего этого великолепия. Мимо нас молча проследовал слуга, тоже поспешивший вниз.
Лорд Уильям Парр посмотрел на меня пронзительными голубыми глазами. Я знал, что когда отец королевы безвременно умер, этот человек, его брат, стал главной опорой его вдове и детям. В дни своей молодости он был близок к королю и помог семейству Парров пробиться при дворе. Сейчас ему, наверное, было под семьдесят.
– Значит, вы и есть тот юрист, которого так ценит моя племянница, – проговорил он.
– Ее Величество очень добра, – ответил я.
– Мне известно, какую добрую службу вы ей сослужили до того, как она стала королевой. – Старый лорд серьезно посмотрел на меня. – А теперь она просит послужить ей снова. Может ли она рассчитывать на вашу полную и безусловную преданность?
– Целиком и полностью, – ответил я.
– Заранее предупреждаю: это грязное, тайное и опасное дело. – Парр глубоко вздохнул. – Вы узнаете кое‑что такое, о чем смертельно опасно знать. Королева сказала мне, что вы предпочитаете жизнь частного лица, так что давайте будем откровенны. – Он посмотрел на меня долгим взглядом. – Теперь, когда я вас предупредил, готовы ли вы по‑прежнему помочь ей?
Мой ответ последовал сразу же, без размышлений и колебаний:
– Готов.
– Почему? – спросил лорд Уильям. – Я знаю, вы не религиозный человек, хотя когда‑то были. – В его голосе послышалась строгость. – Как и многие в наши дни, вы равнодушны к вопросам веры, вы из тех, кто закрывает глаза на них ради собственного спокойствия и безопасности.
Я глубоко вздохнул:
– Я хочу помочь королеве, потому что она добрейшая и благороднейшая леди из всех, кого я встречал, и никому не делала ничего, кроме добра.
– Вот как? – На лице лорда Парра неожиданно появилась сардоническая улыбка. Он опять бросил на меня долгий взгляд, а потом решительно кивнул: – Тогда идемте. В апартаменты королевы.
И он повел меня по узкому коридору мимо роскошной венецианской вазы на столе, покрытом красной турецкой тканью.
– Мы должны пройти через приемную короля, а потом через приемную королевы. Там будут молодые придворные, ожидающие возможности увидеться с высшими лицами королевства, – проговорил Уильям устало, а потом вдруг остановился и поднял руку.
Мы были около маленького узкого окна с тонким переплетом, открытого из‑за жары. Парр быстро огляделся, не видит ли нас кто‑нибудь, и после этого, положив руку мне на рукав, торопливо и настойчиво проговорил:
– Теперь быстро, пока есть возможность. Раз уж вам нужно понять всю ситуацию, вы должны это увидеть. Посмотрите сбоку в окно, он не знает, что его видно. Быстро!
Я взглянул в окно и увидел выложенный плитками двор. И там, на этом дворе, двое крепких гвардейцев в черных нарядах, поддерживая под руки, помогали идти огромной фигуре, облаченной в колышущийся желтый шелковый кафтан с легким меховым воротником. Потрясенный, я понял, что это король. Я видел Генриха VIII вблизи дважды – во время его великой поездки в Йорк в 1541 году, когда он был величественной фигурой, и в Портсмуте в прошлом году. Теперь я был потрясен его упадком: он непомерно разжирел и выглядел измученным болью. Тот, кого я увидел из окна, был развалиной человеческого существа. Его огромные ноги казались еще больше от повязок и бандажей и разъезжались, как у гигантского ребенка, при каждом мучительном шаге. От каждого движения необъятное тело правителя сотрясалось и колыхалось под кафтаном. Лицо его представляло собой сплошную массу жира: маленького рта и крошечных глаз было почти не видно за складками на щеках, а некогда крючковатый, как клюв, нос стал мясистым и бесформенным. На голове у короля не было шапки, и я увидел, что он почти совсем облысел, а оставшиеся волосы, как и редкая борода, совершенно поседели. Впрочем, лицо его было кирпично‑красным и покрыто по́том от усилий при гулянии по маленькому дворику. Пока я смотрел, Его Величество вдруг нетерпеливым жестом поднял руки, отчего я инстинктивно отскочил от окна. Лорд Парр нахмурился и приложил палец к губам. Я снова выглянул, а король в этот момент заговорил тем не соответствующим его внешности визгливым голосом, который я запомнил по Йорку:
– Отпустите меня! Я и сам могу дойти до двери, покарай вас Бог!
Телохранители отошли в стороны, и Генрих сделал маленький неуклюжий шажок, но тут же остановился и закричал:
– Моя нога! Моя язва! Держите меня, болваны!
Его лицо посерело от боли, и он с облегчением вдохнул, когда телохранители снова взяли его под руки и поддержали.
Парр шагнул в сторону и жестом велел мне сделать то же самое, а когда мы отошли, проговорил странным, ничего не выражающим тоном:
– Вот он. Великий Генрих. Никогда не думал, что придет день, когда я пожалею его.
– Совсем не может ходить? – прошептал я.
– Лишь несколько шагов. В хороший день чуть больше. Его ноги в сплошных язвах, со вздувшимися венами. Он гниет на ходу. Иногда его приходится возить по дворцу на коляске.
– А что говорят доктора? – Я занервничал, вспомнив, что предсказание смерти короля считается государственной изменой.
– В марте он сильно болел, и доктора думали, что умрет, но он каким‑то образом выжил. Однако, говорят, еще одна простуда или закупорка его обширной язвы… – Лорд Уильям огляделся. – Король умирает. Его врачи знают это. И все при дворе знают. И он сам тоже. Хотя, конечно, не хочет признавать это. Но ум его ясен, он по‑прежнему все контролирует.
– Боже правый!
– Он почти непрерывно испытывает боль, плохо видит и не хочет умерять свой аппетит: говорит, что постоянно голоден. Еда осталась его единственным удовольствием. – Дядя королевы прямо посмотрел на меня и повторил: – Единственным удовольствием. Это продолжается уже довольно долго. Не считая небольших верховых прогулок, но это становится все труднее. – По‑прежнему тихо и озираясь, не идет ли кто, лорд Парр произнес: – А принцу Эдуарду еще нет и девяти. На Совете думают лишь об одном: кто примет правление, когда придет время? Коршуны кружат, сержант Шардлейк. Вы должны это знать. А теперь пойдемте, пока кто‑нибудь не заметил нас у этого окна.
Уильям повел меня дальше и свернул к еще одной охраняемой двери, за которой слышался гул голосов. Из открытого окна раздался слабый болезненный вскрик, и я вдруг обнаружил, что мне, как и лорду Парру, тоже жалко Генриха.
Глава 5
Стражник узнал Парра и открыл ему дверь. Я знал, что королевские апартаменты устроены по одному принципу во всех дворцах: ряд комнат, все менее и менее доступных по мере удаления, а в самой глубине – личные покои короля и королевы. Королевская приемная была самым красочным и экстравагантным помещением по своему убранству. Одну стену там покрывало яркое полотно с изображением Благовещения – все фигуры на нем были в римских одеяниях, а цвета – такими яркими, что чуть ли не резали мне глаза.
Помещение заполняли молодые придворные – их шелковые рукава мерцали в ярком свете из окна. Некоторые из них стояли, прислонясь к стене, другие разговаривали, собравшись в группы, а кое‑кто даже сидел за временным столом и играл в карты. Пробравшись сюда благодаря взяткам или связям, они, вероятно, собирались провести здесь целый день. Когда мы вошли, молодые люди взглянули на нас. Через комнату прошел маленький человечек, вошедший вслед за мной, – низенький, с грустным лицом, горбатый, как и я, в зеленом плаще с капюшоном, – и я узнал королевского шута Уилла Соммерса с картины в помещении охраны. На плече он держал свою обезьянку, которая искала гнид в его русых волосах. Придворные смотрели, как он самоуверенно подошел к одной из дверей и его пропустили внутрь.
– Наверняка за ним послали, чтобы развеселил короля после возвращения с мучительной прогулки, – печально проговорил лорд Уильям. – Мы пройдем через другую дверь в приемную королевы.
Один молодой человек отделился от стены и, подойдя к нам, снял шапку и поклонился.
– Лорд Парр, я родственник дальних родственников королевы, Трокмортонов. Может быть, для моей сестры найдется место среди фрейлин…
– Не сейчас. – Мой спутник бесцеремонно отмахнулся от него, подходя к двери. И снова стражник с поклоном пропустил его.
Мы оказались в другой, уменьшенной версии приемной, где стены украшал ряд гобеленов с изображением рождения Христа. Здесь было лишь несколько молодых придворных и йоменов, все со значками королевы. Просители жадно обернулись, когда вошел Парр, но тот нахмурился и покачал головой.
Подойдя к группе, состоящей из полудюжины богато наряженных дам, игравших в карты в большой оконной нише, мы поклонились им. Все они были накрашены дорогой косметикой: лица их были покрыты белилами с пятнами румян на щеках. На всех женщинах были шелковые юбки с фижмами и вышивкой на передней части, и все носили огромные съемные рукава, вышитые контрастными цветами. Каждый такой костюм стоил сотни фунтов, включая работу и материал, и носить его в жаркий летний день, наверное, было очень неудобно. Между дамами в надежде на подачку бродил спаниель. Я ощутил в воздухе напряжение.
– На днях в Уайтхолле был сэр Томас Сеймур, – сказала одна из присутствующих. – Он выглядит красивее, чем когда‑либо.
– Вы слышали, как в мае он разгромил пиратов в Ла‑Манше? – спросила другая.
Миниатюрная хорошенькая женщина на четвертом десятке постучала по столу, привлекая внимание собачки, и позвала:
– Мерзавец Гардинер!
Пес подбежал и уставился на нее в ожидании, часто дыша. Она посмотрела на других женщин и проказливо улыбнулась.
– Нет, малыш Гардинер, ничего ты сегодня не получишь. Лежи и помалкивай.
Я понял, что пса назвали в честь епископа Гардинера и что дама дразнила его. Прочие женщины не засмеялись, а скорее встревожились. Одна, постарше остальных, покачала головой:
– Герцогиня Фрэнсис, разве прилично так дразнить священнослужителя?
– Если он того заслуживает, леди Карью, – отозвалась миниатюрная красавица.
Я посмотрел на эту более старшую, чем остальные, женщину, поняв, что это жена адмирала Карью, который погиб со столь многими на «Мэри Роуз». Стоя вместе с королем на берегу, она видела, как тонет корабль.
– Но безопасно ли это? – Я увидел, что это сказала кузина королевы леди Лейн, на которую указал мне Сесил во дворе.
– Хороший вопрос, дочка, – резко проговорил лорд Парр.
Еще одна из дам бросила на меня высокомерный взгляд и обратилась к лорду Уильяму:
– Что, у королевы теперь тоже будет горбатый шут, как у Его Величества? Я думала, она довольна своей Джейн. Поэтому нас и выдворили сюда?
– Нехорошо, дорогая леди Хартфорд, – упрекнул ее Парр. Он поклонился женщинам и повел меня к двери, через которую ходили слуги. – Гордячки, – пробормотал он на ходу. – Если б дамы из окружения королевы не распускали свои языки, мы бы не попали в такую беду. – Стражник вытянулся перед ним, и Уильям тихо сказал ему: – Никого не впускать в личные покои королевы, пока мы не закончим.
Тот поклонился, открыл дверь, и лорд Парр ввел меня в комнаты Ее Величества.
Еще одно великолепное помещение… На стене висел ряд гобеленов на тему чуда с семью хлебами и рыбами и такие же деревянные панели в виде занавесей, какие мы видели по дороге сюда. На нескольких столах с тонкой резьбой стояли вазы с розами, а на еще одном – причудливые шахматы. Внутри были только два человека. На приподнятом кресле под балдахином сидела королева. Она была одета еще пышнее, чем ее фрейлины, в малиновом платье с кринолином под французской мантией цвета королевского пурпура. Кринолин был покрыт геометрическим узором, и когда на него упал свет, я увидел его замысловатость: сотни крошечных окружностей, треугольников и квадратов заиграли на золотом фоне. Корсаж сужался к тонкой талии, с которой свисал золотой шарик с благовониями, и я уловил резковато‑сладкий запах апельсина. Этот корсаж имел глубокий вырез, и на белой припудренной шее королевы были видны драгоценные камни на золотых цепочках и великолепная жемчужина в форме капли. Арселе[15] на ее темно‑рыжих волосах было отодвинуто далеко назад. И все же под величием и белилами, покрывавшими тонкие черты Екатерины Парр, я разглядел напряжение. Ей было теперь тридцать четыре года, и впервые с тех пор, как я познакомился с нею, она выглядела на свой возраст. Низко поклонившись, я гадал, что же с ней случилось, и совершенно не мог понять, что здесь делает стоящий рядом с ней человек – архиепископ Томас Кранмер, о котором я слышал, что он, от греха подальше, не покидает Кентербери.
Я выпрямился. Королева не поднимала глаз и не встретила моего взгляда. Однако Кранмер поймал его. На нем была шелковая сутана, надетая поверх черного камзола, и простая черная шапка на седых волосах. Его большие выразительные голубые глаза смотрели тревожно.
– Сержант Шардлейк, – проговорил Кранмер своим тихим голосом. – А что, мы не виделись года три…
– И даже дольше, лорд архиепископ, – ответил я.
Екатерина подняла глаза, окинула горестным взглядом мое лицо и натянуто улыбнулась.
– С тех пор, как вы спасли мне жизнь, Мэтью. – Она вздохнула, а потом заморгала и повернулась к лорду Парру: – Елизавета пошла позировать для портрета?
– Не без ругани, – сказал ее дядя. – Она считает, что неприлично писать ее портрет в спальне.
– Долго же она позирует… Этот портрет очень важен. – Королева снова посмотрела на меня и тихо проговорила: – Как вы поживали этот последний год, Мэтью?
– Неплохо, Ваше Величество, – улыбнулся я. – Как обычно, работаю в области права.
– А как дела у Хью Кёртиса?
– Тоже хорошо. Он занимается торговлей тканями в Антверпене.
– Славно, славно. Я рада, что из всей этой неприятности вышло что‑то хорошее. – Екатерина закусила губу, словно не желая продолжать.
Возникла пауза, а потом заговорил Кранмер:
– Как заметила королева, однажды вы спасли ей жизнь.
– Имел такую честь, – не стал спорить я.
– Не спасли бы вы ее еще раз?
Я посмотрел на Ее Величество. Она снова опустила глаза. Эта подавленная особа была не той Екатериной Парр, которую я знал, и я тихо спросил:
– Дело дошло до такого?
– Боюсь, это возможно, – ответил архиепископ.
Королева сложила ладони.
– Это все моя вина. Мое тщеславие, моя самоуверенность…
Лорд Парр властным тоном прервал ее:
– Я думаю, лучше начать с самого начала и рассказать сержанту Шардлейку все, что произошло с весны.
Его племянница кивнула.
– Принесите стулья, для всех. – Она вздохнула. – Скажем прямо, история непростая. Начнем с того, что сказал король в марте.
Уильям Парр многозначительно посмотрел на меня.
– Вы будете только пятым, кто узнает это.
Я сидел неподвижно, стараясь не сцепить руки на коленях. Мне стало ясно, что на этот раз я поистине нырнул в глубокий колодец. Королева смотрела на меня с какой‑то безысходностью, поигрывая жемчужиной у себя на шее.
– Весной король серьезно заболел, – начал лорд Парр, – и не покидал своих покоев много недель. Он приглашал к себе королеву, и ее присутствие утешало его. Их разговоры часто обращались к вопросам религии, как это бывает у Его Величества. Впрочем, в то время епископ Гардинер только что вернулся из‑за границы в прекрасном настроении из‑за успеха в переговорах о новом договоре с Карлом, императором Священной Римской империи.
– И тут я совершила страшную ошибку, – тихо и печально проговорила королева. – Три года я была на вершине успеха и всегда была осторожна в своих речах. Но меня одолел грех тщеславия, и я забыла, что я всего лишь женщина. – Она снова потупилась, подняв за цепочку жемчужину и рассматривая ее. – Я стала спорить с королем слишком пылко, пытаясь уговорить его снять запрет женщинам и простонародью читать Библию; я говорила, что все должны иметь доступ к словам Христа, чтобы спастись…
– К несчастью, – сказал лорд Уильям, – Ее Величество зашла слишком далеко и вызвала раздражение короля…
Екатерина взяла себя в руки и отпустила жемчужину.
– Величайшей моей глупостью было то, что я говорила с королем таким образом в присутствии Гардинера. Когда я ушла, король сказал епископу… – Она в нерешительности замолкла и не сразу продолжила. – «Вот уже женщины становятся священнослужителями, и мне на старости лет приходится выслушивать нотации от своей жены». – Я увидел, как в уголках ее глаз собрались слезы.
Томас Кранмер пояснил:
– Нам известно об этом от присутствовавших при этом слуг. И мы знаем, что Гардинер, как кровожадный волк, каким он и является, сказал королю, что королева и ее фрейлины – еретики, что в Великий пост они приглашали в покои королевы проповедников, которые отрицали, что во время мессы хлеб и вино становятся телом и кровью Христа, и обсуждали между собой запрещенные книги. И еще он сказал, что такие люди ничем не лучше анабаптистов, которые подрывают королевскую власть.
Ее Величество склонила голову. Взглянув на нее, лорд Парр сказал:
– Но король с подозрением относился к Гардинеру. С тех пор как пал Кромвель, он настороженно слушал тех, кто нашептывал ему о заговорах еретиков. И, несмотря на свое раздражение в тот вечер, он любил королеву и меньше всего хотел потерять ее. Помни об этом, племянница, помни.
– Но я совершила опасную вещь, – вновь заговорила Екатерина, и я нахмурился. Я всегда знал, что в религии она придерживалась радикальных взглядов, и с содроганием задумался, не примкнула ли она в самом деле к сакраментариям. И снова я ощутил запах смитфилдского дыма.
– Ваш дядя прав, – обнадеживающе сказал Кранмер. – Король любит вас за вашу доброту и за то утешение, которое вы ему даете. Всегда помните об этом, Кейт.
«Кейт?» – подумал я. Я не знал, что королева и архиепископ настолько близки!
Лорд Уильям тем временем продолжал:
– Король позволил Гардинеру найти свидетельства того, о чем он говорил. И в то же время отдать приказ об общем расследовании ереси по всей стране. Он уже тревожился о недовольствах из‑за роста цен и войны – впрочем, милостивый Господь дал Его Величеству увидеть разумность заключения мира. – Он снова взглянул на свою племянницу. – У королевы есть преданные друзья, и ее предупредили, что начались поиски доказательств. Я изъял у нее и ее фрейлин все книги, которые Гардинер мог извращенно представить как свидетельство поддержки ереси. А те, кого допрашивали о разговорах в покоях королевы, сохранили преданность ей и не сказали ничего такого, что можно было бы ей инкриминировать.
Я задумался, что за книги могли быть у Екатерины. Впрочем, люди Гардинера могли воспользоваться любой книгой даже с легким лютеранским налетом.
Снова заговорила королева. Она словно прочла мои мысли.
– Там не было никаких книг еретической природы, и в королевских покоях не говорилось ничего запретного. Хотя Гардинер и приставил своих псов к моим друзьям и моим фрейлинам, нескольких из которых вы могли видеть за дверью, он остался ни с чем.
Так вот почему они показались мне скованными, и вот почему леди Карью встревожилась, когда герцогиня Фрэнсис насмехалась над Гардинером!
– И все же искатели должностей в Тайном совете стали его послушным орудием, – продолжила Екатерина. – Это лорд‑канцлер Ризли и человек, которого вы хорошо знаете и который бы с радостью увидел меня на костре, – Ричард Рич.
Я заерзал на стуле и тихо проговорил:
– Это из‑за вашего покровительства надо мной в прошлом году Рич стал вашим врагом.
Кранмер покачал головой:
– Нет, мастер Шардлейк, Рич и Ризли увидели возможность возвыситься, следуя за Гардинером и его закадычным дружком герцогом Норфолкским, и оба решили ею воспользоваться. Как старший пэр королевства, герцог был бы не прочь стать регентом при принце Эдуарде, если что‑то случится с королем. Впрочем, я каждый день возношу молитвы нашему Господу, чтобы Он даровал Его Величеству еще много лет.
Я вспомнил, что увидел из окна, и по лицу Томаса понял, что, несмотря на свою веру в Господа, он не очень надеется получить отклик на эти молитвы.
Лорд Парр снова продолжил свой рассказ:
– Как видите, если Гардинер и его люди свалят королеву и ее фрейлин, связанных с радикализмом, это будет означать и конец их мужей. Лорд Лайл, сэр Энтони Динни, граф Хартфордский, чья жена за дверью так неприятно пошутила над вами…
Королева гневно подняла глаза.
– Что еще сказала Анна Буршье?
– Ничего особенного, Ваше Величество, – пробормотал я.
– Она была недовольна, что вы отослали фрейлин за дверь, – добавил Уильям.
– Она могла бы говорить, как добрая христианка, но в ней нет милосердия. Я этого не потерплю! – На какой‑то момент к Екатерине вернулась ее царственность, и я не мог скрыть легкого румянца оттого, что насмешка надо мною вызвала ее гнев.
Парр вернулся к главному предмету нашего разговора:
– Как видите, Гардинер и его люди стремились напасть на реформаторов в совете через своих жен. Но когда расследование, касающееся королевы и ее окружения, ничего не дало, король рассердился: он догадался, что это был лживый заговор с целью заставить его изменить политику. И слухи, что Анну Эскью пытали, похоже, тоже вызвали его гнев.
– Это не слухи, – сказал я. – Я был на сожжении. Она не могла стоять, ее предали смерти сидящей на стуле.
– Мы тревожились, как бы они не применили эти пытки, чтобы вытянуть из нее компрометирующую информацию о королеве. Хотя Ее Величество никогда не встречалась с этой женщиной. Но леди Хартфорд и леди Динни посылали ей деньги, пока она была в тюрьме…
– Чтобы она не голодала! – взорвалась королева. – Это было милосердие, милосердие! Миссис Эскью…
– Миссис Кайм, – осторожно поправил Кранмер.
– Ладно, миссис Кайм! Что я могла оказаться причиной того, что ее пытали…
В уголках глаз Екатерины снова показались слезы – и это у королевы, которая всегда отличалась таким самообладанием! Что же ей пришлось вынести в эти последние месяцы, зная, что она находится под следствием, но не может ничего сказать, и пытаясь вести себя с королем как ни в чем не бывало? Я видел, что она на грани и даже не в состоянии самостоятельно рассказать всю эту историю.
– Мы не знаем причины. – Лорд Парр положил свою узловатую кисть на руку племяннице. – Но в любом случае, похоже, королю хватило. Он был также разгневан, что к сожжению был приговорен его друг Джордж Блэгг, и помиловал его.
Архиепископ согласно кивнул:
– Заговор Гардинера провалился. Король решил, что пора сказать «хватит!».
«И этим, – подумал я, – объясняется встревоженный вид Рича в Смитфилде. И, возможно, вот почему Кранмер решил, что теперь не опасно появиться при дворе».
Сам же Томас проговорил с кривой улыбкой:
– И вот он решил преподать охотникам за еретиками урок, которого они не забудут. – Архиепископ посмотрел на королеву, а та закрыла глаза.
Кранмер глубоко вздохнул:
– Три года назад, когда Гардинер охотился за моей головой, выискивая еретиков в моей епархии, король вызвал меня к себе. И сказал, что дал согласие на допрос меня Тайным советом. – Томас немного помолчал, на его лице отразились воспоминания о пережитом страхе, и он опять глубоко вздохнул. – Но Его Величество сказал мне, что следствие в моей епархии возглавлю я сам, и дал мне перстень, дабы Тайный совет видел его благоволение ко мне. Хотя сначала он напугал меня, сказав, что теперь знает, кто величайший еретик в Кенте. Напугал своим предупреждением, но в то же время показал свое доверие. – Кранмер снова ненадолго замолчал. – А на прошлой неделе он применил ту же стратегию с Ее Величеством. – Он многозначительно посмотрел на королеву.
Та подняла голову.
– Король вызвал меня в личные покои. Неделю назад, девятого числа. И его слова поразили меня. Он прямо сказал, что Гардинер и его друзья пытались заставить его поверить в гнусную ложь обо мне, но теперь он это понял. Он не знал, что все это мне известно. Или, возможно, знал, но ничего не сказал, – он умеет так. – Екатерина прервалась и снова стала теребить жемчужину, а потом продолжила странным деревянным тоном: – Он сказал, что его любовь ко мне не угасла, и попросил моей помощи, чтобы проучить Гардинера и Ризли. Сказал, что подпишет указ о моем аресте и велит Ризли взять меня под стражу. Но притворится, что копия указа случайно попала в мои руки. Все услышат, как я плачу в отчаянии, и он придет утешить меня.
Голос Ее Величества прервался на секунду, и она судорожно глотнула, а мое сердце заколотилось от досады, что король обращается с ней таким образом.
– На следующий вечер меня вызовут в его покои, и я попрошу прощения перед его людьми, что зашла слишком далеко в обсуждении религии. – Она закрыла глаза. – Мне надлежало сказать, что я знаю, что долг женщины – слушаться мужа, и что я только пыталась отвлечь его от боли в ногах. Я сделала, как он велел, сыграла свою роль в представлении. – Я заметил в ее голосе нотку горечи, тут же подавленную. – А на следующий день мне надлежало пойти на прогулку в сад с ним и моими фрейлинами. По договоренности с королем Ризли должен был прийти с пятьюдесятью стражниками, чтобы арестовать меня. Тот решил, что победил, но когда он прибыл, король вырвал у него из рук ордер на арест, назвал его перед стражей и моими фрейлинами скотом и мошенником и велел убираться. – Екатерина грустно улыбнулась. – С тех пор Его Величество очень нежен и внимателен ко мне перед всеми. Дарит мне новые драгоценности – он знает, что я люблю яркие драгоценные камни. Во мне всегда был грех жадности, как и тщеславия. – Она понурила голову.
– Так значит… Значит, кризис миновал? – сказал я. – Это ужасное сожжение и новое объявление запрещенных книг – последний акт? Ризли и консерваторы оказались посрамлены?
– Если б это был последний акт! – воскликнула королева. – Пропала одна книга, самая опасная из всех, и по моей вине!
Лорд Парр снова положил ладонь ей на руку:
– Успокойся, Кейт, не волнуйся. Ты все делаешь правильно.
Кранмер встал и подошел к окну, выходящему на сад и реку за ним, голубую в этот летний безоблачный день и покрытую пятнышками парусов над баржами и кораблями. Другой мир. Оттуда, где строились новые апартаменты для леди Мэри, доносились отдаленные удары молота. Архиепископ сказал:
– Я говорил о переговорах епископа Гардинера насчет нового договора со Священной Римской империей. А Пэджету удалось помириться с Францией. Однако лорд Лайл и граф Хартфордский тоже неплохо выполнили свою миссию. Оба сейчас за границей, но в следующем месяце вернутся с триумфом, и равновесие в Тайном совете сместится в сторону реформаторов. Это и раздражение короля партией Гардинера поможет нам. Но зреет что‑то еще, мастер Шардлейк. – Кранмер обернулся, и я ощутил всю силу его пронзительных глаз. – Мы не знаем, в чем именно дело, но видим, как старшие советники в консервативной партии – герцог Норфолкский, Гардинер и прочие вроде Пэджета, все улыбаются и шепчутся в углах, хотя после своей неудачи должны бы поджать хвосты, как побитые собаки. На следующий день после совета я слышал, как Пэджет шептался с Норфолком о каком‑то визите из‑за границы – они замолкли, когда я приблизился. Зреет что‑то еще, что‑то тайное. Они хотят разыграть новую карту.
– А я дала им вторую, – понуро проговорила королева. – Поставила под угрозу себя и тех, кто под моей защитой.
На этот раз ни ее дядя, ни архиепископ не попытались ободрить ее. Екатерина улыбнулась, но не нежной веселой улыбкой, которая всегда была готова появиться на ее лице, а печальной злобной гримасой.
– Вам пора узнать, что я сделала, – сказала она.
Глава 5
(продолжение)
Мы все посмотрели на Ее Величество, и она тихо проговорила:
– Прошлой зимой мне казалось, что король склоняется в направлении реформ. Он провел через парламент билль, дающий ему власть над церковными пожертвованиями – пал еще один бастион папистского обряда. В то лето я опубликовала мои «Молитвы и раздумья» и чувствовала, что могу без опасений написать еще одну книгу, исповедь миру о своих верованиях, как сделала Маргарита Наваррская. И написала небольшой томик. Я знала, что это может показаться… спорным… и потому тайно хранила его у себя в спальне. Исповедь – о своей жизни, о грехах, о спасении, о вере… – Екатерина внимательно посмотрела на меня, и теперь в ее глазах горел огонь убеждения. – Я назвала книгу «Стенание грешницы». И рассказывала в ней, как в молодости погрязла в предрассудках, полных суеты этого мира, и как Бог говорил со мной, но я отвергала его голос, пока наконец не приняла Его спасительное милосердие. – Ее голос наполнился страстью, и она посмотрела на лорда Парра и архиепископа, но те потупились. А королева продолжала, уже спокойнее: – Это Бог дал мне понять, что моим назначением было стать женой короля. – Екатерина опустила голову, и я задумался, не вспомнила ли она свою любовь к Томасу Сеймуру. – В моем «Стенании» я говорила самыми простыми словами о моей вере, о том, что спасение приходит через веру и чтение Библии, а не через бесполезные обряды.
Я зажмурился. Мне было известно о подобных книгах, исповедях радикальных протестантов о своих грехах и спасении. Некоторые были схвачены властями. Было глупо со стороны королевы написать такую вещь, даже тайно, в эти времена раскола и террора. Она должна была знать это, но эмоции пересилили ее политическое здравомыслие. А надежда, что чаша весов склонилась в пользу реформ, снова оказалась катастрофической ошибкой.
– Кто видел эту книгу? – тихо спросил я.
– Только милорд архиепископ. Я закончила ее в феврале, но потом, в марте, началась история с Гардинером. И поэтому я спрятала ее в свой личный сундук и никому о ней не говорила. – Екатерина вздохнула и с горечью добавила: – Видите, Мэтью, иногда я все же могу быть предусмотрительной.
Я видел, что ее разрывают противоречивые чувства: с одной стороны, желание распространить свои убеждения, а с другой – четкое понимание политических опасностей и страх.
– Книга оставалась запертой в моем сундуке до прошлого месяца, когда я решила спросить мнение архиепископа о ней. Он пришел ко мне сюда и как‑то вечером прочел ее при мне. – Королева с задумчивой улыбкой взглянула на Кранмера. – В последние три года мы много говорили о вопросах веры. Мало кто знает, как много.
Томас как будто испытал неловкость при этих словах, но быстро успокоился и невозмутимо проговорил:
– Это было девятого июня. Чуть больше месяца назад. И я посоветовал Ее Величеству ни в коем случае никому не показывать эту книгу. Там ничего не говорилось о мессе, только осуждались тупые римские обряды и отстаивался взгляд, что молитва и Библия – единственный путь к спасению, а такой взгляд наши враги могут трактовать как лютеранский.
– И где теперь эта рукопись? – спросил я.
– В этом‑то все и дело, – мрачным тоном проговорил лорд Парр. – Ее украли.
Королева посмотрела мне в глаза:
– И если она попадет в руки королю, то меня может ожидать смерть. И не только меня.
– Но если в ней нет отрицания того, что месса…
– Для короля она все равно слишком радикальна, – возразила Екатерина. – И то, что я писала ее тайно от него… – Ее голос сорвался.
Кранмер спокойно продолжил:
– Он сочтет это неверностью. И это страшнее всего.
– Именно, – печально сказала королева. – Он почувствует себя… уязвленным.
У меня голова пошла кругом, и, чтобы сосредоточиться, я сцепил руки на животе, понимая, что все ждут моего ответа.
– Сколько существует экземпляров этой книги?
– Только один, написанный моей рукой, – ответила Ее Величество. – Я писала ее у себя в спальне, тайно, за запертой дверью, когда со мной никого не было.
– Каков ее объем?
– Пятьдесят страниц убористого почерка. Я запирала ее в крепкий сундук у себя в спальне. Ключ был только у меня, и я носила его на шее. Даже когда спала. – Екатерина приложила руку к корсажу и вытащила маленький ключик. Как и жемчужина, он был на тонкой цепочке.
– Я советовал Ее Величеству уничтожить книгу, – прямо сказал Кранмер. – Само ее существование представляло угрозу.
– Это было девятого июня? – спросил я.
– Да, – ответила королева. – Я, конечно, не могла принимать архиепископа у себя в спальне, поэтому вынесла ее в эту комнату. Это был единственный раз, когда она покинула мою спальню. Я попросила всех слуг и фрейлин выйти, чтобы наша беседа прошла с глазу на глаз.
– А вы говорили кому‑нибудь об этой встрече?
– Не говорила.
Все смотрели на меня. Я соскользнул на задавание вопросов, как следователь, и теперь мне было уже никуда не деться от этого. И я подумал, что если что‑то пойдет не так, то меня могут сжечь вместе со всеми этими людьми.
– Милорд архиепископ сказал мне, что книгу нужно уничтожить, – продолжила королева. – И все же… Я верила – и по‑прежнему верю, – что такой труд, написанный королевой Англии, может обратить людей в истинную веру.
Она с мольбой посмотрела на меня, словно говоря: видите, это моя душа, это истина, которую я познала, и вы должны выслушать ее. Я был тронут, но опустил глаза. Екатерина сцепила руки, а потом вновь посмотрела на нас троих, и ее голос приобрел мрачный оттенок.
– Ладно. Я поняла. Я была не права, – проговорила она и устало добавила: – Такая вера при моем положении – тоже признак тщеславия.
– И вы сразу же вернули рукопись на место, в сундук? – спросил я.
– Да. Почти каждый день я доставала ее. В течение месяца. Много раз мне хотелось позвать вас, дядя.
– Ах, если бы!.. – с чувством воскликнул лорд Парр.
– Если б не лето, если б хотя бы раз или два затопили камин, я бы сожгла ее. Но я колебалась, и дни растянулись в недели. А потом, десять дней назад, я открыла сундук и увидела, что книги нет. Она пропала. – Королева покачала головой, и я понял, каково было ее потрясение.
– Когда вы видели ее последний раз? – осторожно спросил я.
– В тот самый день. Днем я просматривала ее, размышляя, не внести ли какие‑нибудь изменения, чтобы ее можно было опубликовать. А потом, к вечеру, король вызвал меня в свои личные покои, и мы разговаривали с ним и играли в карты почти до десяти. У него болели ноги, и ему нужно было отвлечься. Позже, перед сном, я хотела достать ее, посмотреть, чтобы направить мои молитвы, но книги уже не было.
– Были какие‑нибудь признаки, что замок вскрывали?
– Нет, – ответила Екатерина. – Никаких.
– Что еще было в сундуке, Ваше Величество?
– Кое‑какие драгоценности. Унаследованные от моего второго мужа и его дочери, дорогой Кэтрин Невилл, которая умерла этой весной. – Лицо королевы исказилось печалью.
– Все эти драгоценности немало стоят, – сказал лорд Уильям. – Но не исчезло ничего, кроме рукописи.
Я задумался.
– Сколько времени прошло после этого до… м‑м‑м… инцидента между Ризли и королем?
– Три дня. – Королева горько усмехнулась. – У меня есть причина хорошо помнить недавние дни.
– Моя племянница сразу же сообщила мне, – сказал Парр. – Узнав о существовании этой книги и о случившемся, я пришел в ужас.
Я перевел взгляд на этого старого человека.
– Насколько я представляю, природа кражи делала затруднительным проведение расследования во дворце.
Уильям покачал головой:
– Мы не посмели никому сказать. Но я узнал у стражи, кто в те часы входил в спальню королевы. Ничего необычного: паж‑уборщик, горничная, приготовившая постель. И Джейн ее дурочка, заходила посмотреть, где королева. Дурочке Джейн, как шутихе королевы, разрешается бродить повсюду, – раздраженно заметил лорд. – Но у нее не хватит сообразительности, даже чтобы украсть яблоко.
– Выяснение того, кто имел доступ к спальне в течение тех часов, очень важно, – заметил я. – Но кто‑то смог узнать о существовании книги до этого и воспользовался часами, когда Ее Величество была у короля, чтобы совершить кражу.
– Каким образом? – спросила королева. – Я держала ее в тайне, никому не говорила и запирала ее.
Лорд Парр согласно кивнул.
– Мы не понимаем, как это было сделано, и не знаем, что делать. И чувствуем себя парализованными.
– И как раз в это время я должна была разыграть страшную сцену с Ризли и королем, – добавила королева. – Зная, что моя книга пропала, зная, как она может разгневать короля, если ее опубликуют. – Она закрыла глаза, сжав жемчужину у себя на шее. Мы все наблюдали за ней, и, увидев это, она разжала руку. – Со мной всё в порядке.
– Ты уверена? – спросил лорд Парр.
– Да, да. Но продолжайте рассказ, дядя.
Уильям взглянул на меня:
– А потом мы услышали об убийстве у собора Святого Павла.
– Об убийстве? – живо переспросил я.
– Да, тут замешано и убийство. Книгу украли из сундука в какое‑то время вечером шестого июля. А в прошлое воскресенье, десятого, когда стемнело, в своей небольшой мастерской на Бойер‑роуд близ собора Святого Павла был убит печатник. Вы знаете, как в последние годы расплодились эти маленькие лавочки и мастерские вокруг собора – печатники, книготорговцы, иногда даже старьевщики…
– Знаю, милорд. – Я также знал, что многие печатники и книготорговцы были радикалами и что дома некоторых из них в последние месяцы подверглись налетам.
– Печатника звали Армистед Грининг. Его мастерская была просто маленьким сараем, где только стоял печатный станок. У него были неприятности из‑за печатанья радикальной литературы, весной у него провели обыск, но против него ничего не нашли. В последнее время он печатал школьные учебники. А в прошлое воскресенье Грининг работал у себя в типографии. Несколько местных печатников тоже работали, они работают до последнего луча солнца, чтобы их станки не простаивали. У него был подмастерье, который ушел в девять.
– Откуда вам известны эти подробности?
– От самого подмастерья и в основном от соседа, у которого мастерская побольше в нескольких ярдах оттуда. Соседа зовут Джеффри Оукден. Около девяти мастер Оукден закрывал свою мастерскую, когда услышал из сарая Грининга страшный шум, крики и призывы на помощь. Он был другом Грининга и пошел посмотреть. Дверь была заперта, но она была непрочной: он налег плечом и сломал ее. И сквозь открытую дверь заметил двоих убегающих в другую дверь, боковую – в этих печатных мастерских так жарко и так пахнет краской и прочими составами, что большинство имеет две двери, чтобы продувало. Но мастер Оукден не погнался за теми двоими, потому что они попытались поджечь мастерскую Грининга – разбросали кипу бумаги и зажгли ее. Оукден сумел затоптать огонь – можете себе представить, ведь такой сарай мог вспыхнуть как факел!
– Да.
Я видел такие кое‑как построенные деревянные пристройки у стен на свободных клочках земли вокруг собора и слышал постоянно раздающиеся в них громкие ритмичные удары.
– Только погасив огонь, он увидел несчастного Грининга, лежавшего на земляном полу с пробитой головой. И в руке Грининг сжимал вот это. – Лорд Парр полез в карман своего камзола[16] и осторожно вынул клочок дорогой бумаги, исписанный аккуратным почерком и с бурыми пятнами высохшей крови. Он протянул его мне, и я прочел:
Стенание грешницы, написано королевой Екатериной, оплакивающей свою жизнь, проведенную в невежестве и слепоте
Мой благородный христианский читатель, если содержание должно заверяться пишущими, а ненаписанное – подтверждаться содержанием, я должна по справедливости оплакивать наше время, когда злые деяния воспеваются, а добрые обращаются во зло. Но поскольку на самом деле не то становится добром, что восхваляют, а до́лжно восхвалять добро, я не…
Здесь страница кончалась, обрывалась. Я взглянул на королеву.
– Это ваш почерк?
Она кивнула:
– Это предисловие к моей книге. «Стенание грешницы».
– Оукден прочел это и, конечно, из заглавия понял всю его важность. Божьей милостью он добрый реформатор, и потому лично принес это во дворец и устроил так, чтобы оно попало мне в руки. Позже я поговорил с ним. Только после этого он вызвал коронера и рассказал обо всем, что видел, кроме, по моему распоряжению, этого клочка бумаги. К счастью, коронер сочувствует реформам и пообещал, что если что‑то выплывет, он сообщит мне. И ему очень хорошо заплатили, – добавил Парр ворчливо. – И пообещали заплатить еще.
Тут снова заговорила королева, и ее голос выдавал, что она на грани отчаяния:
– Но он не выяснил ничего, ничего. И потому я предложила обратиться к вам. Вы единственный, кого я знаю вне двора и кто может провести такое расследование и, возможно, решить этот вопрос. Но только если вы согласны. Я понимаю страшную опасность…
– Он уже пообещал, – сказал лорд Парр.
– Да, я обещал, – подтвердил я.
– Тогда спасибо вам, Мэтью, от всего моего сердца, – проговорила Екатерина.
Я посмотрел на обрывок бумаги.
– Нетрудно заключить, что Грининг держал рукопись в руках и не давал ее вторгшимся, а убийца выхватил ее у него, но верхняя часть страницы осталась в руке убитого.
– Да, – кивнул лорд Уильям. – И тут убийцы услышали, как в дверь ломится мастер Оукден, и убежали. Они не хотели, чтобы их узнали, и даже не задержались, чтобы забрать клочок бумаги из руки убитого.
– Или, скорее всего, вовремя не заметили его.
Парр кивнул:
– Вам следует знать, что это не первое покушение на жизнь Грининга. Он жил в том же сарае, где и работал, в страшной бедности. – В аристократическом отвращении лорд сморщил нос. – У него был молодой подмастерье. За несколько дней до того мальчишка рано утром пришел на работу и увидел, как какие‑то двое людей пытаются вломиться в сарай. Он поднял тревогу, и они убежали. Но, по словам подмастерья, это были не те, кто вскоре напал на Грининга и убил его.
– Нашей первой догадкой было, – сказал Кранмер, – что Гринингу дали рукопись, дабы он ее напечатал. Но в этом не было смысла. Ее мог бы напечатать католик, чтобы книгу раздавали на улицах, и таким образом погубить королеву.
– Да. – Я задумался. – Конечно, если она попала в руки Гринингу, а его взгляды были такими, как вы говорите, он сделал бы ровно то же, что и Оукден, – вернул бы ее. Может быть, Грининг был тайным католиком?
Архиепископ покачал головой:
– Я провел тщательное расследование. Грининг всю жизнь был радикалом, известным человеком, как и его родители. – Он многозначительно посмотрел на меня.
«Известным человеком». Это означало, что семья Грининга принадлежала к старой английской секте лоллардов, которая пришла к заключениям, схожим с тем, что говорил Лютер, о центральном месте Библии для спасения души, и к радикальным воззрениям на мессу за сто лет до него. Теперь многие из них склонялись к краю протестантизма: со своей долгой историей преследований они имели богатый опыт в пребывании тайным обществом. Как и любые радикалы, они вряд ли могли иметь желание причинить вред королеве.
– Есть ли в документе что‑нибудь еще, по чему можно заключить, что это написано королевой? – продолжил я расспросы.
– Все написано ее рукой, – ответил Уильям.
– Но по книге в целом нельзя мгновенно узнать автора, как по этому отрывку из предисловия?
– Даже поверхностный читатель поймет, кто автор. – Лорд Парр посмотрел на королеву. – Ведь это же личная исповедь о греховности и спасении. Там нет ничего о политике или дворе, но это очевидно написано королевой. – Он покачал головой. – Однако у нас нет ни малейшей догадки, у кого рукопись теперь или как она попала к Гринингу. Дознание было проведено два дня назад и вернулось с вердиктом об убийстве неизвестными лицами.
Екатерина посмотрела на меня.
– Мы ждали, как кролики в капкане, что книга появится на улицах, но целую неделю ничего не было, тишина. Мы втроем день и ночь думали, что делать, и решили, что дело нужно расследовать, но заняться этим должен кто‑то, не связанный с двором. – Она не отрывала от меня умоляющих глаз. – И вот, Мэтью, простите меня, мои мысли обратились к вам. Но даже теперь, я повторяю, я только прошу помочь мне. Я не приказываю, не хочу приказывать. Я и так достаточно замарала руки кровью, написав эту книгу: без меня бедный Грининг остался бы жив. У меня были только добрые намерения, но верно говорит Библия: «Суета сует, все суета»[17], – добавила она и в изнеможении откинулась назад.
Что мне оставалось сказать?
– С чего вы хотите, чтобы я начал? – спросил я.
Кранмер и лорд обменялись взглядами. Были ли это взгляды облегчения? Надежды? Сомнения, передавать ли это дело в мои руки? Лорд Парр резко встал и стал ходить по комнате.
– Мы думали об этом. У нас есть план, хотя вы должны сказать нам, если увидите в нем изъяны. Дело неотложное, и, я думаю, за него нужно браться с обоих концов. Что касается убийства Грининга, то агенты архиепископа переговорили с его родителями через викария. Они, конечно, ничего не знают о книге, но хотят, чтобы убийца был найден. Они живут в Чилтерне, и им нелегко добраться до Лондона.
– Чилтерн, да. – Я знал, что этот район давно известен своими лоллардами.
– Эти люди охотно дали вам полномочия своего доверенного лица. Они лишь знают, что друзья их сына в Лондоне, у которых есть деньги, хотят раскрыть его убийство, не более того. Сейчас дознание закончилось, и следствие осталось в руках местного констебля, человека по фамилии Флетчер, большого копуши. Вы знаете, что если убийца не найден в течение сорока восьми часов, к следствию теряют интерес и шансов найти преступника мало. Я склонен думать, что Флетчер будет только рад, если вы выполните работу за него. Поговорите с подмастерьем Грининга, с его соседями, товарищами, осмотрите мастерскую. Но ничего не говорите про книгу. Разве что Оукдену, который, слава богу, умеет держать язык за зубами. – Лорд Парр вперил в меня стальной взгляд.
– Я так и сделаю, милорд.
– А другой конец миссии – узнать, кто выкрал рукопись отсюда. Это наверняка кто‑то из имеющих доступ в покои королевы. Сегодня же вы присягнете, как ассистент в Научном совете Ее Величества. Вам дадут новую робу со значком королевы – надевайте ее, когда будете проводить расследование во дворце. А когда будете заниматься убийством Грининга, носите свою обычную робу – тут не должно быть никакой видимой связи с королевой.
– Хорошо.
Парр одобрительно кивнул. Кранмер бросил на меня быстрый взгляд и тут же отвел глаза – с жалостью, подумал я, или, может быть, с сомнением.
А Уильям продолжал:
– Что касается расследования во дворце, то известно, что вы и раньше работали для королевы по юридическим вопросам. Будет распущен слух, что из ее сундука пропал драгоценный камень – перстень, доставшийся ей от отчима. На всякий случай я взял этот перстень на сохранение. Он стоит огромных денег. Близость королевы с Маргарет Невилл тоже всем известна: все поймут, что она хочет разыскать его во что бы то ни стало. У вас будет право задавать вопросы слугам, обслуживающим королеву, которые могли получить доступ к ее сундуку. Как это бывает, некоторое время назад мальчик‑паж украл камень у одной из фрейлин королевы и в результате расследования попался. По настоянию королевы он был помилован по своей молодости. Люди помнят это. – Лорд посмотрел на меня. – Я бы провел расследование сам, но если человек моего ранга займется этим лично, это вызовет удивление. К тому же человек со стороны часто видит все яснее. – Он вздохнул. – Придворный мир замкнут. Признаюсь, я лучше чувствую себя в своем поместье, но мои обязанности лежат здесь.
– Я известен как враг некоторых членов Королевского совета, – нерешительно проговорил я. – Герцога Норфолкского, а прежде всего Ричарда Рича. И однажды я разгневал самого короля.
– Это дела минувших дней, Мэтью, – сказал Томас. – И ваше расследование будет ограничено двором королевы. Если вы обнаружите что‑нибудь, что, как вам покажется, требует выйти за эти пределы, сообщите нам, и мы займемся этим. Я не вернусь в Кентербери, пока все не утрясется.
– Простите меня, милорд архиепископ, – сказал я, – но слух может дойти до герцога Норфолкского или Рича. Вы рассказывали о шпионах, донесших, что Гардинер говорил вам в личных покоях короля…
– О сочувствующих, а не о шпионах, – с упреком поправил меня Кранмер.
– Но разве не может быть сочувствующих противной стороне в окружении королевы? Сам факт, что рукопись украли, говорит, что такие есть.
– Это странно. Мы в окружении королевы тщательно оберегаем секреты. – Архиепископ посмотрел на Екатерину. – Ее Величество внушает нерушимую верность, которая прошла испытания во время охоты за еретиками. Мы не можем назвать никого, кто совершил бы такое – кто мог бы совершить.
Возникла пауза, а потом лорд Парр сказал:
– Приступайте прямо сейчас, сержант Шардлейк, попытайтесь распутать нити. Сегодня же сходите в печатную мастерскую. Вернетесь вечером, я приму у вас присягу, дам вам робу и проинструктирую насчет дальнейшего.
Я снова испытал нерешительность.
– Я должен работать совершенно в одиночку?
– Вам может оказаться полезен молодой Уильям Сесил, у него есть связи среди радикалов, и они ему доверяют. Но он не знает о книге, и, я думаю, пока мы не будем его посвящать, – сказал лорд Уильям и уже более непринужденным тоном добавил: – Поверите ли, Сесилу всего двадцать пять, а он уже успел дважды жениться. Первая его жена умерла в родах, а теперь он завел вторую. Женщину с хорошими связями. Думаю, он скоро начнет свой путь наверх.
– А что касается типографии, – добавил архиепископ, – то вы можете призвать на помощь своего Барака. Насколько я понимаю, в прошлом он был вам весьма полезен.
– Но, – лорд Парр предостерегающе поднял палец, – он должен знать только, что вы работаете по поручению родителей убитого. Ни малейшего упоминания о королеве и «Стенании»!
Я продолжал колебаться.
– Барак женат, у него маленький ребенок и скоро ожидается второй. Я бы не стал подвергать его даже потенциальной опасности. У меня есть ученик Николас, но…
– Оставляю это на ваше усмотрение, – прервал меня Парр. – Возможно, ему можно поручить рутинные работы. Но только ни слова о «Стенании»! – Он снова многозначительно посмотрел на меня.
Я согласно кивнул и повернулся к королеве. Она наклонилась и, приподняв жемчужину у себя на шее, тихо спросила:
– Знаете, кому это принадлежало?
– Нет, Ваше Величество, – ответил я. – Жемчужина очень красивая.
– Екатерине Говард, которая была королевой до меня и умерла на эшафоте. Это быстрее, чем сгореть на костре. – Ее Величество издала долгий безысходный вздох. – Она тоже была глупа, хотя и по‑другому. Все эти богатые наряды, что я ношу, шелка и золотое шитье, яркие самоцветы – сколь многие из них переходили от королевы к королеве… Видите ли, они всегда возвращаются в департамент королевского гардероба на сохранение или переделку. Они так дороги, что от них не избавиться, как и от гобеленов. – Королева подняла богато расшитый рукав. – Когда‑то это было частью платья Анны Болейн. Это постоянное напоминание о прошлом. Я живу в страхе, Мэтью, в великом страхе.
– Я сделаю все возможное, отложу все прочие работы. Клянусь.
Екатерина улыбнулась:
– Спасибо. Я знала, что вы придете на помощь.
Ее дядя наклонил голову, указывая, что я должен встать. Я поклонился королеве, которая вымучила еще одну печальную улыбку, и Кранмеру, который кивнул в ответ. Лорд Парр провел меня назад, к окну, из которого мы видели короля во дворе. Теперь двор был пуст. Я понял, что окно располагалось в углу коридора, где нас не было видно, – идеальное место для конфиденциальных разговоров.
– Благодарю вас, сэр, – сказал старый лорд. – Поверьте мне, мы не недооцениваем ваши трудности и опасности. Пойдемте со мной, и я дам вам дополнительные подробности о Грининге и права доверенного лица от его родителей. – Он бросил взгляд во двор и, поколебавшись, подался ближе ко мне: – Вы видели физическое состояние короля. Но, как вы поняли из того, что мы вам рассказали, его ум остер, ясен и холоден, как всегда. Не забывайте, король Генрих правит всеми нами.
Глава 6
С чувством облегчения я снова проехал под дворцовой аркой и медленно направился к Чаринг‑кросс. Бытие фыркал и тряс головой от пыли с кирпичных заводов Скотленд‑Ярда, бесконечно производящих материалы для украшения и улучшения Уайтхолла. День был жаркий, и на улице стоял смрад. Я решил, что лучше взять в жилище печатника Николаса. Не повредит, если рядом со мной будет кто‑то помоложе и поздоровее.
На ступенях у каменного креста, как обычно, сидели попрошайки. С введением подушного налога и снижения и без того скудного жалованья за счет резкого обесценивания денег в последние два года нищих становилось все больше и больше. Некоторые называли их пиявками, сосущими пот с работающих в поте лица, но большинство нищих сами когда‑то тяжело работали. Я посмотрел на этих людей, мужчин и женщин с детьми, одетых в старые грязные отрепья, с красными, загрубевшими от постоянного пребывания на солнце лицами. Некоторые демонстрировали язвы и мокрые струпья, чтобы разжалобить прохожих. Один человек, выставлявший обрубок ноги, был в остатках солдатского мундира – наверняка он потерял ногу на войне в Шотландии или во Франции в последние два года. Но я отвел глаза, так как хорошо известно, что, поймав чей‑то взгляд, можно привлечь к себе всю ораву, а мне многое нужно было обдумать.
Я понимал, что ввязался в дело, которое может оказаться опаснее всего того, что я испытал раньше. Оно касалось самого сердца королевского двора, и в такое время, когда интриги достигли небывалой лютости. Мне вспомнился тот образ короля в саду. Теперь я понял, что все происходившее с начала года являлось частью борьбы, которая решит, кто будет править королевством после смерти Генриха, и перехода трона к малолетнему ребенку. В чьих руках оставит король свое королевство? Норфолка? Эдварда Сеймура? Пэджета?
Я обрек себя на долгие дни страха и тревоги и на хранение опасных тайн, которые не хотел знать. Однако мудрый человек знает о своей глупости, и я, конечно, понимал, почему сделал это. Потому, что у меня были отдаленные любовные фантазии в отношении королевы. Безнадежная глупость стареющего человека. Но в это утро я осознал, как по‑прежнему глубоко мое чувство к ней.
И все же, говорил я себе, нужно трезво посмотреть на королеву Екатерину: ее религиозный радикализм привел эту очень осторожную и дипломатичную женщину к страшной опасности. Она называла это своим тщеславием, но это было скорее потерей рассудительности. Меня посетили нелегкие мысли о том, не доходит ли она до фанатизма, как столь многие в эти дни. Нет, подумал я, она пыталась отступить, покорившись королю, и спросила мнение Кранмера о своем «Стенании», но ее отказ избавиться от книги привел к потенциально катастрофическим последствиям.
Тут мне в голову пришла мысль: почему бы не дать придворным партиям сразиться насмерть? Чем радикальная партия лучше консервативной? Но потом я подумал, что королева никому не причиняла вреда по своей воле. Как и Кранмер. А вот о лорде Парре я задумался. Он был стар и выглядел нездоровым, и хотя я видел его преданность своей племяннице, но также ощущал и его беспощадность. Сейчас я полезен ему, но, вероятно, мною можно и пожертвовать.
Парр вручил мне доверенность от родителей Грининга. Мне надлежало походить по улицам вокруг собора Святого Павла и поговорить с констеблем, а потом – с соседом Грининга Оукденом и его подмастерьем, который видел предыдущую попытку проникновения в дом. И мне следовало попытаться разузнать поподробнее о друзьях Грининга.
Лорд Уильям велел мне вернуться во дворец к семи. Похоже, я буду по уши занят этим много дней. К счастью, судебная сессия еще не началась, и суды не собирались на разбирательства. Я думал попросить Барака выполнить дополнительную подготовительную работу по моим делам и проконтролировать Николаса и Скелли. Мне было неловко, что придется лгать Джеку и Николасу: я мог сказать им, что занят расследованием убийства печатника, но только от имени его семьи, и не должен был упоминать об охоте за книгой королевы. Особенно противна мне была мысль о лжи Бараку, но я не видел другого выхода.
Движимый каким‑то импульсом, я свернул на север и направился на улицу с маленькими домишками, где мой помощник жил со своей женой Тамасин. Как и он, Тамасин была моим давним другом. Мы втроем прошли через многое, и мне так захотелось поговорить с кем‑нибудь простым, здравомыслящим, никак не связанным с интригами, а заодно посмотреть на моего крестника. Барак должен был быть на работе, но Тамасин, скорее всего, в это время дня дома. Мне хотелось провести время в простой обстановке – возможно, в следующий раз мне не скоро доведется так отдохнуть.
Я привязал Бытие к столбу у дома и постучал в дверь. Открыла их хозяюшка Мэррис, грозная вдова средних лет. Она сделала книксен.
– Мастер Шардлейк, мы вас не ждали.
– Да вот, был поблизости и решил заглянуть. Миссис Барак дома?
– Да, и хозяин тоже. Он пришел на обед. Я как раз собралась убрать тарелки.
Я вдруг осознал, что сегодня не обедал. Любезная Мэррис провела меня в маленькую гостиную с окном на маленький, безупречно ухоженный садик Тамасин. Ставни были открыты, и комнату наполнял аромат летних цветов. Джек с женой сидели за столом перед пустыми тарелками и кружечками пива. Мэррис начала убирать тарелки. Тамасин выглядела прекрасно, ее хорошенькое личико было довольным и счастливым.
– Какой приятный сюрприз! – воскликнула она. – Но на обед вы опоздали.
– Я совсем забыл про обед, – вздохнул я.
Миссис Барак цокнула языком:
– Это нехорошо. Я принесу хлеба и сыра.
Ее муж взглянул на меня:
– Я хожу обедать домой. Я подумал, Скелли может присмотреть за молодым Николасом в это время.
– Всё в порядке. – Я улыбнулся малышу в белой рубашонке и шерстяной шапочке с завязками бантиком, выползшему из‑под стола посмотреть, что тут такое. Он взглянул на меня карими глазами Барака, улыбнулся и сказал:
– Да!
– Это новое слово, – с гордостью сообщила Тамасин. – Видите, он начинает говорить.
– Он уже вырос из пеленок, – сказал я, восхищаясь проделанным Джорджем прогрессом, а тот подполз к папе и, сосредоточенно нахмурив брови, сумел на какое‑то мгновение встать и ухватить его за нос. Улыбнувшись от этого своего достижения, он поднял ножку и пнул отца в лодыжку.
Барак взял его на руки.
– Ты пинаешься, братец, – проговорил он с деланой серьезностью. – И в присутствии крестного? Бесстыдник.
Джордж радостно захихикал, и я погладил его по головке. Выбивавшиеся из‑под шапочки несколько локонов, светлых, как у Тамасин, были тонкими, как шелк.
– Растет с каждым днем, – удивленно сказал я. – Хотя я так и не могу понять, на кого он похож.
– По этой щекастой мордочке ничего не понять, – ответил Джек, нажимая малышу на нос‑кнопку.
– Я слышал, тебя можно поздравить, Тамасин, – повернулся я к хозяйке дома.
Она зарделась.
– Спасибо, сэр. Да, Бог даст, в январе у Джорджа будет братик или сестренка. На этот раз мы оба надеемся на девочку.
– Ты хорошо себя чувствуешь?
– Да, разве что по утрам немного тошнит. А теперь позвольте мне принести вам хлеба с сыром. Джек, у тебя горошина в бороде. Пожалуйста, убери. Это выглядит отвратительно.
Барак вытащил горошину, раздавил ее пальцами и отдал Джорджу, к восторгу последнего.
– Пожалуй, нужно отрастить такую раздвоенную окладистую бороду, какие сейчас носят. Я мог бы ронять на нее столько пищи, что закуска всегда была бы под рукой.
– Тогда тебе придется подыскать новый дом, чтобы в нем есть! – крикнула с кухни Тамасин.
Я посмотрел на удобно развалившегося в кресле помощника и играющего у его ног малыша и понял, что был прав, решив не вмешивать его во все это.
– Джек, – сказал я, – у меня новая работенка, из‑за которой – по крайней мере в ближайшие дни – меня часто не будет в конторе. Можно тебя попросить взять на себя надзор за Николасом и Скелли? Впрочем, Николаса я, наверное, буду использовать сам. И если смогу, то буду сам встречаться с наиболее важными клиентами.
– Вроде миссис Слэннинг? – спросил Барак. Я знал, что он терпеть не может эту клиентку. Джек с интересом посмотрел на меня: – А что за работенка?
– У собора Святого Павла убит печатник. Уже прошла неделя, но нет никаких признаков, что преступника схватят. Служба коронера, как обычно, лодырничает. У меня есть доверенность на расследование от родителей печатника. Сами они живут в Чилтерне.
– И они поручили вам это дело?
Я в нерешительности замялся.
– Через третьи руки.
– Вы же больше не беретесь за такую работу. Может оказаться слишком опасно.
– Мне показалось, что за эту я обязан взяться.
– У вас встревоженный вид, – в своей прямой манере заявил мой помощник.
– Пожалуйста, оставим это, – ответил я с некоторым раздражением. – Тут есть некоторые аспекты, которые я не должен разглашать.
Барак нахмурился. Раньше я никогда ничего не утаивал от него.
– Что ж, вам виднее, – сказал он тоже с ноткой раздражения.
Джордж между тем оставил отца и сделал два неуверенных шажка ко мне. Я взял его на руки и поздновато понял, что своими пухлыми ручками, измазанными раздавленным горохом, он схватил меня за рубашку.
– Ай‑ай‑ай! – воскликнул Джек. – Извините. Когда берешь его на руки, нужен глаз да глаз.
Тамасин принесла тарелку с хлебом и сыром и пару сморщенных яблок.
– Прошлогодние, – сказала она, – но хорошо сохранились. – Увидев мою рубашку, забрала у меня Джорджа и посадила на пол. – Баранья голова, Джек, – упрекнула она мужа. – Это ведь ты дал ему горошину, а? Он мог подавиться ею.
– Как видишь, он не стал ее есть, – возразил Барак. – А на прошлой неделе этот дурачок пытался съесть слизняка в саду – и хоть бы что.
– Фу! Дай его сюда. – Тамасин наклонилась к сыну и взяла его на руки, а он озадаченно посмотрел на нее. – Ты поощряешь его на неприятности.
– Извини. Да, лучше держаться подальше от неприятностей. – Ее супруг многозначительно посмотрел на меня.
– Если это возможно, – ответил я. – Если возможно.
* * *
Я заехал домой сменить рубашку, прежде чем отправиться в Линкольнс‑Инн. На кухне стояла Джозефина в платье, какого я еще на ней не видел, – из хорошей шерсти, фиолетового цвета, с длинным белым воротничком. Рядом на коленях стояла Агнесса, подкалывая ее подол булавками. Когда я вошел, обе встали и сделали книксен.
– Как вам нравится Джозефинино новое платье, сэр? – спросила миссис Броккет. – Она купила его, чтобы завтра выйти, я помогала ей выбрать.
Молодая служанка, как всегда, покраснела. Платье ей шло. Впрочем, я не мог удержаться от мысли, каким бледным и вылинявшим смотрелся этот цвет по сравнению с необычайно яркими красками повсюду в Уайтхолле. Но большинство людей могли позволить себе лишь такие одежды.
– Ты прекрасно выглядишь, Джозефина, – сказал я. – Мастер Браун наверняка будет впечатлен.
– Спасибо, сэр. Посмотрите, у меня и туфли новые. – Девушка чуть приподняла платье, чтобы показать квадратные белые туфли из хорошей кожи.
– Просто картинка, – улыбнулся я.
– А платье из лучшей кендальской шерсти, – сообщила Агнесса. – Оно не сносится много лет.
– Куда вы пойдете гулять? – спросил я.
– На луга Линкольнс‑Инн. Надеюсь, сегодня погода опять будет хорошей, – ответила Джозефина.
– Небо безоблачное. Но мне уже нужно поторопиться. Агнесса, мне нужна чистая рубашка. – Я распахнул свою робу, показывая следы маленьких ручек, и сокрушенно пояснил: – Мой крестник.
– Ай‑ай‑ай! Я позову Мартина.
– Я могу принести рубашку из‑под пресса, – сказал я, но миссис Броккет уже звала мужа.
Он появился из столовой в переднике – должно быть, чистил серебро, так как от его одежды пахло уксусом.
– Мартин, ты можешь достать мастеру Шардлейку чистую рубашку? – Как всегда, говоря с супругом, Агнесса сменила тон. – Его маленький крестник запачкал ту, что на нем.
Она улыбнулась, но Мартин только кивнул. Он редко смеялся или улыбался. Похоже, этот человек родился без чувства юмора.
Я поднялся к себе в комнату, и через пару минут появился Броккет с чистой рубашкой. Он положил ее на кровать и встал, ожидая.
– Спасибо, Мартин, – сказал я, – но я оденусь сам. Замаранную оставлю на кровати.
Мой слуга всегда хотел во всем помогать мне, и теперь с несколько расстроенным видом поклонился и вышел.
Сменив рубашку, я вышел из спальни и внизу лестницы увидел Джозефину. Она несла кувшин с горячей водой, осторожно держа его перед собой, чтобы он не коснулся ее нового платья. Девушка пронесла его через открытую дверь гостиной в столовую, где Мартин все еще чистил серебро.
– Поставь на стол, – сказал он. – На салфетку.
– Да, мастер Броккет.
Служанка отвернулась, и я увидел, как она бросила в спину Мартина неприязненный взгляд с долей презрения – вроде того, какой я заметил вчера. Это озадачило меня. Конечно, одни лишь холодные манеры Броккета не могли вызвать подобного взгляда от такой доброй души, как Джозефина.
* * *
Я оставил Бытие в конюшне и недолгий путь до Линкольнс‑Инн прошел пешком. Барак еще не вернулся, но и Скелли, и Николас были заняты за своими столами. Джон встал и принес мне записку. Его глаза за очками в деревянной оправе сверкали любопытством.
– Только что доставили для вас, сэр. Принесла женщина, ухаживающая за мастером Билкнапом.
Я взял записку и сломал печать. На листке было с трудом накорябано:
Мне сказали, что нужно готовиться к скорой встрече с Создателем. Не могли бы вы в качестве любезности навестить меня завтра после церкви?
Стивен Билкнап
Я вздохнул – совсем забыл об этом человеке. Но я не мог оставить такую просьбу без внимания и написал ответ, что буду у него после церковной службы. Затем попросил Скелли доставить его, а когда Джон ушел, обратился к Николасу. Сегодня тот был одет скромно – в короткой черной робе в соответствии с правилами. Он протянул мне кипу бумаг:
– Мое изложение основных пунктов по тому делу о передаче собственности.
Я быстро просмотрел листы. Писал он не очень разборчиво, но материал был изложен толково и логически выстроен. Возможно, парень в конце концов взялся за ум. Я взглянул на него – Овертон был шести футов ростом, и мне пришлось задрать голову. Его зеленые глаза смотрели ясно и прямо.
– У меня есть новая работенка, – сказал я. – Дело конфиденциальное и требует осмотрительности, и, к несчастью, следующие несколько дней, если не больше, я буду мало бывать в конторе, и тебе понадобится потратить несколько лишних часов. Ты готов к этому?
– Да, сэр, – ответил мой ученик, но я расслышал в его тоне неохоту. Конечно – это же означало провести меньше часов в тавернах с другими молодыми джентльменами.
– Надеюсь, это продлится недолго. И еще я был бы рад твоей помощи в некоторых аспектах этого нового дела. Я бы хотел, чтобы сейчас ты пошел со мной допросить нескольких свидетелей, – сказал я и, поколебавшись, добавил: – Дело касается убийства, и по просьбе родителей жертвы я помогаю следствию. Я собираюсь взять показания констебля, а потом еще с нескольких свидетелей.
Николас тут же оживился:
– Поймать негодяя – достойная задача!
– Если я возьму тебя с собой на расследование, ты должен держать все услышанное в строгой тайне. Это не тема для обсуждения в таверне. Болтовня может привести меня – и тебя тоже – к беде.
– Мне известно, что дела должны храниться в тайне, сэр, – ответил Овертон несколько чопорно. – Всякий джентльмен должен блюсти это правило.
– И никакое другое строже этого. Ты обещаешь?
– Конечно, сэр, – обиженно ответил молодой человек.
– Прекрасно. Тогда пойдем сейчас к собору Святого Павла. Убитый был печатником. Когда я буду задавать людям вопросы, слушай внимательно, и если у тебя возникнут свои вопросы и ты сочтешь их уместными, то можешь тоже задать их. Как вчера с миссис Слэннинг, – добавил я. – Тогда ты хорошо проявил себя.
Николас просиял:
– Я думал, не зашел ли слишком далеко. Не откажется ли она от ваших услуг.
– Да уж, вот была бы трагедия! – сардонически заметил я. – А теперь пошли. – Тут мне пришла в голову новая мысль. – Ты сегодня при мече?
– Да, сэр. – Овертон покраснел. Он любил гулять по улицам с мечом и видел в этом шик.
Я улыбнулся:
– Поскольку твой отец владеет землями, ты считаешься джентльменом, а джентльменам позволено носить на людях меч. Мы можем обратить законы о роскоши в свою пользу. Это может произвести впечатление на тех, с кем мы будем разговаривать.
– Спасибо. – Николас достал свой меч в ножнах из прекрасной кожи с узором в виде виноградных листьев и опоясался им. – Я готов.
Глава 7
По Стрэнду мы дошли до арки Темпл‑Бар и вышли через нее на Флит‑стрит. Уже миновал полдень, и я был рад, что Тамасин накормила меня. Привычный размашистый шаг Николаса был для меня чересчур скор, и я велел ему идти помедленнее, напомнив, что юристы – люди почтенные и должны ходить степенно. Проходя по мосту Флит‑бридж, я задержал дыхание, чтобы не вдыхать поднимающийся от воды смрад. Туда плюхнулась свинья – она бултыхалась в грязи, а ее владелец, стоя по колено в зеленой пузырящейся воде, пытался ее вытащить.
Мы прошли мимо тюрьмы, где, как всегда, заключенные протягивали сквозь прутья руки, прося подаяния, потому что если б никто не давал им на пропитание, они бы умерли с голоду. Мне подумалось об Анне Эскью в Ньюгейтской тюрьме, которой давали деньги фрейлины королевы. Оттуда ее перевели в Тауэр, где пытали, а потом отправили к столбу. Я содрогнулся.
Мы вышли за городскую стену через Ладгейт, и впереди показалось грандиозное здание собора Святого Павла. Его вознесшийся деревянный шпиль маячил в голубом небе на высоте пятисот футов. Николас изумленно взглянул на него.
– В Линкольншире нет таких зданий, а? – сказал я.
– Линкольнский собор тоже прекрасен, но я видел его лишь два раза. Владения моего отца на юге графства, близ Трента. – Когда парень упомянул об отце, я уловил в его голосе сердитую нотку.
За Ладгейтом на улице Боер‑роу кипела торговля. Мясник установил прилавок, на котором разложил жилистое зеленоватое мясо. Цены в те дни были столь высоки, что лоточники воздерживались продавать хорошее мясо. Чтобы привлечь покупателей, он поставил на конце прилавка клетку с живым индюком. Люди останавливались посмотреть на необычную птицу из Нового Света, напоминавшую гигантского цыпленка с огромными яркими сережками.
К нам подошел пожилой торговец с подносом только что купленных в типографии памфлетов и хитро посмотрел на нас.
– Купите только что отпечатанные баллады, джентльмены. Полны озорных стихов. «Молочница и табунщик», «Кардиналовы служанки»…
Николас рассмеялся, а я махнул торговцу рукой, чтобы тот убирался.
Другой торговец стоял в дверях своей лавки, держа на плече полную суму хворостин.
– Тонкие розги! – кричал он. – Покупайте свежие лондонские розги! Вымочены в рассоле! Учите послушанию жен и сыновей!
К нам бросилась стайка из семи‑восьми ребятишек, оборванных, босых беспризорников, и я заметил у одного из них острый нож.
– Мошенники, – шепнул я Николасу, – они срезают кошельки. Следи за своими деньгами.
– Я их заметил. – Мой спутник уже положил руку на кошелек, а другой схватился за меч.
Мы строго посмотрели на сорванцов, и они, поняв, что мы догадались об их намерениях, пробежали стороной, вместо того чтобы окружить нас. Один из них крикнул:
– Горбатый черт!
– Рыжий конторщик! – добавил другой.
На это Овертон обернулся и сделал шаг в их строну. Я взял его за локоть, а он, качая головой, печально сказал:
– Правильно мне говорили, что Лондон – это бурное море, полное опасных рифов.
– Это верно. Во многих смыслах. Когда я приехал в Лондон, мне тоже пришлось кое‑что узнать. Не уверен, что я привык к этому, и порой мечтаю о возвращении в деревню, но все время что‑то отвлекает. – Я взглянул на молодого человека: – Одно могу тебе сказать: убитый, как и его друзья, был религиозным радикалом. Насколько я понимаю, у тебя не будет трудностей при общении с такими людьми.
– Я верую, как требует король, – ответил Николас, повторяя формулу тех, кто хочет себя обезопасить, и посмотрел на меня. – В таких вопросах я хочу лишь, чтобы меня не трогали.
– Ну и хорошо, – сказал я. – А теперь свернем сюда, на Аве‑Мария‑лейн, чтобы сначала встретиться с констеблем.
* * *
Аве‑Мария‑лейн оказалась длинной узкой улочкой с трехэтажными зданиями, кучей лавочек и жилых домов – все с нависающими крышами. Я заметил пару книжных лавок: на столах перед ними были выложены книги, за которыми присматривали приказчики в синих нарядах и с дубинками, чтобы отпугивать воров. Большинство книг предназначались для высшего слоя – латинская классика и французские труды. Но были тут и экземпляры нового труда Томаса Бекона «Христианское состояние супружества», где он побуждал женщин к скромности и послушанию. Будь она подешевле, я бы купил эту книгу Бараку ради шутки – Тамасин запустила бы ее ему в голову. Мне было неприятно, что пришлось притворяться с ним.
– Констебля зовут Эдвард Флетчер, – сказал я Николасу. – Он живет под вывеской с красным драконом. Смотри, вот она. Если его нет дома, попытаемся найти его на службе.
Дверь открыл слуга, сказавший нам, что мастер Флетчер дома. Он провел нас в маленькую гостиную со столом и стульями – там все было завалено бумагами. За столом сидел тощий человек лет пятидесяти в красном камзоле и шапке городского констебля. У него был крайне усталый вид. Я узнал его – это был один из тех, кто накануне носил хворост на костер.
– Дай вам Бог доброго дня, мастер Флетчер, – сказал я.
– И вам того же, сэр, – почтительно проговорил хозяин дома – несомненно, на него произвел впечатление мой наряд. Он встал и поклонился. – Чем могу помочь?
– Я здесь по делу об убийстве Армистеда Грининга, да помилует Господь его душу. Его убили на прошлой неделе. Насколько я знаю, коронер возложил расследование на вас.
– Да, верно, – вздохнул Эдвард.
– Я сержант Мэтью Шардлейк из Линкольнс‑Инн. Мой ученик, мастер Овертон. Родители мастера Грининга очень опечалены утратой и попросили меня, с вашего позволения, помочь в расследовании. У меня есть доверенность от них. – Я протянул ему документ.
– Прошу садиться, джентльмены. – Флетчер убрал бумаги с двух стульев и положил их на пол. Когда мы уселись, он с серьезным видом посмотрел на нас. – Вы понимаете, сэр, что если убийца не схвачен в течение первых двух дней и его личность не установлена, шансов найти его очень мало.
– Это мне прекрасно известно. Я участвовал раньше в подобных расследованиях и понимаю, как это трудно. – Я посмотрел на сложенные вокруг бумаги и добавил, сочувственно улыбнувшись: – И знаю, как тяжелы обязанности констебля в наши дни. Расследование запутанного убийства – это, должно быть, лишь дополнительное бремя.
– Истинно так, – печально кивнул Эдвард и, поколебавшись, добавил: – Если вы возьметесь за расследование, я буду только благодарен.
Да, я верно оценил этого человека. Многие лондонские констебли ленивы и продажны, но Флетчер был добросовестен и безнадежно завален делами. И, возможно, он находился под впечатлением от того, что ему пришлось делать вчера.
– Конечно, я буду держать вас в курсе дела. А вы можете докладывать обо всем выясненном коронеру, – сказал я ему, добавив про себя: «…и приписывать себе честь».
Констебль кивнул.
– Пожалуй, я бы начал с вопросов, что вам известно об обстоятельствах убийства, – продолжил я. – Мой ученик, с вашего позволения, будет записывать.
Николас достал из сумки перо и бумагу. Флетчер кивнул ему в сторону чернильницы, а потом сложил руки на груди, прислонился к спинке стула и стал рассказывать:
– Где‑то после девяти вечера десятого числа, как только стемнело, ко мне пришел один из моих караульных. И сказал, что убили печатника с Патерностер‑роу, Армистеда Грининга, а также доложил, что его сосед мастер Оукден, нашедший тело, поднял шум и крик. Я послал сообщение коронеру и пошел на Патерностер‑роу. Оукден был там и выглядел очень расстроенным и взволнованным. Он сказал, что со своим подмастерьем работал допоздна у себя в типографии, пользуясь последними лучами солнца, и вдруг услышал громкий крик из мастерской Грининга рядом – тот звал на помощь. Потом раздались удары и крики. Мастер Оукден – человек состоятельный, а у Грининга был мелкий бизнес, его типография чуть больше деревянной лачуги.
– Значит, это не очень безопасное место, – заметил я.
– Да, действительно. Мастер Оукден сказал мне, что бросился посмотреть. Дверь была заперта, но он ее выломал и едва успел заметить двоих здоровенных оборванцев, которые убежали через боковую дверь. Помощник мастера Оукдена, старик, оставался в дверях типографии Оукдена, но видел, как двое выбежали и через стену позади сарая перелезли в сад. Он все подробно описал. Мастер Оукден хотел было броситься за ними, но заметил, что типографию подожгли – на кипу бумаги уронили лампу.
– Они хотели сжечь место преступления? – спросил Овертон.
– Если б его сожгли и на пожарище нашли обугленное тело, – сказал я, – смерть Грининга можно было бы приписать случайно возникшему пожару.
Флетчер кивнул:
– Я так и предположил. Как бы то ни было, Оукден увидел огонь и поспешил его потушить, пока тот не добрался до краски и других типографских материалов. Они очень огнеопасны, и пламя могло бы перекинуться на его мастерскую.
Я согласно кивнул. Летом пожары были одним из ужасов Лондона, а для печатников, наверное, особенно пугающим.
– Потом он увидел, что мастер Грининг лежит в луже крови рядом со своим прессом и голова его пробита, – нахмурился констебль. – Я тогда слегка рассердился на мастера Оукдена за то, что после своего заявления он ушел и на несколько часов где‑то пропадал. Сам он потом сказал, что во время дознания был так потрясен случившимся, что ему было необходимо пойти выпить, и он пошел в какую‑то таверну у реки, которая не закрывается после вечернего звона. – Эдвард пожал плечами. – Однако до того, как уйти, он рассказал мне все, что знал, а он слывет честным человеком.
Я напомнил себе, что в эти часы Оукден был в Уайтхолле.
Рассказчик в нерешительности замолк, а потом продолжил:
– Должен вам сказать, что у меня уже было указание присматривать за мастером Гринингом. Он был известен своими экстремистскими религиозными взглядами и дружил с радикалами. Три года назад его плотно допрашивал епископ Боннер о некоторых книгах Джона Бойла, которые контрабандой привезли из Фландрии. Доносили, что Грининг был одним из распространителей. Но доказано ничего не было. Однако странная вещь: его типография была маленькой, всего с одним станком и одним подмастерьем, но он сумел держать свой бизнес на плаву несколько лет, хотя вы знаете, каким рискованным делом является книгопечатанье.
– В самом деле. Нужны деньги, чтобы вкладываться в оборудование, – согласился я. – А когда книга напечатана, нужно продать большой тираж, чтобы получить хоть какую‑то прибыль.
Флетчер согласно кивнул.
– При этом он был молодым человеком, всего‑то тридцати лет, а его родители, полагаю, не очень богаты.
– Насколько я понял, это всего лишь мелкие фермеры.
Констебль вдруг бросил на меня подозрительный взгляд.
– И тем не менее они позволили себе нанять сержанта юстиции?
– Они связаны с человеком, перед которым я в долгу.
Эдвард внимательно посмотрел на меня и стал рассказывать дальше:
– Были допрошены знакомые Грининга, в том числе несколько радикалов, за которыми епископ велел нам присматривать. У всех было алиби и никаких мотивов убивать его. Он не держал в типографии денег. Жил там же, где работал, спал на выдвижной кровати в углу. В кошельке у него нашли несколько шиллингов – их не тронули. Он не был женат, и, похоже, у него не было никакой женщины.
– Какого сорта радикалом он был? – спросил я.
Флетчер пожал плечами:
– Его и его дружков считали сакраментариями, но, может быть, они были другими. Я слышал, родители Грининга – старые лолларды. А сегодня старый лоллард может стать анабаптистом. Но никаких доказательств не было найдено. – Эдвард снова с подозрением посмотрел на меня, словно задумавшись, не являюсь ли я сам радикалом.
– По дороге сюда мой ученик говорил мне, – непринужденно сказал я, – что достаточно веровать так, как велит король.
– Да, – согласился Флетчер, – это безопаснее.
– А что насчет его подмастерья?
– Здоровенный нахальный парень. Я бы не удивился, окажись он тоже радикалом. Но в ночь убийства он был дома с матерью и сестрами, и все говорят, что он хорошо ладил с хозяином. Теперь его взял на работу мастер Оукден.
– А те двое, которых видел помощник?
– Сгинули без следа. По описаниям, они не местные. Я бы принял это за случайное нападение каких‑то нищих в надежде украсть сколько‑нибудь бумаги, которая, конечно, стоит денег, если б не одно обстоятельство.
– Какое?
Констебль нахмурился:
– Это было не первое нападение на Грининга.
Я принял удивленный вид, словно впервые слышал об этом.
– Подмастерье, молодой Элиас, сказал мне, что за несколько дней до того он пришел на работу рано утром и увидел, как двое ломятся внутрь, ломают замок, – сказал Эдвард. – Он закричал и разбудил мастера Грининга, который спал внутри. Элиас закричал: «За дубины!», что, как вы знаете, призывает на помощь всех подмастерьев, кто услышит. И взломщики убежали по улице. Согласно описанию Элиаса, это были не те, кто убил Грининга. Он настаивает на этом. – Флетчер развел руками. – Вот и всё. Вчера дознание вынесло свой вердикт об убийстве. Меня попросили продолжить расследование, но у меня больше нет никаких нитей – расследовать нечего.
– У вас есть имена подозреваемых радикалов, с которыми был связан Грининг?
– Да. Их трое. – Констебль порылся в бумагах и написал имена и адреса троих человек. Мы склонились над столом, и он по очереди назвал их всех. – Джеймс Маккендрик – шотландец, работает в доках; раньше служил солдатом, но стал одним из тех проповедников‑радикалов, которых шотландцы напустили на наше королевство. Андрес Вандерстайн – торговец тканями из Антверпена, ездит туда‑сюда между Антверпеном и Лондоном. Говорят, завозит не только ткани, но и запрещенные книги. Третий, Уильям Кёрди, – свечник, довольно преуспевающий. Все они по воскресеньям ходят в церковь и следят за своими словами на людях, но все дружили с Гринингом и иногда встречались в его типографии. И у них были и другие друзья из разных радикалов.
– Откуда вам это известно? – спросил Николас.
– Конечно же, от осведомителей. Моих и епископа. И мне сказали, что этих троих в последнее время нет дома. – Эдвард приподнял брови. – Может быть, они сторонятся чиновников.
– Странная компания, чтобы собираться вместе, – заметил Овертон. – Голландский купец, имеющий свое дело в Нидерландах, – джентльмен, производитель свечей – мещанин, а рабочий в доках принадлежит совсем к другому классу.
– Некоторые радикалы верят, что социального разделения между людьми быть не должно, – ответил я. – И собираться таким людям вместе не запрещено законом.
– Так же, как и быть голландцем или шотландским изгнанником, – добавил Флетчер. – Жаль только, что и те и другие зачастую оказываются радикалами. – Он вздохнул и покачал головой, пеняя на ограничения, мешающие ему работать, а потом добавил: – Тем не менее люди епископа в апреле устроили обыск в типографии Грининга…
– Я не знал этого, – сказал я, подавшись вперед.
– Они устроили обыски в нескольких типографиях в поисках появившихся в Лондоне памфлетов Джона Бойла. Их напечатали где‑то здесь. Но нигде ничего не обнаружили.
Да, каким‑то образом самые опасные книги в королевстве попадали в эту типографию.
– И что же случилось, по‑вашему, мастер Флетчер? – спросил я.
– Очевидно, у Грининга были враги, которые пришли его убить. Но никто о них не знает. Может быть, то была вражда с другой радикальной группировкой: эти люди переходят от любви к ненависти друг к другу из‑за какого‑нибудь пустяка в доктрине. Описания двух пар, которые пытались проникнуть в типографию, не соответствуют никому в этом районе, а здесь все друг друга знают. Теперь видите, почему следствие не двигается с мертвой точки.
Я сочувственно кивнул.
– Если не возражаете, я бы хотел допросить мастера Оукдена и его помощника. И подмастерье. Возможно, это его друзья. И я также хотел бы осмотреть мастерскую мастера Грининга. У вас есть ключ?
Эдвард достал из стола маленький ключик.
– Я повесил новый висячий замок. Можете оставить пока этот ключ у себя. Мастерская под вывеской с белым львом. Желаю успеха. – Он обвел рукой разбросанные вокруг бумаги. – Сами видите, я завален работой. В этом году мне пришлось, кроме преступников, охотиться еще и за еретиками, хотя, похоже, сейчас охота затихла. – Он посмотрел мне в глаза. – Я видел вас вчера на сожжении, вы были на лошади, а ваш друг рядом с вами чуть не упал в обморок.
– Я вас тоже видел, – кивнул я.
– Пришлось выполнять обязанности, которые возложил на меня мэр, – оправдываясь, сказал констебль, хотя на мгновение в его глазах показалась тревога.
– Понимаю.
Эдвард по‑прежнему не отрываясь смотрел мне в глаза.
– Помните, что если вы что‑либо обнаружите по этому делу, то сообщайте мне. Я действую под юрисдикцией коронера.
– Всё до последней мелочи, – солгал я. – А кстати, что стало с телом?
– Тело нельзя было оставлять незахороненным в ожидании прибытия родителей из Чилтерна: сейчас лето. Его похоронили в общей могиле.
* * *
Мы прошли по Аве‑Мария‑лейн до Патерностер‑роу. Эта улица была длиннее и шире и являлась центром английского, пока еще маленького, но растущего типографского бизнеса. Здесь было еще несколько книжных лавок, над некоторыми располагались типографии, и несколько отдельных типографий. Как и говорил Флетчер, некоторые из них были просто сараями, пристроенными к дому или возведенными на арендованных клочках земли. Я подумал, что Грининг, возможно, был замешан в печатании запрещенных книг Джона Бойла, некогда любимца Кромвеля, но теперь самого одиозного из радикалов, скрывающегося где‑то во Фландрии.
– Что думаешь о Флетчере? – спросил я Николаса.
– Он был на сожжении? – уточнил тот.
– Да, – сказал я и удрученно добавил: – Выполнял свои обязанности.
– Я бы лучше умер, чем стал выполнять такие обязанности!
Состоятельному молодому человеку легко так говорить.
– Не думаю, что ему это понравилось, – заметил я.
– Возможно. Я заметил, что у него ногти сгрызены до мяса.
– Хорошо подмечено. Я этого не увидел. Замечать мелочи – ключ к успеху в этом деле. Мы еще сделаем из тебя юриста. А что скажешь об убийстве?
Овертон покачал головой:
– Два нападения, как сказал Флетчер… Похоже, что у Грининга были враги. Или у него в мастерской было что‑то очень ценное. – Я бросил на ученика быстрый взгляд: этим замечанием он чуть было не попал в точку, что вызвало мои опасения. – Возможно, золото, – продолжал Николас, – которое воры успели забрать, прежде чем вмешался Оукден.
– Если у людей есть золото, они его тратят или помещают в безопасное место. Только скряги копят его дома.
– Как ваш друг Билкнап? Я слышал, он из таких.
– Он мне не друг! – рявкнул я. Парень покраснел, и я продолжил более учтиво: – Не похоже, что Грининг был таким скрягой.
– Да, действительно… А констебль выглядит переутомленным.
– Да. В некотором смысле Лондон хорошо охраняется. Констебли и стражи следят, чтобы не было беспорядков и чтобы никто не гулял после вечернего звона. Хотя если некоторые таверны открыты после назначенного часа, они смотрят на это сквозь пальцы – если хозяева заведений не позволяют посетителям безобразничать.
Я посмотрел на Николаса и приподнял брови. Его собственная драка в таверне, к моему неудовольствию, стала предметом сплетен в Линкольнс‑Инн. Он покраснел, а я продолжил:
– Констебли следят, чтобы люди подчинялись законам о том, какие одежды могут носить люди каждого сословия, хотя, опять же, закрывают глаза на мелкие нарушения. И они держат осведомителей, чтобы те доносили о преступлениях и религиозных провинностях. Но когда дело доходит до расследовании убийства, до долгого, тщательного расследования, у них нет на это ресурсов, как и сказал Флетчер.
– Признаюсь, я не совсем понял насчет разных типов радикалов, – сказал Николас. – Сакраментарии, лолларды, анабаптисты – какая между ними разница?
– Это тоже нужно знать в Лондоне. Но не говори так громко, – тихо сказал я. – Открытые дискуссии на эту тему опасны. Сакраментарии верят, что хлеб и вино во время мессы не пресуществляются в тело и кровь Христовы, а просто должны рассматриваться как напоминание о жертве Христа. По закону выражать такую веру считается ересью. В большинстве европейских стран такой взгляд на мессу нов, но в Англии человек по имени Джон Уиклиф представил на обсуждение схожие доктрины еще век назад. Его последователи лолларды подверглись преследованиям, но остались там и сям маленькими тайными группами. Конечно, лолларды были в восторге, когда король порвал с Римом. А анабаптисты – это одна из религиозных сект, которая появилась в Германии двадцать лет назад. Те верят в возвращение к практике ранних христиан: они сакраментарии, но кроме того верят, что крещение в младенчестве не имеет силы, что крестить можно только взрослых, познавших Христа. И еще, что самое опасное, они верят, подобно ранним христианам, что социальные различия между людьми должны быть стерты и все имущество должно быть общим.
– Неужели ранние христиане верили в это? – удивился Овертон.
Я наклонил голову:
– Если посмотреть в Писание, там есть хорошее доказательство этому.
Мой спутник нахмурился:
– Я слышал, анабаптисты захватили город в Германии и управляли им согласно своим верованиям, и в конце кровь там текла по улицам рекой. – Он покачал головой. – Люди не могут существовать без власти, вот почему Бог поставил монархов править ими.
– Действительно, это анабаптисты были осаждены в Мюнстере, но потом протестантский монарх в союзе с католическими силами взял город. Вот тогда‑то и началась резня. Хотя да, я слышал, что анабаптистское правление в городе к тому времени стало жестоким и опиралось на насилие. Но потом большинство отказались от насилия. Анабаптисты бежали из Германии и Фландрии, и некоторые из Фландрии через Северное море прибыли сюда. Король сжег тех, кого смог обнаружить.
– Но некоторые могли остаться?
– Так говорят. Если и остались, то они работают тайно, вынужденные скрываться, как раньше лолларды. Нынче на всякого с голландским именем смотрят косо.
– Как на того друга Грининга, которого упоминал констебль? Вандерстайна?
– Да.
Николас наморщил лоб:
– Значит, анабаптисты отвергают насилие, но все‑таки считают, что правителей нужно свергать?
– Так говорят.
– Тогда они действительно представляют большую опасность, – серьезно проговорил молодой человек.
– Они являются полезным злом. – Я посмотрел на Овертона. – Ну, теперь ты узнал, как начинается расследование убийства, на что это похоже. Расследовать убийство – дело непростое и небезопасное.
Мой ученик улыбнулся.
– Я не боюсь.
Я хмыкнул:
– Страх держит человека настороже. Запомни это.
* * *
Мастерские и типографии на Патерностер‑роу было трудно распознать снаружи по вывескам – на них мог быть, к примеру, ангел, золотой шар или красный петушок. Типографию Грининга обозначал грубо намалеванный на доске белый лев. Этот знак висел над одноэтажным строением, казавшимся еще более убогим от соседства с ухоженным крепким домом. Дом, должно быть, принадлежал Джеффри Оукдену. Я достал ключ, что дал мне констебль, снял висячий замок с треснувшей двери и открыл ее. Внутри было темно. Сбоку была вторая дверь, и из замка на ней торчал ключ. Я велел Николасу открыть ее, и за этой дверью оказался заросший травой участок. Я осмотрел сарай со всех сторон. В помещении главное место занимал печатный станок: он стоял в самом центре, приподняв свой винт, а ложе для бумаги было пусто. К стенам были прибиты гвоздями дешевые полки – на них лежала бумага, стояли бутыли с краской и растворителем и шрифт в коробках. Помещение заполнял тяжелый запах.
В одном углу виднелась кипа отпечатанных листов. Другие листы висели на веревках для просушки. Я посмотрел на верхний лист в кипе: «Хороший французский букварь». Взглянул на висящие листы. Je suis un gentilhomme d’Angleterre. J’habite Londres[18]… Мне вспомнились мои школьные дни. Грининг печатал учебники для детей. В углу лежал тюфяк с одеялом и подушкой, рядом с ним обнаружились нож и тарелка, на тарелке были хлеб и сыр, причем сыр уже заплесневел. Последний ужин Грининга.
– Николас, – сказал я, – ты бы не заглянул под пресс: не установлен ли там шрифт? Я не уверен, что могу заглянуть сам. – Если шрифт был, я бы попросил ученика как‑нибудь вынуть его, чтобы посмотреть, был ли это учебник французского или что‑то другое. Не собирался ли Грининг напечатать «Стенание»?
С вызвавшей у меня зависть легкостью Овертон выгнул свое длинное туловище, чтобы взглянуть на пресс снизу.
– Никакого шрифта, сэр. Тут пусто.
– Хорошо, – с облегчением сказал я.
Николас выпрямился и осмотрелся вокруг.
– Что за убожество! И ему приходилось здесь и жить, и работать среди этого запаха…
– Многие живут в еще худших условиях, – заметил я.
Но парень был прав: человек, способный держать печатный бизнес на плаву, мог бы и позволить себе иметь дом. Если только его бизнес не дышал на ладан. Возможно, у него не хватало смекалки для конкурентоспособной коммерции. Лорд Парр говорил, что родители убитого бедны – откуда же он взял капитал на покупку оборудования и материала, чтобы начать свое дело? Я заметил рядом с кроватью темное пятно на полу. Кровь из головы Грининга впиталась в доски. Бедняга, он не дожил до тридцати и теперь гниет в общей могиле.
Рядом с кроватью стоял простой деревянный сундук. Он был не заперт, и в нем лежали только два заляпанных кожаных передника, несколько рубашек и дешевых льняных камзолов да замусоленный Новый Завет. Никакой запрещенной литературы – печатник был осторожен.
Николас склонился над небольшой стопкой обгоревших листов на полу.
– Вот где они пытались устроить пожар, – сказал он.
Я подошел к нему. Почерневшие обрывки лежали под полкой с краской. Если бы не появился Оукден, все строение бы сгорело. Я взял один обгоревший лист и прочел: «…le chat est un animal mechant…»[19]
– Страницы из книги, которую он печатал, – сказал я.
– Что будет со всем этим? – спросил Овертон, обведя взглядом помещение.
– Теперь это собственность его родителей. Как их доверенное лицо, я имею право оформить завещание вместо них. Возможно, вы с Бараком и займетесь этим. Если автор заплатил Гринингу за печатанье этой книги, деньги придется возвратить. Остальное имущество будет распродано, и выручка достанется родителям. Печатный станок стоит денег.
Я взглянул на бумагу на полках. Кипа была небольшой, но поскольку вся бумага импортировалась в Англию, она представляла определенную ценность, и ее имело смысл украсть, как и шрифт. Но вряд ли это стоило двух попыток ограбления разными людьми.
Затем я подошел к боковой двери, вышел наружу, с облегчением избавившись от едких испарений, и огляделся. Участок заросшей травой земли упирался в кирпичную стену футов семи высотой. Я задумался. Нужно поговорить с Оукденом с глазу на глаз, без помощника: кроме меня, Оукден – единственный человек вне стен дворца, кто знает о «Стенании».
– Николас, – позвал я, – сходи посмотри, что там за стеной.
Молодой человек легко залез на стену.
– Там сад. Но не намного отличается от участка с этой стороны.
– Спустись на ту сторону, посмотри, куда могли убежать преступники после убийства Грининга. Может быть, остались какие‑то следы. А потом приходи, я буду в доме у Оукдена.
Овертон как будто смутился.
– А что, если хозяева увидят, что я шныряю в их саду?
– Придумай какое‑нибудь оправдание, – улыбнулся я. – Хороший юрист всегда должен уметь что‑нибудь придумывать на ходу.
Глава 8
Мастер Джеффри Оукден владел трехэтажным домом. На нижнем этаже располагалась книжная лавка, и на столе перед ней были выставлены книги. Они были разного сорта – от «Замка здоровья» Элиота до маленьких книжечек по астрологии и травам и латинской классики. Была пара молитвенников – утвержденных Церковью небольших томиков, не больше кисти руки, чтобы можно было читать на ходу. С верхних этажей доносились ритмичные удары: новые листы клались под пресс, пресс быстро опускался посредством винта, листы вынимались и на их место вставлялись новые. В дверях стоял старик – сложив на груди жилистые, тронутые артритом руки, он сторожил лавку и настороженно посмотрел на меня. Наверное, он видел, как мы с Николасом входили в лачугу Грининга.
Я улыбнулся:
– Дай вам Бог хорошего дня, добрый человек. Я юрист, представляю интересы родителей покойного мастера Грининга.
Старик снял шапку, открыв плешивую макушку.
– Да помилует Господь его душу, – проговорил он и тяжело закашлялся.
– У меня есть разрешение констебля Флетчера расследовать это дело. Вы, случайно, не помощник мастера Оукдена, который видел выбегающих из дома людей?
– Да, это я, сэр, – ответил мой собеседник уже более приветливо. – Джон Хаффкин, к вашим услугам.
– А я мастер Шардлейк. Не расскажете ли вы мне, как все это произошло?
Джон кивнул, явно обрадованный возможностью еще раз рассказать эту историю.
– Это случилось поздно вечером, я помогал мастеру Оукдену у станка. Он печатает книгу о путешествиях в Новый Свет с гравюрами обитающих там удивительных существ. Большой заказ, мы работали до самой темноты. – Старик вздохнул. – Теперь мастер Оукден нанял в подмастерья этого болвана Элиаса, а меня поставил присматривать за лавкой днем. – Он снова вздохнул. – Но тридцать лет на этой работе износили мои суставы. И грудь…
– В тот вечер… – напомнил я, возвращая его к теме.
– Работа только что закончилась, мы развешивали листы, чтобы просохли за ночь. Окна были открыты, и мы услыхали шум по соседству. Крики, а потом призыв на помощь. Мы с мастером Оукденом переглянулись. Иногда бывало слышно, как мастер Грининг громко спорил со своими друзьями, но тут были слышны звуки насилия, и мы бросились вниз по лестнице. Мастер Оукден побежал к соседнему дому, а я остался в дверях. С моими суставами и больной грудью от меня было бы мало толку… – Он пристыженно посмотрел на меня.
– Понимаю, – заботливо проговорил я.
– Но издали я все видел. Мастер Оукден высадил дверь, и через секунду я увидел, как оттуда выскочили двое. – Хаффкин указал на боковую дверь. – Как я говорил на дознании, обоим было лет за двадцать, оба в грязных шерстяных рубахах. Мне они показались бродягами, ни на кого не работающими. – Он состроил гримасу. – У обоих были безобразного вида дубины. Они были крепко скроены. Один высокий, и хотя и молодой, но почти лысый. Другой – светловолосый и с большой бородавкой на лбу, ее видно было даже в сумерках. У обоих спутанные бороды.
– Вы хорошо все рассмотрели.
– По крайней мере, мои глаза еще видят. Я был бы рад опознать их и увидеть на виселице. Мастер Грининг был хорошим соседом. Знаю, он был радикал, но тихий – не из тех, что пристают к людям со своими проповедями, подвергая их опасности со стороны закона. Он никому не делал вреда. Насколько я знаю, – добавил Джон, внимательно посмотрев на меня.
– Я не слышал о нем ничего дурного.
Рассказчик продолжил:
– Когда те двое убежали, я подошел к халупе, потому что почуял дым. Мастер Оукден тушил огонь: куча бумаги на полу загорелась, и там же лежал бедняга Грининг. Ужасное зрелище – темя пробито, кровь и мозги разлетелись… – Он покачал головой.
– Спасибо, любезный Хаффкин. – Я достал кошелек и дал старику грот. – А теперь, если можно, я бы поговорил с вашим хозяином. Можно мне войти?
– Конечно. Он с Элиасом работает на втором этаже.
* * *
Я прошел через лавку и поднялся по лестнице. Ритмические удары стали громче. Весь второй этаж занимало одно помещение – увеличенный эквивалент бедной типографии бедняги Грининга. Здесь тоже были стеллажи с бумагой и химикалиями, стопки отпечатанных листов и готовые листы, висящие на натянутых через помещение веревках, как белье. Несмотря на то что ставни были открыты, здесь стояла жара и сильно пахло свинцовой пылью. У меня на лбу выступил пот.
У пресса работали два человека. На обоих были запачканные кожаные передники. Высокий, чисто выбритый седовласый мужчина на шестом десятке разглаживал новый лист бумаги на нижней платформе. Рукоятку огромного винта над верхней платформой, где был укреплен покрытый краской шрифт, держал мускулистый парень лет восемнадцати с мрачным, унылым выражением на лице. Когда я вошел, они обернулись.
– Я мастер Шардлейк, – тихо представился я. – Меня послали расследовать убийство бедного мастера Грининга.
Пожилой человек кивнул.
– Джеффри Оукден, – представился он. – Мне сообщили, что вы придете. Пойдемте в переплетную. Элиас, мы на время спустимся вниз.
Юноша впервые прямо посмотрел на меня. Его карие глаза горели яростью.
– Это было злодейское, безбожное убийство, – сказал он. – В наши дни добрые христиане больше не могут чувствовать себя в безопасности.
– Знай свое место, мальчик, – сдвинул брови Оукден и повел меня на верхний этаж, где за столом сидела женщина средних лет, аккуратно сшивавшая листы и помещавшая их в переплет из толстой бумаги.
– Ты бы не спустилась на кухню на несколько минут, дорогая? – сказал ей Джеффри. – У меня конфиденциальный разговор с этим джентльменом. Он юрист, и это касается заказа на новую книгу. Можешь налить Элиасу кружку эля.
– Я только что слышала, как ты выговаривал Элиасу. Этот мальчишка нуждается в порке за свой дерзкий язык, – сказала женщина.
– Он силен и работает усердно, а остальное не важно, милая. К тому же его здорово потрясла смерть прежнего хозяина.
Миссис Оукден встала и, сделав мне книксен, спустилась вниз. Печатник прикрыл за нею дверь.
– Моя жена ничего не знает об этом деле, – тихо сказал он. – Вы от лорда Парра?
– Да. Вы проявили себя хорошо в тот вечер, мастер Оукден.
Джеффри сел на угол стола, глядя на свои загрубевшие от работы руки. У него было приятное честное лицо, но на нем отражались напряжение и тревога.
– Я получил из Уайтхолла записку, что придет юрист. Меня просили сжечь ее, что я и сделал. – Он глубоко вздохнул. – Когда я прочел слова на той первой странице, что сжимал в руке бедняга Грининг… Я не сакраментарий, но всегда поддерживал реформы, и в свое время я получал работу от лорда Кромвеля. И когда я увидел титульную страницу той книги, я понял, что это личная исповедь в греховности и книга о пути к вере, какие нынче пишут радикалы, и она может оказаться опасной для Ее Величества, которую все реформаторы почитают за ее веру и доброту.
– Как вы получили доступ во дворец?
– На той улице живет молодой подмастерье печатника, известный как пламенный радикал. Как это бывает у молодых людей, он имел связи с другими радикалами из числа дворцовых слуг. Я пошел к нему и сказал, что у меня есть нечто, о чем нужно знать советникам королевы. Он сказал мне, к кому из слуг подойти в Уайтхолле, и так меня отвели к самому лорду Парру. – Джеффри удивленно покачал головой.
– Тот подмастерье дружит с Элиасом?
– Нет. Элиас общался только с мастером Гринингом и его кружком. – Оукден провел рукой по лбу. – Нелегко вдруг оказаться в Уайтхолле.
Я сочувственно улыбнулся:
– Да уж.
Печатник посмотрел на меня:
– Но я должен делать что могу, следуя совести.
– Да. Лорд Парр благодарен вам. Он просил меня взяться за расследование убийства, которое коронер почти забросил. Я сказал констеблю и всем прочим, включая собственного ученика, которого послал обследовать сад за хибарой Грининга, что действую по поручению родителей Грининга. Я позволил себе допросить добрейшего Хаффкина и хотел бы также допросить Элиаса. Насколько я знаю, он помешал предыдущей попытке проникновения к Гринингу.
– Так он говорит, а Элиас не лжец, хотя и непослушен.
– Вы не должны говорить ему про книгу, и никому другому тоже.
Оукден понимающе кивнул:
– Клянусь Господом, сэр, я знаю, сколько осмотрительности требует это дело. Иногда добрые христиане должны говорить как с невинностью голубки, так и с мудростью змеи, не правда ли?
– В этом деле – определенно. А теперь не могли бы вы мне рассказать своими словами, что произошло в тот вечер?
Джеффри повторил то же, что рассказал мне Хаффкин: что услышал шум и поспешил на улицу.
– Когда я подбежал к хибаре, то услышал, как мастер Грининг кричит кому‑то, чтобы отвязались от него. Думаю, он дрался с ними. Я подергал дверь, она оказалась заперта, и я налег плечом. Она сразу поддалась.
– Она была заперта изнутри?
– Да, мастер Грининг, как вам известно, жил там и запирался на ночь. Я могу только догадываться, что напавшие постучали в дверь, вломились внутрь, когда он им открыл, а потом заперли дверь за собой.
– Хаффкин описал мне их.
– Да, а я заметил их лишь краем глаза.
– Он, кажется, умный старик.
– У бедняги плохо с легкими, как и у многих из нас в этом ремесле. Боюсь, когда умер бедняга Грининг, я воспользовался случаем: взял Элиаса к себе, а Джона Хаффкина перевел на работу полегче.
– Пожалуй, так вышло лучше для всех.
– Я надеюсь.
– Когда вы вошли, что еще вы увидели, кроме того, что краем глаза увидели напавших?
– Мой взгляд сразу привлек огонь. Мне пришлось тушить его. – Рассказчик серьезно посмотрел на меня. – С этой бумагой и печатными материалами пожар – постоянная угроза на этой улице. К счастью, кипа бумаги еще не разгорелась, и я сумел затоптать огонь. Потом я увидел беднягу Грининга, – он вздохнул, – на полу. Надеюсь больше никогда не увидеть ничего подобного. А потом я заметил обрывок бумаги у него в руке – бумаги самого лучшего качества, какая только бывает на рынке. Я прочел и понял, что это не просто убийство. Услышав, что идет Хаффкин, я засунул обрывок страницы в карман.
– Вы думаете, они убили его до того, как вы пришли?
Джеффри покачал головой:
– Когда я первый раз налег плечом, они еще кричали. Но потом шум стих, только послышался страшный звук – наверное, один из них ударил Грининга дубиной, и тот упал.
– И они вырвали у него из рук книгу, – задумчиво проговорил я, – но часть титульной страницы осталась у него. Вероятно, в спешке не заметив этого, они зажгли огонь и убежали.
– Думаю, так могло быть. – Оукден печально покачал головой. – Не знаю, может быть, не ворвись я тогда, они бы не запаниковали и не убили бы его.
– Я думаю, убили бы, если бы он сам не отдал книгу.
Мой собеседник грустно кивнул.
– Вы хорошо знали Армистеда Грининга? – спросил я.
– Он появился на Патерностер‑роу пять лет назад. Сказал, что он из Чилтерна – он и говорил с тамошним акцентом, – но его жена умерла в родах вместе с ребенком, и он приехал в Лондон искать счастья. Бедный парень, у него всегда была грусть на лице. Он арендовал этот клочок земли, где стоит его хибара, у Палаты приращений[20] – он принадлежал маленькому монашескому дому, чьи остатки так и стоят на земле за хибарой. – Джеффри сардонически улыбнулся. – По иронии судьбы, учитывая религиозные взгляды Грининга. Он построил свою хибару сам с несколькими лондонскими друзьями. Не могу сказать, что я хорошо его знал, он был человек замкнутый, – но я кое‑что слышал и видел, особенно в последнее время… – Печатник в нерешительности замолчал.
– Что бы вы ни рассказали мне о нем, ему это уже не причинит вреда. Старик Хаффкин кое о чем намекал мне…
– Это может повредить Элиасу. Если он попадет в руки Гардинера и его волков.
– Я отчитываюсь только перед лордом Парром и королевой.
Джеффри вытаращил глаза:
– Перед самой королевой?!
– Да, – ответил я и добавил с ноткой гордости: – Я знал ее, когда она была еще леди Латимер.
– Я думаю, Грининг был очень радикален. – Оукден серьезно посмотрел на меня. – «Известный человек».
Я вздрогнул. Это было кодовое слово для обозначения лоллардов, а теперь и анабаптистов. А печатник продолжал:
– Можете ли вы гарантировать, что все, что я расскажу вам об Элиасе, не ввергнет его в беду? – Он говорил тихо, сосредоточенно, напомнив мне еще раз, как опасно рассуждать о религии радикалов.
Некоторое время я молчал в нерешительности. Я знал, что по крайней мере лорд Парр будет безжалостен, если решит, что это необходимо для защиты королевы. А любое упоминание об анабаптизме – это все равно что сунуть палку в осиное гнездо. И я ответил:
– Обо всем, что может повредить подмастерью, я доложу только лично королеве. Ее милосердие и верность друзьям хорошо известны всем.
Оукден встал и посмотрел в окно на хибару Грининга.
– У этого сарая тонкие стенки. К Армистеду приходили друзья и гости, с которыми он вел громкие религиозные дискуссии. Особенно этим летом, когда из‑за жары все держали окна нараспашку. Я иногда слышал их разговоры – скорее споры, иногда слишком громкие, чтобы оставаться безопасными. По большей части я слышал только гул голосов, случайные фразы, но и этих фраз бывало достаточно, чтобы навострить уши. Собирались очень странные компании. Человек шесть, иногда семь, но всегда присутствовали трое – шотландец, голландец и англичанин, все известные как местные радикалы.
– Маккендрик, Вандерстайн и Кёрди.
Джеффри кивнул.
– Думаю, мастер Кёрди – довольно состоятельный человек. Мастер Грининг однажды рассказывал мне, что тот посылал одного из своих помощников помогать ему в строительстве этой хибары. Шотландец тоже помогал: помню, что видел его. Это большой сильный парень.
– Значит, Грининг знал их почти с тех самых пор, как приехал в Лондон? А вы были с ними знакомы?
– Шапочно. Они держались обособленно. Знал я на самом деле только Армистеда Грининга – как соседа и коллегу‑печатника. Иногда на улице мы обсуждали состояние дел и раз или два одалживали друг другу бумагу, если у одного из нас была работа, а запасы истощались.
– Вы слышали, о чем спорили мастер Грининг с друзьями. О чем? – спросил я. – О таинстве причащения?
Печатник снова заколебался в нерешительности.
– Да, и предопределено ли для людей, куда они попадут: в рай или ад. Еще хорошо, мастер Шардлейк, что я не католик, а Джон Хаффкин старается не совать нос в то, что его не касается.
– Они были неосторожны.
– Этим летом они казались очень возбужденными. – Джеффри сжал губы. – В один из вечеров я слышал, как они спорили, следует ли людей крестить, только когда они уже взрослые, и все ли крещеные христиане имеют право на равенство, право отбирать имущество у богатых и делать его общим.
– Значит, Армистед Грининг мог быть анабаптистом?
Оукден стал ходить туда‑сюда, качая головой.
– Из того, как он спорил со своими друзьями, я могу заключить, что они расходились во взглядах. Вы знаете, как радикалы расходятся между собой – впрочем, как и их противники.
– Знаю.
Последние десять лет были временем перемены веры: люди переходили из католицизма в лютеранство, потом в радикализм и обратно. Но Грининг и его друзья, очевидно, обсуждали радикальные крайности. Я задумался, где теперь эти трое – Маккендрик, Вандерстайн и Кёрди. Затаились?
Джеффри снова заговорил:
– Я часто не мог понять, как Армистед сводит концы с концами. Некоторые книги, которые он печатал, плохо продавались, а иногда у него, похоже, вообще не было работы. А порой он бывал занят. Я задумывался, не занимается ли он печатаньем запрещенных книг и памфлетов. Знаю, что несколько лет назад ему доставили большую партию книг…
– Уже напечатанных?
– Да. Их привезли с материка, возможно, нелегально, для распространения. Я видел их у него в хибаре, в ящиках, когда заходил спросить, не нужен ли ему дополнительный шрифт, который у меня оказался. Один ящик был открыт, и он быстро его закрыл.
– Интересно, что это были за книги…
– Кто знает? Может быть, труды Лютера, или этого Кальвина, который, говорят, вызвал новый шум в Европе, или Джона Бойла… – Джеффри закусил губу. – Армистед просил меня никому не говорить о тех книгах, и я поклялся, что не скажу. Но теперь он умер, и это не может повредить ему.
– Благодарю вас за доверие, мастер Оукден, – тихо сказал я.
Печатник серьезно посмотрел на меня:
– Если бы я рассказал об услышанном не тем людям, Армистед и его друзья могли бы кончить так же, как вчера Анна Эскью. – Его губы вдруг в отвращении скривились. – Это было мерзко, отвратительно!
– Да. Меня заставили пойти и посмотреть, как представителя моего инна. Это был ужасный, злобный акт.
– Мне тяжело, мастер Шардлейк. Мои симпатии на стороне реформаторов. Я не сакраментарий и уж тем более не анабаптист, но я не бросил бы своих соседей в костер Гардинера.
– И Элиас входил в этот радикальный кружок? – тихо спросил я.
– Да, думаю, входил. Этим летом я не раз слышал его голос из хибары мастера Грининга.
– Я должен допросить его, но я буду осторожен.
– Хоть Элиас и такой неотесанный, но был предан своему хозяину. Он хочет, чтобы убийц нашли.
– И он может дать важные показания. Насколько я понимаю, Элиас сорвал первую попытку нападения на типографию за несколько дней до убийства.
– Да. Он единственный это видел, но определенно поднял тревогу и созвал других подмастерьев, – сказал Оукден и, немного помолчав, добавил: – Я вам скажу одну странную вещь, поскольку сомневаюсь, что Элиас об этом расскажет. За несколько дней до убийства мастер Грининг с друзьями, включая Элиаса, собрались на свою вечернюю дискуссию. Спор у них вышел особенно громкий. Окна у них были открыты, и у меня тоже, и какой‑нибудь проходящий стражник мог услышать их с улицы. Хотя здесь даже стражники – реформаторы.
Я знал, что во многих лондонских приходах люди все больше обособляются в реформаторских и традиционалистских кварталах.
– Все на этой улице склоняются к реформизму? – уточнил я. – Мне известно, что это так для многих печатников.
– Да. Но то, что я услышал, было бы опасно в любом квартале. Я рассердился на них, так как если бы их арестовали, то и меня бы тоже стали допрашивать, а у меня жена и трое детей, о которых надо думать. – Голос моего собеседника слегка дрогнул, и я понял, как беспокоили его бездумные разговоры соседей. – Я вышел на улицу и хотел постучать им в дверь, сказать, что нужно соблюдать безопасность – свою и мою. А когда подошел к двери, услышал, как голландец – у него характерный акцент – говорит о каком‑то человеке, который скоро прибудет в Англию, и якобы этот человек – посланец самого Антихриста, и он сокрушит и уничтожит наше королевство и обратит истинную религию в прах. Они называли имя, какое‑то иностранное имя. Я не уверен, что правильно расслышал.
– Что же вы расслышали?
– Оно звучало как‑то вроде «Джурони Бертано».
– Звучит по‑испански – или по‑итальянски.
– Вот все, что я услышал. Я постучал в дверь, попросил их говорить потише и закрыть окна, пока все не оказались в Тауэре. Они не ответили, но, слава богу, закрыли окна и умерили голоса. – Печатник бросил на меня испытующий взгляд. – Я рассказал вам это только потому, что знаю, в какой опасности оказалась королева.
– Я искренне благодарен.
– Но я все не могу понять одной вещи, – сказал Оукден. – Зачем радикалам красть книгу королевы Екатерины, тем самым подвергая ее опасности?
– Я бы тоже хотел это знать.
– Я определенно не слышал, чтобы они упоминали имя королевы. Но, как я сказал, кроме того единственного вечера, когда я услышал про Джурони Бертано, обычно до меня доносились только отдельные фразы. – Джеффри вздохнул. – В наши дни нигде не безопасно.
За дверью послышались шаги, и мы с Оукденом тревожно переглянулись. Дверь открылась, и вошел явно довольный Николас.
– Ты не мог постучать? – сердито сказал ему я. – Мастер Оукден, это мой ученик Николас Овертон. Я прошу прощения за его манеры.
Мой помощник, похоже, обиделся. Он поклонился хозяину дома и быстро повернулся ко мне:
– Извините, сэр, но я нашел кое‑что в саду.
Я бы предпочел, чтобы он не выпаливал это перед Оукденом. Для его же безопасности печатнику было лучше знать как можно меньше. Но Николас продолжал:
– Я перелез через стену. Сад за стеной весь зарос высокой травой и ежевикой. Дом разрушен – похоже, это была монашеская обитель. Теперь там нашла жилье семья нищих.
– Это, юноша, был монастырь францисканцев, – сказал Джеффри. – После ликвидации монастырей много камней из него растащили для строительства, и этот участок никто так и не купил. В Лондоне по‑прежнему избыток пустующих земель.
А Овертон уже тараторил дальше:
– Я посмотрел, нет ли каких‑либо следов в высокой траве. Дождя с тех пор не было, а я хороший следопыт, я хорошо освоил это дело, когда охотился дома. И я заметил, что трава осталась примята, как будто по ней кто‑то бежал. И в зарослях ежевики я нашел вот это. – Он вытащил из кармана обрывок кружева из тонкого белого льна с черной вышивкой, крошечными петельками и завитушками, и я увидел, что это обрывок с манжеты рубашки, какую мог себе позволить только джентльмен.
Оукден посмотрел на кружево.
– Тонкая работа, с виду лучший батист. Но вы заблуждаетесь, молодой человек: мой помощник ясно видел злоумышленников – они были в грубых шерстяных рубахах. Должно быть, кто‑то еще проходил по саду и порвал рубашку.
Я повертел кружево в руке.
– Но кто в таком наряде будет бродить по заброшенному саду, заросшему колючками?
– Возможно, – сказал мой ученик, – совсем не бедные люди надели грубую одежду поверх рубашки, чтобы прохожие на улице не обращали на них внимания.
– Святая дева, Николас, – воскликнул я, – а ведь и правда!
И укравшие «Стенание» люди имели доступ к высшим лицам при дворе.
– Николас, ты поговорил с тем семейством нищих? – спросил я Овертона.
– Да, сэр. Это крестьянин с женой, из Норфолка. Их землю огородили для овец, и они перебрались в Лондон. Заняли одну комнату, где осталась крыша. Они меня испугались: думали, кто‑то купил участок и послал юриста вышвырнуть их. – Молодой человек говорил о них с пренебрежением, и Оукден неодобрительно нахмурился. – Я спросил, не видели ли они кого‑нибудь в день убийства. Они сказали, что проснулись от шума, когда какие‑то люди бежали через сад. Какие‑то двое с дубинами – большие молодые парни, один почти лысый. Они скрылись, перебравшись через дальнюю стену.
– Значит, Джон Хаффкин разглядел верно. – Печатник посмотрел на обрывок кружевной манжеты. – Меня это тревожит, сэр. Убийство могли совершить люди с положением.
– Да, может быть. Ты хорошо справился, Николас. Пожалуйста, мастер Оукден, держите это в тайне.
Джеффри горько рассмеялся:
– Могу поклясться, со всей готовностью.
Я засунул обрывок в карман и глубоко вздохнул:
– А теперь я должен допросить молодого Элиаса.
* * *
Подмастерье оторвался от возни со шрифтом на станке и сказал Оукдену, когда мы вошли:
– Хозяин, мы отстаем…
– У нас большой заказ, – пояснил Джеффри. – Однако, Элиас, эти джентльмены расследуют убийство мастера Грининга по поручению его родителей. Мы должны им помочь.
– Я Мэтью Шардлейк из Линкольнс‑Инн, – представился я, протягивая руку.
– Элиас Рук. – Юноша прищурился. – Мастер Грининг говорил мне, что его родители – бедные люди. Как они могли позволить себе нанять юриста?
Это был смелый вопрос для простого подмастерья.
– Элиас, – предостерегающе проговорил Оукден.
– Я только хочу выяснить правду, что же на самом деле произошло, Элиас, и, если смогу, сделать так, чтобы убийцы мастера Грининга предстали перед правосудием, – проигнорировал я его вопрос. – Я бы хотел кое‑что спросить у тебя.
Юноша по‑прежнему смотрел подозрительно, и я ободряюще добавил:
– Насколько я знаю, в вечер убийства ты был дома.
– С матерью и сестрами. И приходил сосед. Я сказал это на дознании.
– Да. Еще мне известно, что до того ты сорвал нападение на жилище мастера Грининга.
– Это я тоже рассказал им. Я пришел на работу рано утром – было много работы, – а рядом с хибарой стояли двое, пытаясь открыть замок. Они держались тихо – думаю, знали, что мастер Грининг внутри.
– Но это были не те люди, которые напали на него потом?
– Нет. Старый Хаффкин описал тех, кто убил моего бедного хозяина: они были крепкие и высокие. А эти двое были совсем не такие. Один низенький и толстый, а другой худой, со светлыми волосами, и у него не хватало половины уха. Как будто отрублено мечом, а не большая дыра, как когда уши прибивают к позорному столбу.
– Они были вооружены?
– У них на поясе были кинжалы, но так бывает у большинства людей.
– Как они были одеты?
– В старых кожаных куртках.
– То есть в дешевой одежде?
– Да. – Элиас немного успокоился, увидев, что я повторяю старые вопросы. – Но нынче большинство так одеваются, когда богатые хапуги и знатные бездельники забирают все себе.
– Не дерзи моему хозяину, хам, – сказал Николас.
Я поднял руку. Мне не сложно было стерпеть мальчишескую дерзость, если это давало мне информацию. И я понял, что этот юноша, похоже, придерживается радикальных социальных взглядов.
– Когда случилось первое нападение? – спросил я. – Мне говорили, что за несколько дней до убийства.
– За неделю. В понедельник, пятого.
Я нахмурился, поняв, что это было до кражи «Стенания». Это не имело смысла.
– Ты уверен в дате?
Рук прямо посмотрел на меня.
– Это день рождения моей матери.
Я кивнул:
– И что ты сделал, увидев тех двоих?
– Что на моем месте сделал бы любой хороший подмастерье. Закричал «За дубины!», чтобы остальные парни на улице знали, что здесь беда. Несколько человек прибежали, хотя и не очень скоро – было рано, они, наверное, еще не встали. Если сомневаетесь, они подтвердят дату. Те двое уже скрылись – через стену сада позади мастерской мастера Грининга. Несколько человек бросились за ними, но не догнали. – Я подумал, что эти двое тоже перед нападением обследовали местность вокруг жилища Грининга, чтобы знать, куда бежать. – А я остался и постучал хозяину.
– И как он отнесся к этому, когда ты ему рассказал?
– Он встревожился. А вы как думали? – грубо ответил Элиас.
Николас предостерегающе на него посмотрел, но парень не придал этому значения.
– У твоего хозяина были какие‑нибудь догадки, кто могли быть эти люди? – продолжил я расспросы.
– Он подумал, что это случайные воры. Но они, должно быть, связаны с теми, что пришли потом и убили его. Верно? – спросил подмастерье.
Я уловил в его голосе легкую дрожь. Несмотря на свою браваду, Рук был серьезно напуган. Но если на жилище Грининга напали за неделю до убийства, зачем же тот открыл дверь на стук двух убийц? Или его успокоила культурная манера, с которой пришедшие попросили открыть – ведь у одного из них была под грубой рубахой кружевная рубашка? Снова взглянув на Элиаса, я подумал, не знает ли он про книгу. Если знает, то он представляет опасность. И все же парень не спрятался, как, похоже, сделали трое друзей Грининга, а стал работать по соседству.
– Что тебе известно о друзьях твоего хозяина? – неуверенно спросил я. – У меня есть имена Маккендрик, Вандерстайн и Кёрди.
– Я встречался с ними. – Подмастерье снова прищурился. – Хорошие, честные люди.
– Они могли бы дать отчет о своих перемещениях в ту ночь, – сказал я с ободряющей улыбкой, – но их нигде не видно уже несколько дней.
– Я тоже не видел их после убийства.
– Маккендрик – шотландская фамилия, – напрямик сказал Николас. – Совсем недавно мы воевали с шотландцами.
Рук гневно посмотрел на него.
– Паписты выгнали мастера Маккендрика из Шотландии за то, что тот называл душу папы вонючей менструальной тряпкой. А так оно и есть.
– Элиас! – одернул его Оукден. – Не говори таких слов в моей мастерской.
Я умиротворяюще поднял руку.
– А был мастер Грининг близок с какой‑нибудь женщиной? Ведь твой хозяин был еще молодым человеком…
– Нет. С тех пор как его бедная жена умерла, он посвятил себя своей работе и служению Богу.
Я уже обдумывал, как бы ввернуть Элиасу вопрос о его участии в религиозных дискуссиях между его хозяином и друзьями, когда Овертон вдруг выпалил:
– А как насчет этого Джурони Бертано, которого, я слышал, мой хозяин упоминал наверху? Твой хозяин знал его?
На лице Рука отразился страх, и его напускная грубость моментально исчезла. Он попятился.
– Откуда вам известно это имя? – спросил он и посмотрел на Оукдена. – Хозяин, этих людей послал епископ Гардинер!
Не успел Джеффри что‑либо ответить, как его подмастерье с покрасневшим от страха и злобы лицом закричал на меня:
– Подлый горбатый папист!.. – и с этими словами ударил меня по лицу, отчего я пошатнулся.
Парень бросился на меня и, учитывая его размеры, вполне мог бы меня покалечить, если б Николас не схватил его за горло и не оттащил в сторону. Юноша вырвался, вцепился в Овертона, и оба повалились на пол. Мой помощник схватился за меч, но Рук оттолкнул его и бросился в открытую дверь типографии, и его шаги загремели по лестнице. Я услышал крик жены Оукдена «Элиас!» и стук входной двери.
Через секунду Николас был уже на ногах и бросился вниз по лестнице вслед за беглецом. Оукден и я смотрели из окна, как мой ученик стоит на людной улице, глядя по сторонам, высматривая Элиаса, но тот уже скрылся. Парень знал эти улицы и переулки как свои пять пальцев.
Джеффри уставился на меня с изумлением и тревогой.
– Почему это имя вызвало у него такой ужас? Я никогда не видел Элиаса таким.
– Не знаю, – тихо ответил я, вытирая кровь со щеки.
Вернулся Николас.
– Убежал, – сказал он. – Вы ранены, хозяин?
– Нет.
Лицо печатника потемнело от гнева.
– Элиас так перепугался, что вряд ли вернется. – Он вперил взгляд в Овертона. – И теперь мне надо найти нового подмастерья, когда работа в разгаре… А все из‑за того, что ты сболтнул это имя. Мастер Шардлейк, с меня хватит. Я больше не хочу заниматься этим делом. У меня есть работа, и на мне жена и дети.
– Мастер Оукден, мне очень жаль, – вздохнул я.
– И мне тоже. Мне жаль, и мне жутко страшно. – Переводя дыхание, Джеффри снова выглянул в окно. – А теперь, пожалуйста, уйдите. И прошу вас, больше не впутывайте меня в это дело.
– Я постараюсь обеспечить, чтобы вас больше не беспокоили. Но если Элиас все же вернется, не могли бы вы сообщить мне об этом в Линкольнс‑Инн?
Оукден не обернулся, но устало кивнул.
– Благодарю вас, – снова сказал я. – Мне очень жаль. – Затем я повернулся к Николасу: – Пойдем, ты.
* * *
Я быстро пошел по Патерностер‑роу. Лицо у меня болело от удара Элиаса. Скоро появится очень милый синяк.
– Нужно пойти к констеблю, – сказал Николас. – Побег подмастерья от хозяина – проступок…
– Мы еще не знаем, сбежал ли он, – ответил я. Кроме того, я не собирался вмешивать в это власти – во всяком случае, не посоветовавшись с лордом Парром. Остановившись, я повернулся к своему спутнику: – О чем ты думал, назвав это имя?
– Я услышал, как вы и мастер Оукден говорите о нем, когда подошел к двери. Это показалось мне важным. И я подумал, что будет неплохо припугнуть этого наглеца.
– Разве ты не видел, что под своей наглостью он скрывает страх?
– Я видел только, что он разговаривает с вами не так, как подобает неотесанному подмастерью с человеком вашего ранга.
– Да, Николас, ты помешан на рангах и классах, а Элиас раздражал тебя, и тебе захотелось поставить его на место. Я старался успокоить его, чтобы завоевать доверие этого паренька. Разве ты не знаешь поговорки, что не стоит пришпоривать коня сверх меры? Из‑за тебя мы потеряли нашего самого ценного свидетеля.
Овертон, казалось, упал духом.
– Вы сказали, что я могу задавать вопросы.
– После того, как хорошенько их обдумаешь. А ты не раздумывал, ты просто реагировал на его поведение. Для юриста это самое страшное. – Я ткнул пальцем ученику в камзол. – Больше никогда у меня на службе не изображай из себя галантного джентльмена.
– Мне очень жаль, – сухо сказал молодой человек.
– И мне тоже. А уж как сожалеет бедный мастер Оукден…
– Похоже, это убийство затрагивает самые деликатные религиозные вопросы, – тихо проговорил Николас.
– Тем больше причин и вести себя деликатно, – проворчал я. – А теперь возвращайся в Линкольнс‑Инн и спроси Барака, что там нужно делать. И ни слова о том, где мы были. Думаю, даже ты понимаешь всю важность конфиденциальности в этом деле. Теперь я тебя покину, у меня важное дело в другом месте.
Я повернулся к Овертону спиной и пошел прочь, к реке, чтобы взять лодку и добраться до Уайтхолла.
Глава 9
Я спустился по ступеням к Темзе. Вдоль берега стояло множество ожидающих лодочников, кричавших «Эй, на восток!» или «Эй, на запад!», обозначая, куда они намереваются плыть, вверх или вниз по реке. Я подозвал того, который собирался вверх, и он подогнал лодку к ступеням.
Мы проплыли мимо дворца Уайтхолл, и я попросил лодочника причалить к Вестминстерской пристани, чуть подальше. У Общей пристани Уайтхолла слуги выгружали из другой лодки огромные вязанки дров, вероятно предназначавшиеся для дворцовых кухонь. Мне снова вспомнилось о вчерашнем сожжении, и меня передернуло. Лодочник странно посмотрел на меня. Я опустил глаза и стал разглядывать его руки, поднимавшие и опускавшие весла. Это был молодой человек, но руки у него были натруженными и узловатыми. Я знал, что с годами лодочники приобретают болезненный артрит, суставы у них на руках теряют гибкость и застывают в согнутом положении. И это только ради того, чтобы перевозить богатых людей вроде меня куда им надо.
Мы миновали Королевскую пристань. Широкая крытая галерея, раскрашенная зеленым и белым, на пятьдесят футов выдавалась в реку и заканчивалась просторным крытым причалом, где причаливала королевская баржа. Наверху вытянулась длинная линия прекрасного дворцового фасада: его красная кирпичная кладка ярко горела на клонящемся к закату солнце, и свет рассеивался на выступах, богато отшлифованных бастионах с высокими застекленными окнами, а на южном конце виднелись покрытые лесами новые апартаменты леди Мэри. Я заплатил лодочнику и поднялся по Уайтхолл‑роуд к западной стене дворца, к воротам. Мне было жарко в робе, я был весь в пыли, усталый и огорченный.
На этот раз меня никто не встречал, но мое имя было в списке, и стражник у ворот впустил меня. Я прошел под арку, пересек двор и поднялся по лестнице в помещение королевской охраны. Мое имя проверяли у каждой двери.
Я поднялся в королевскую приемную. Когда я вошел, слуга в коричневой робе пронес мимо серебряный кувшин с водой, и мы чуть не столкнулись. Я осмотрелся. Странно, впечатление фантастического великолепия немного ослабло, хотя я чувствовал присутствие королевских телохранителей в их красочных, словно кукольных мундирах. Но сами они были здоровенными молодцами с тяжелыми алебардами. Здесь я видел меньше молодых хлыщей, пришедших, чтобы попробовать попасться на глаза важным особам. Мой взгляд снова привлекла картина королевского семейства с квадратной основательной фигурой короля, контрастирующей с той гротескной жалкой фигурой, которую я недавно видел из окна.
Двое кандидатов в придворные играли в серебряные кости. Один из них вдруг вскочил и закричал:
– Ты жульничаешь! Ты третий раз подряд выбросил пятерку!
Другой встал и откинул в сторону свой короткий испанский плащ, чтобы освободить руку.
– Придержи язык! Ты оскорбляешь меня…
Тут же подошли два телохранителя, которые взяли хлыщей под руку.
– Мужланы, вы забыли, где находитесь! – прикрикнул на них один из стражей. – Вы посмели подумать, что здесь можно поднимать гам, как в обычной таверне? Убирайтесь, лорду‑камергеру короля будет доложено об этом!
Игроков отвели к дверям, и все присутствующие в комнате проводили их взглядом.
И тут у меня захватило дыхание: я увидел двух человек в черных робах с золотыми цепями. Они вошли с лестницы и стояли, глядя на скандалистов. Обоих этих людей я видел на сожжении. Один из них был государственным секретарем Уильямом Пэджетом – его квадратное лицо хмурилось над русой бородой, обрамлявшей его странную, словно перекошенную прорезь рта. Худощавая фигура другого контрастировала с крепким сложением Пэджета, а на его худом лице играла сардоническая улыбка. Это был сэр Ричард Рич. Они не заметили меня, и я скорее проскользнул к двери в приемную королевы и шепотом назвал стражнику свое имя. Он открыл, и я проскочил внутрь. С другой стороны двери другой стражник в мундире со значком королевы вопросительно посмотрел на меня.
– Сержант Шардлейк, – сказал я, еле дыша. – К лорду Парру.
Дядя королевы уже ждал меня: кто‑то снизу, видимо, уже доложил ему о моем прибытии. На фоне всей этой великолепной декорации и роскошных одежд придворных фигура Уильяма Парра в черной робе казалась скромной. Его наряд оживлял лишь значок королевы на груди и массивная золотая цепь на шее. Я низко поклонился.
– Пройдемте в мой личный кабинет, мастер Шардлейк, – сказал он.
Я вышел вслед за ним через другую дверь. Стражник, стоящий там, хотя и молодой, но уже с проседью в рыжей бороде, бросил на меня как будто бы особенно пронзительный взгляд. Потом лорд Парр провел меня по коридору. Наши шаги не были слышны на толстой циновке, покрывавшей здесь пол от стены до стены. Через приоткрытую дверь я заметил приемную Ее Величества и саму королеву, сидевшую за вышивкой у окна, сегодня одетую в красное, с несколькими фрейлинами, которые присутствовали там и накануне. Гардинер, спаниель графини Саффолкской, сидел на полу, играя с косточкой.
– Мы идем к личным покоям королевы, – сказал лорд Уильям. – Мой кабинет там. Королеве нравится, что я рядом, с тех пор как она вызвала меня весной из деревни. – Он открыл дверь в маленький темный кабинет с окном, выходящим еще на один двор. В этой комнатке на сундуках и маленьком столе аккуратными стопками лежали бумаги. – Вот, – сказал Парр, снимая со стула робу юриста из тонкого шелка и протягивая ее мне. – Переоденьтесь.
Я увидел, что на груди этого одеяния был пришит яркий значок королевы. Прежде чем занять место за столом, лорд подошел к окну и закрыл его. Потом предложил мне сесть.
– В летние дни я предпочитаю открытое окно, – с сожалением проговорил он, – но здесь никогда не знаешь, кто может подслушивать из соседнего окна. – Старик вздохнул. – Как вы, наверное, поняли, двор полон страха и ненависти. Здесь ни у кого нет дружеских отношений. Даже в семье – Сеймуры ругаются и царапаются, как кошки. Только семейство Парров едино, мы преданы друг другу, – с гордостью сказал он. – В этом наша сила.
– Вы здесь только с весны, милорд? – рискнул спросить я.
– Да. В последние годы я передал свои обязанности и оставался у себя в поместьях. Я уже старый человек и не всегда хорошо себя чувствую. Не так, как в молодости, когда служил королю. – Уильям улыбнулся воспоминаниям. – Как и мой брат, отец королевы. А мать королевы была фрейлиной Екатерины Арагонской. Парры долгое время были при дворе. Мать королевы умерла прямо перед тем, как разразилась буря королевского развода. Что ж, она оказалась избавлена от этого. – Он поднял взгляд – острые глаза под белыми бровями. – С тех пор я остаюсь in loco parentis[21] для моей племянницы и сделаю все, чтобы защитить ее. Когда она попросила вернуться ко двору, я приехал тотчас же.
– Понимаю.
– Я должен принять у вас присягу…
Лорд вытащил из выдвижного ящика Евангелие, и я торжественно поклялся служить королеве верно и честно. Парр коротко кивнул, вернул Евангелие на место и спросил:
– Ну, что нового?
Я вздохнул:
– Ничего хорошего, милорд.
Я рассказал ему, что первое нападение на жилище Грининга случилось до кражи «Стенания», что власти отказались от расследования и что друзья Грининга, похоже, затаились, и, может быть, они даже являются анабаптистами. По конец я объяснил, как сбежал Элиас. Все это были нехорошие известия, и мне пришлось рассказать про неосторожность Николаса с именем Бертано, хотя я и похвалил его за обнаружение обрывка кружев. Я принес этот обрывок с собой и теперь положил его на стол. Лорд Парр рассмотрел его.
– Тонкая работа, дорогая… Характерный черный узор. – Он перевернул лоскут. – Вышивальщик королевы, мастер Галлим, всю жизнь проработал в гардеробе королевы в замке Бэйнард и знает всех изготовителей кружев в Лондоне. Может быть, он сумеет выяснить, чья это работа.
– По обрывку манжеты?
– Такого качества – возможно. – Лорд нахмурился. – Подмастерье уверен, что первое нападение было до того, как «Стенание» пропало?
– Вполне. Мне очень жаль, что он убежал. Услышав имя Бертано, он пришел в ужас.
– Я никогда раньше его не слышал… Так, значит, Оукден подслушал, как они говорили об этом Бертано, что он посланник Антихриста и погубит страну?
– Определенно. И я считаю Оукдена честным человеком, – сказал я и, поколебавшись, добавил: – Он просит, чтобы теперь мы оставили его в покое, боится за свою семью.
– Все мы боимся, – резко ответил Парр. – И все же – уже одиннадцать дней, как книгу украли, и ни слова, ничего… Кто мог ее взять?
– Наверняка не религиозные радикалы.
– Но если б ее взял папист, книга была бы уже опубликована, и Бог знает, что стало бы с моей племянницей. Король очень строго смотрит на любой признак нелояльности. – Уильям закусил губу. – Нам нужно отыскать этого подмастерья. – Он строго посмотрел на меня. – Вы не должны были упустить его.
– Я знаю, милорд.
– А эти три товарища Грининга – они где‑то спрятались?
– Похоже на то. Хотя они могли просто затихнуть на время. Констеблю известно, где они живут. Он присматривал за ними в этом году, как за возможными сакраментариями.
Лорд Парр сердито нахмурился, и на его бледных щеках выступили пятна.
– Божья кара эти крайние радикалы со своими безумными идеями! Они ставят под удар тех из нас, кто хочет реформ, но знает, что нужно действовать потихоньку. Они понятия не имеют о реальной политике. Может быть, и нет никакого Бертано, а это лишь фантом в их воспаленном воображении! – Уильям издал долгий вздох, успокаивая себя, а потом проговорил: – Вы должны разыскать этих троих дружков Грининга. Поговорите с ними, узнайте, что им известно. – Он снова нахмурился. – И если опять возьмете с собой своего ученика, пусть знает, когда надо держать язык за зубами.
– Можете быть уверены, милорд, я позабочусь.
Я сообразил, что это потребует еще больше работы, к тому же среди людей, которые могут быть опасны для тех, кого они считают своими врагами. Кроме того, я подумал о работе в конторе, которую не мог оставить подручным – предстоял осмотр стенной росписи по иску миссис Слэннинг, – и меня на мгновение охватила паника. Ощутив, что кресло подо мной покачнулось, я крепко вцепился в подлокотники.
– В чем дело? – резко спросил лорд Парр.
– Простите, милорд, я… Сегодня был тяжелый день, а вчера я присутствовал на сожжении. Иногда от усталости у меня бывает странное чувство – будто мир начинает качаться…
Я ожидал, что собеседник одернет меня за слабость и жалобы, но, к моему удивлению, он тихо проговорил:
– Королева говорила мне, что в прошлом году вы были на «Мэри Роуз», когда корабль затонул. Это была большая трагедия. Впрочем, при дворе не принято говорить об этом – королю кажется унизительным, что его любимый корабль потопили[22].
– Я потерял добрых друзей и сам чуть не погиб. Во времена сильного напряжения… Простите меня, милорд.
Лорд Уильям хмыкнул:
– Мне тоже иногда бывает нехорошо. Я давно страдаю от лихорадок, и они случаются все чаще. Иногда я так устаю… – Он пожал плечами, а потом натянуто улыбнулся. – Но мы должны идти вперед. Вы знаете девиз королевы?
– Приносить пользу во всем, что делаешь.
– И так и должно быть. Я знаю, это тяжкий груз, сержант Шардлейк.
– Спасибо, милорд, но вы считаете, что мне действительно лучше всего попытаться найти и допросить этих людей? Радикалы ко всем подозрительны. Они наверняка, как тот подмастерье, сочтут меня пытливым законником, чей хозяин покарает их.
Лорд Парр криво усмехнулся:
– Да, люди относятся с подозрением к вашему ремеслу; они думают, что юристы работают на своего нанимателя ради гонорара.
– Возможно, если кто‑то попытается для начала связаться с этими людьми, кто‑то известный своим сочувствием к ним, и скажет им, что юрист, который придет, – не враг… Больше им ничего не понадобится.
Старик кивнул:
– Вы правы. Помните молодого Уильяма Сесила?
– Конечно.
– Известно, что он имеет некоторые… контакты, скажем так. Он очень малозначительный сотрудник в Научном совете королевы, но я уже отметил его ум и приверженность реформам. Как и личные амбиции, весьма значительные. – Старый лорд снова сардонически улыбнулся. – Хорошо, я пошлю его разыскать этих людей и заверить их, что вы хотите только расспросить их об убийстве Грининга и не причините никакого вреда. Это все, что будет сказано мастеру Сесилу. О «Стенании» ему, конечно, ничего не известно.
– Это может помочь в наших поисках.
Парр погладил бороду:
– Так вы говорите, Грининг печатал лишь учебник французского, когда его убили?
– Да. Я тщательно обыскал типографию.
– Как вы сами понимаете, королева не имеет никаких связей с такими мелкими типографиями. Ее «Молитвы и размышления» отправили к королевскому печатнику, Джону Бертелету. – Он покачал головой, а затем решительно схватился за подлокотники и сказал: – А теперь я бы хотел, чтобы вы допросили некоторых слуг из окружения королевы.
– Да, милорд.
– Но сначала взгляните вот на это.
Уильям достал из своей робы маленький ключик на золотой цепочке.
– Я уговорил мою племянницу доверить его мне. Это тот ключ, который она носила на шее, от ее личного сундука.
Я взглянул. Ключик имел на бородке несколько зубцов разной величины.
– Похоже, такой ключ нелегко скопировать, – заметил я.
– Да. Сам сундук я велел перенести в надежное место, где его можно осмотреть. – Лорд Парр спрятал ключик в складках своей робы. – Ну, вы готовы допросить слуг? – Он твердо посмотрел на меня.
– Да, милорд. Простите, у меня была минута слабости.
– Хорошо. – Лорд сверился с бумагой у себя на столе. – Я проверил записи и выяснил, кто дежурил в тот вечер. Королева во второй половине дня была у себя в покоях. После обеда она пошла к себе в спальню, посмотрела книгу и снова подумала о ее уничтожении, а потом какое‑то время изучала испанский – она стремится улучшить свое знание языков, это может оказаться очень полезно на дипломатическом поприще.
– Она часто остается одна во второй половине дня?
– Нет. Но когда день свободен, она любит воспользоваться случаем немного побыть одной – в этом дворце не всегда легко уединиться, – с чувством добавил Парр. – Потом, в шесть часов, ее вызвал король, и она вернулась в десять. За эти четыре часа «Стенание» кто‑то украл. По словам стражи, в личные покои королевы в это время входили два пажа, в чьи обязанности входит убирать в комнатах и в галерее королевы, покормить Рига, спаниеля королевы, и ее птичек. Вы также допросите двух женщин, которые имеют более‑менее свободный доступ в покои, – Мэри Оделл, фрейлину, которая служит королеве много лет, готовит ей постель и часто спит у нее в покоях, и дурочку Джейн, которую королева делит с леди Мэри. Джейн очень плохо соображает. Известно, что она входила в тот вечер в личные покои, где сидели несколько фрейлин, и хотела видеть мою племянницу, говоря, что у нее якобы есть что‑то, что развлечет ее. Она не поверила, когда фрейлины сказали, что моя племянница у короля, а Джейн умеет поднять шум, если не добивается своего – королева и леди Мэри избаловали ее, – поэтому стража впустила ее в покои посмотреть самой. Она вышла через несколько минут. Вот и все.
– Сколько комнат в личных покоях королевы?
– Шесть. Умывальня, спальня, молельня, кабинет, ванная и столовая. И кроме того, личная галерея, где она часто прохаживается. Кстати, я лично осмотрел каждый дюйм каждой комнаты на случай, если книгу каким‑то образом спрятали там. И ничего не нашел.
– Чтобы делать уборку каждый день, нужны два пажа?
Лорд саркастически рассмеялся:
– Разумеется, нет. Но это королевское хозяйство, здесь повсюду слуги в знак высокого статуса королевы. Есть еще двое, которые приходят убирать по утрам. Только у короля слуг больше.
– И обслуживающий персонал сменяется?
– Да. Существует очередность. Я понял, о чем вы подумали. Другой слуга мог узнать о существовании книги раньше? Но они не могли спланировать похищение заранее, так как никто не знал, что в тот вечер король вызовет королеву.
– Но он вызывает ее, наверное, довольно часто?
– Не каждый вечер. А в последние дни он по вечерам часто встречается со своими советниками и послами.
– Значит, книгу, должно быть, похитил кто‑то из этих слуг, если только кто‑то не спрятался в галерее.
– Никто не мог. Стража у дверей в личные покои проверяет всех, кто входит и выходит. Все абсолютно исключаются.
Я задумался.
– А сами стражники? Им можно доверять?
– Все отобраны королевой. Опять же, тут тоже существует очередность, и если б стражник покинул свой пост у дверей, это сразу заметили бы. В первую очередь претенденты в придворные, которые могли бы попытаться проникнуть туда, куда не положено. Нет, единственные, кто входил в отсутствие королевы, – это два пажа, Мэри Оделл и дурочка Джейн.
– Только четверо.
– Я вызвал и пажей, и обеих женщин. Под предлогом пропажи перстня, я бы хотел, чтобы вы проверили перемещения их всех в тот день. Пропажа драгоценного камня очень опечалила королеву. Она дала вам полномочия увидеться с Мэри Оделл наедине, но дурочку Джейн вы должны допрашивать в ее присутствии. Джейн так глупа, что перепугается и может надерзить. – Уильям нахмурился – очевидно, шутиха сильно досаждала ему.
– Очень хорошо, милорд.
– Леди Оделл – одна из четырех горничных. Это невысокая должность, но зато Мэри особенно близка к королеве. Она ее двоюродная племянница. Теперь в окружении королевы много дальних родственников, как раньше везде были Болейны и Сеймуры. Кроме того, что они зависят от нее, они также обязаны ей своими должностями, так что на их преданность можно рассчитывать. А на Мэри Оделл – особенно: она не только служит королеве, но и ее ближайшая подруга. Будьте с ней поучтивее. Что касается дурочки Джейн… – Старик склонил голову. – Есть два типа шутов: те, что искусны в добрых дурачествах, как королевский шут Уилл Соммерс, и дураки от природы, как Джейн. Она обладает большой свободой. Но и едким юмором. – Лорд Парр внимательно посмотрел на меня и мрачно заключил: – Никогда не знаешь, всегда ли дураки таковы, какими кажутся.
– И Джейн служит шутом также и у леди Мэри? Значит, она предана обеим.
– Я думал об этом. Уже десять лет, как леди Мэри покончила со своей строптивостью и согласилась с верховенством короля в делах Церкви. В религии она придерживается консерватизма, но все это время следует желаниям короля. Королева пыталась свести всех троих королевских детей вместе, однако хотя Мэри и любит малолетнего Эдуарда, она не любит леди Елизавету. – Уильям пожал плечами. – Можно понять: мать Елизаветы заняла место ее матери. Королева делала все, чтобы подружиться с Мэри. Они близки по возрасту и часто видятся.
– Но Мэри известна как противница реформ.
– Она избегала даже намеков на заговоры. Мэри не опасна. А теперь я вас покину. – Лорд Парр встал. – Пажей пришлют. Как я вам говорил, если допрос будет проводить кто‑то из Научного совета королевы, а не я сам, это привлечет меньше внимания. Я вернусь позже. Да, пропавший перстень выглядит так: из чистого гладкого золота с квадратным рубином в центре и инициалами покойной падчерицы королевы Маргарет Невилл – MN – внутри кольца. – Он шагнул к двери. – Осторожнее с Адрианом Расселом, он может оказаться дерзким щенком. Потом я покажу вам сундук. Кстати, я слышал сегодня, что в следующем месяце король переезжает в Хэмптон‑Корт. Туда уже послали крысоловов. Все вещи и все люди из королевских апартаментов отправятся туда на барже. Так что вы должны увидеть здесь все так, как оно было, пока это еще возможно.
* * *
Стражник ввел первого пажа, худого светловолосого паренька лет шестнадцати с заносчивыми манерами. На нем была красная ливрея со значком королевы на груди и черная шапка, которую он снял, когда вошел. Я строго посмотрел на него, как будто он был свидетелем противной стороны на суде.
– Ты Адриан Рассел?
– Да, сэр, Рассел Кендальский. Мой отец – дальний родственник королевы и имеет большие владения в Камберленде, – с гордостью проговорил юноша.
– А я сержант Шардлейк из Научного совета королевы, назначенный расследовать пропажу рубинового перстня, украденного из сундука Ее Величества в ее спальне. Ты слышал о краже?
– Да, сэр.
– Он был украден, когда королева была у Его Величества шестого июля, между шестью и десятью вечера. Ты был одним из дежурных в тот вечер?
Рассел дерзко посмотрел на меня:
– Да, сэр. Я и Гарет Линли пришли в шесть, принесли новые свечи, вымыли комнаты и надушили их новыми травами. Я ушел в восемь. Гарет остался. Убраться в спальне, – добавил он.
– А ты вообще входил в спальню королевы? – решительно спросил я.
– Нет, сэр, туда входил только Гарет Линли. – Я снова заметил в голосе Адриана нотку высокомерия. – Только одному пажу позволяется входить туда вечером, и была не моя очередь.
– Двое пажей делают уборку каждый день в течение двух часов?
– Это наше задание по расписанию. Мы должны следить также за галереей королевы и кормить там птиц.
Мне не понравился этот наглый юнец, и я холодно сказал:
– Может быть, это не всегда занимает полтора часа? Может быть, иногда вы присаживаетесь, отдыхаете?
– Как и все слуги, сэр.
– И мальчики любят трогать чужие вещи… Ты, может быть, помнишь: один уже украл что‑то у королевы. И его приговорили к повешенью.
Рассел вытаращил глаза и начал громко возмущаться:
– Сэр, я бы никогда ничего такого не сделал! Я ничего не крал, клянусь! Я из хорошей семьи…
– Ты так говоришь. А ты видел кого‑нибудь еще, когда был там? Или вообще что‑нибудь необычное?
– Нет, сэр.
– Подумай. Подумай хорошенько. Вор мог оставить что‑то не на своем месте, сдвинуть что‑то…
– Нет, сэр. Клянусь. Я бы сказал вам, если б увидел что‑то не на месте.
Молодой Рассел беспокойно потирал руки – его мальчишеская заносчивость быстро испарилась. Я не мог представить, чтобы этот молокосос мог оказаться замешан в похищении книги. Более мягким тоном я опросил его подробно о его передвижениях, а затем сказал, что он может идти. Адриан с облегчением стремглав вылетел из комнаты.
Второй паж, Гарет Линли, был напуган – я сразу это увидел. Он был того же возраста, что и Рассел, высокий и худой, с длинными, аккуратно причесанными волосами. Я предложил ему сесть и спросил о его обязанностях в спальне.
– Я вхожу туда, ставлю новые свечи в подсвечники, кладу новое белье на сундук, а потом меняю цветы и раскладываю в комнате свежие травы и лепестки. Кормлю Рига, собаку королевы, если он там, но в тот вечер его не было. Я, конечно, не притрагиваюсь к постели Ее Величества – это для ее горничных. В тот день, я думаю, дежурной горничной была Мэри Оделл.
Я кивнул:
– Ты кладешь белье на сундук. Тебе известно, что в нем хранятся ценности?
– Клянусь, сэр, я не притрагивался к нему! Полагаю, он был заперт.
– Ты когда‑нибудь проверял, заперт ли он?
– Никогда, – ответил юноша. – Я предан Ее Величеству. – Он возвысил голос, и я снова уловил в нем нотку страха.
Тогда я принял более дружелюбный тон.
– Ты не заметил чего‑нибудь необычного в комнате в тот вечер? Может быть, что‑то с сундуком?
– Нет, сэр. Уже темнело. Я принес лампу. – Паж нахмурился. – Но если бы что‑то было не так с сундуком, я думаю, я бы заметил. В ту неделю я клал туда белье каждый вечер.
– Ты когда‑нибудь видел тот украденный перстень?
– Нет. Мне говорили, что королева иногда носит его на пальце, но когда она проходит, я всегда низко кланяюсь, так что никогда его не видел.
– Очень хорошо. – Я поверил ему, но Гарет Линли, я был уверен, боялся чего‑то более серьезного, чем мой допрос. – Ты сам откуда, мальчик? – непринужденно спросил я. – У тебя северное произношение.
Мой вопрос, похоже, еще сильнее встревожил юношу – его глаза забегали.
– Из Ланкашира, сэр, – ответил он. – Моя мать была когда‑то фрейлиной Екатерины Арагонской. Это через нее моя семья получила свои земли. Она знала мать нынешней королевы, старую леди Парр.
– И так ты получил свою должность? Через связи своей семьи с матерью королевы?
– Да, сэр. Она написала лорду Парру, не найдется ли место для меня. – Дыхание Линли заметно участилось.
– Твои родители еще живы?
– Только мать, сэр, – сказал мальчик и немного помолчал в нерешительности. – Десять лет назад, после Северного восстания[23], отца посадили в Тауэр, и он умер там.
Я сосредоточенно обдумал это. Парень, чья мать служила Екатерине Арагонской и чей отец принимал участие в Северном восстании…
– Значит, история твоей семьи может заставить задуматься о твоих религиозных симпатиях, – медленно проговорил я.
Гарет сломался внезапно и полностью. Он чуть не упал со своего кресла и встал на колени, сжав ладони вместе.
– Это неправда! – воскликнул он. – Клянусь, я не папист, я верно следую королевским заповедям! Я постоянно говорю всем, если б только они оставили меня в покое…
– Встань, – ласково сказал я, жалея, что довел его до такого состояния. – Сядь обратно в кресло. Я здесь не для того, чтобы причинить тебе вред. Ты сказал: «говорю всем». Кому это «всем»?
Паж отчаянно замотал головой – по щекам его текли слезы.
– Давай, Гарет! – подбодрил я его. – Если ты не сделал ничего дурного, тебе ничего не будет. А если сделал – и признаешься, – королева будет милостива.
Мальчик издал долгий неровный вздох.
– Я ничего не сделал, сэр. Но, как вы говорите, из‑за прошлого моей семьи все думают, что я из тех, кто шпионит за реформаторами. Хотя лорд Парр и королева знают, что моя семья лишь хочет жить тихо и верно служить. Но после того, как я пришел во дворец… – Он опять замялся в нерешительности. – Один человек подходил ко мне, дважды, и спрашивал, не соглашусь ли я замечать, что могу, насчет королевы и сообщать тем, кто, по его словам, служит истинной религии. Я отказался, клянусь… – Юноша жалко уставился на меня. Его лицо распухло от слез, и я вдруг понял, как выгляжу в глазах невинного мальчика, ступившего в эту позолоченную, прекрасную выгребную яму.
– Ты доложил об этом вышестоящим? Лорду Парру?
– Нет, сэр, не посмел. Тот человек, он… напугал меня.
– Когда это случилось?
– Как только я пришел, прошлой осенью. Потом снова, в апреле, когда началась охота на еретиков.
– Два раза подходил один и тот же человек?
– Да, и я не знал его. Я рассказал одному из пажей, и тот сказал, что такое бывает, когда впервые появляешься при дворе, – подходят от одной стороны или другой, и если хочешь уберечь свою шкуру, лучше сказать «нет». Подходит всегда кто‑нибудь неизвестный при дворе, слуга кого‑нибудь из больших людей, но не из дворца.
– Как его звали?
– Он не сказал. Первый раз он подошел ко мне на улице. Второй раз ждал меня у дома, в котором я бываю. Что‑то в его лице напугало меня. – Мальчик потупился, стыдясь своей слабости.
– Можешь его описать?
Линли снова поднял на меня глаза и понял, что сейчас все решится.
– Ему было за двадцать, худой, но жилистый и сильный. Одежда на нем была дешевая, но говорил он как джентльмен. Помню, что у него не хватало половины уха, как будто ему отрубили его в бою. – Гарет содрогнулся.
Отрублено пол‑уха, как и у одного из тех, кого спугнул Элиас, когда они в первый раз пытались проникнуть в типографию. Я постарался не выказать своего возбуждения, а паж продолжил:
– Оба раза он говорил, что если я соглашусь шпионить за королевой, то заслужу благодарность очень значительной персоны в королевстве, что этот человек наградит меня и продвинет мою карьеру при дворе.
– Конечно, заманчивая перспектива, – заметил я.
– Нет. – Гарет вовсю замотал головой. – Теперь я хочу лишь как можно скорее убраться отсюда.
– Ты правильно сделал, что сказал мне, – попытался успокоить его я. – Тебе нечего бояться. А потом, когда ты отказал этому человеку во второй раз, ты видел его снова?
– Никогда. Мне говорили, что если тебя не удается совратить, они отступают. Я бы хотел уехать домой к моей семье, сэр, – добавил парень тонким голоском. – Без позора.
– Думаю, это можно устроить.
Гарет шелковым рукавом вытер лицо. Я мог только сочувствовать его слабости. Окажись я сам на его месте в этом возрасте, моя реакция, вероятно, была бы такой же. Я отпустил его и, оставшись в одиночестве в кабинете лорда Парра, подумал: «Наконец‑то ниточка!»
Глава 10
Мэри Оделл была высокой полной женщиной чуть за тридцать. На ней была черная шелковая ливрея, а на ее светлых волосах – шляпка со значком королевы. Черты лица ее отличались мягкостью, и во всем ее облике было что‑то материнское, хотя она не носила обручального кольца. Зеленые глаза Мэри были остры и настороженны. Я встал и, поклонившись, предложил ей сесть. Она села, сложив руки на коленях, и стала с любопытством и, подумалось мне, с удивлением разглядывать меня.
– Я сержант Мэтью Шардлейк, – представился я.
– Я знаю, сэр. Королева рассказывала о вас. Она считает вас честным и очень умным человеком.
Я почувствовал, что краснею.
– Простите, что побеспокоил вас, миссис Оделл, но я должен поговорить со всеми, кто был в покоях королевы в тот вечер, когда украли перстень.
– Разумеется. Ее Величество просила меня помогать вам всеми средствами.
– Лорд Парр говорит, что вы уже какое‑то время служите горничной и являетесь подругой королевы.
– Мы в родстве. Я знала Ее Величество еще до того, как она стала королевой. – Мэри Оделл чуть заметно улыбнулась веселой улыбкой, как часто улыбалась сама королева в более счастливые дни. – Хорошо быть в подчинении у человека, достигшего такого высокого положения. – Она немного помолчала, а потом продолжила уже серьезным тоном: – Но моя преданность Ее Величеству гораздо глубже, чем просто благодарность за должность. Она дарит мне свое доверие и дружбу, и я честно говорю ей, что умру за нее. – Миссис Оделл глубоко вздохнула. – Она о многом мне рассказывала, что случилось в последние месяцы. О своих… бедах.
– Понимаю.
Но, конечно, Екатерина рассказывала Мэри не о «Стенании». «Это было бы слишком опасно», – подумал я.
Оделл с лукавым видом посмотрела на меня.
– Королева, похоже, очень огорчена утратой перстня. Она любила милую Маргарет Невилл, но, кажется, как‑то уж очень подавлена этой пропажей. – Я понял, что эта умная женщина догадывается, что тут замешано нечто большее, чем пропажа драгоценности, но не стал комментировать ее слова.
– Насколько я знаю, в тот вечер вы были ее горничной. И – прошу меня извинить – иногда вы делите с королевой постель.
– Да, бывает. Ради компании, когда моя госпожа чувствует себя одинокой или расстроенной.
– Не могли бы вы рассказать мне, что случилось, когда вы пришли приготовить королеве спальню в день пропажи ее перстня? Что‑то хоть совсем немного необычное из увиденного или услышанного может оказаться полезным.
Мэри кивнула, словно одобряя мой переход к сути дела.
– Я занимаю две комнаты в апартаментах у ворот. В тот вечер я вышла оттуда, пожалуй, минут на десять раньше обычного, почти в девять. Я чувствовала себя усталой и хотела выполнить свои обязанности и уйти. Я перешла через двор в королевские апартаменты. Обычно пажи убираются в комнатах, а потом я вхожу, чтобы приготовить постель, убедиться, что в спальне все в порядке, и выложить ночную рубашку королевы и расчески.
– Перед этим один из пажей всегда убирает в спальне.
– Да.
– Эти пажи послушны? Мальчишки склонны к проказам.
– Пару раз я видела, как они играли в карты в галерее королевы, и доложила об этом гофмейстеру, но они не осмелятся на какую‑нибудь действительную шалость в покоях королевы. В тот вечер пажи довольно хорошо выполнили свою работу. Один из стражников сказал мне, что королева у короля. Иногда по возвращении она любит поговорить со мной, поэтому, уходя обратно к себе, я сказала ему, что приду, если понадоблюсь ей. Должна сказать, сержант Шардлейк, это был совершенно обычный вечер. Ничего необычного, ничего вне заведенного порядка. Разве что… – Дама наморщила нос. – В спальне был какой‑то неприятный запашок. Совсем слабый, еле уловимый.
– Какой запашок?
– Прошу прощения, запах нечистот. Я подумала, что это с реки, и закрыла окно. Потом внимательно осмотрела комнату с лампой, но ничего не заметила. Как я сказала, запах был очень слабый.
– А не заметили ли вы чего‑нибудь необычного с личным сундуком королевы? С тем, где хранился перстень?
– Как обычно, паж сложил на сундук белье. Никаких нарушений. – Оделл помолчала, а потом проговорила с чувством: – Я бы хотела помочь вам в этом больше, сэр, учитывая расстройство королевы. Но ничего такого не было.
– Вы когда‑нибудь заглядывали в этот сундук?
– Несколько раз. Иногда королева доставала оттуда при мне свои драгоценности или неоконченное письмо. Она всегда носила ключ на шее. – Голос горничной стал печальнее. – Но не в последние месяцы. В последнее время Ее Величество, похоже, не хотела, чтобы я заглядывала туда.
Мне пришлось отвлечь ее, хотя для этого потребовалась ложь.
– Иногда, когда люди находятся какое‑то время в напряжении, как, я знаю, было с королевой, какая‑нибудь не очень серьезная неприятность вроде пропажи перстня, подаренного любимым человеком, может лишить человека душевного равновесия.
Моя собеседница кивнула:
– Это верно. – Однако она все‑таки посмотрела на меня проницательным взглядом.
– Значит, вы совершенно уверены, что ничего необычного в тот вечер не было?
Мэри Оделл крепко задумалась, а потом сказала:
– Кроме запаха, который быстро пропал, только одна мелочь – такая незначительная, что я не знаю, стоит ли говорить о ней.
– Какая? – Я подался вперед за столом лорда Парра. – Любая мелочь может оказаться полезной.
– Я сказала вам, что пришла из своих комнат. Вы уже заметили, сколько охраняемых дверей нужно пройти в этом дворце – при входе в помещение стражи, в приемную, в апартаменты и в личные покои. Когда наступает моя смена, меня всегда включают в список. Иногда какой‑нибудь новый стражник спрашивает, кто я такая, проверяет, есть ли я в списке, и делает пометку против моего имени. Я не жалуюсь, это их обязанность. Но в апартаментах королевы почти все стражники меня знают, и они просто отмечают мое имя, когда я прохожу. В тот вечер у двери в личные покои стоял стражник, которого я часто там видела, его зовут Захари Годжер. К моему удивлению, он остановил меня и сказал, что не может найти моего имени в списке. Я велела ему прекратить глупости, но ему пришлось дважды просмотреть список, прежде чем он нашел мое имя и пропустил меня. И Годжер говорил громким, грозным голосом, не так, как подобает разговаривать с леди моего положения. – В тоне горничной проскользнуло негодование. – Я подумала, не пьян ли он, но от него не пахло спиртным, да и начальник стражи, прежде чем допустить охрану к несению дежурства, всегда проверяет, что стражники трезвы и их обмундирование и оружие в порядке.
– Это звучит действительно странно, – согласился я. – Надо будет обсудить это с лордом Парром. – Я встал и поклонился. – Благодарю вас за потраченное время.
Миссис Оделл встала.
– Меня просили провести вас в личную молельню королевы. Там вы встретитесь с королевой. Насколько я понимаю, вы должны поговорить с дурочкой Джейн.
– Это так.
Снова след лукавой улыбки, как у королевы Екатерины.
– Желаю вам в этом удачи, сэр.
Дама открыла дверь, и я пошел вслед за ней.
* * *
Мы направились по коридору. В воздухе благоухало розами и лавандой – аромат исходил от лепестков, разложенных на стенных панелях. Через открытую дверь в конце коридора я заметил бесконечно длинную, ярко раскрашенную галерею с высокими стенами и птиц в клетках, издававших приятный щебет. Галерея королевы, предположил я.
Мэри Оделл постучала в боковую дверь и, не дожидаясь ответа, предложила мне войти. Я оказался в личной комнате для молитв. Обстановка здесь была безупречно ортодоксальной – на стенах богатая роспись, как повсюду во дворце, алтарь покрыт вышитым холстом, а в нишах горят свечи. Королева позаботилась, чтобы в ее личной молельне не было никаких видимых признаков реформизма, которые враги могли бы использовать против нее.
Мэри обернулась в дверях:
– Королева и Джейн скоро будут.
– Спасибо, миссис Оделл.
Неожиданно горничная наградила меня обаятельной улыбкой.
– Я знаю, что вы сделаете все, чтобы помочь королеве. Да поможет вам Бог в ваших усилиях, сержант Шардлейк!
– Вы очень добры.
Дама удалилась, шурша шелковыми юбками, и я остался один. Вдали еле слышались голоса – обычный дворцовый гул. Я подумал, что наконец нащупал какую‑то почву под ногами. Человек с половиной уха, участвовавший в первом покушении на Грининга, был связан с кем‑то наверху, странный эпизод с Мэри Оделл и стражником также нужно расследовать… Даже этот странный запашок нужно обдумать. А теперь мне снова предстояла встреча с королевой. Я посмотрел на одну красную свечу в нише и на мгновение ощутил странное чувство удовлетворения.
Циновка была такой толстой, что я не услышал приближающихся шагов и вздрогнул, когда дверь отворилась. Вошли четыре женщины, но королевы Екатерины среди них не было. Две дамы были молоды, в роскошных платьях с длинными рукавами, а две другие, вдруг понял я, были знакомы мне по огромному портрету короля и его семьи. Одна из них была маленькой круглолицей женщиной, стоявшей позади леди Мэри в дверном проеме, а другая – самой леди Мэри. Маленькая женщина – я догадался, что это, должно быть, и есть дурочка Джейн – принесла с собой жирную белую утку, которая теперь шлепала рядом с нею на кожаном поводке.
Джейн стояла отдельно от других и отличалась сравнительно простым платьем, хотя ее серая накидка с высоким воротником и белый чепец были из самой лучшей материи. Ее голубые глаза обежали молельню и бессмысленно и испуганно уставились на меня. Рядом с нею, такая же невысокая, но в роскошных одеждах, стояла и с царственной властностью рассматривала меня леди Мэри. Я поклонился чуть ли не до самого пола, и мое сердце бешено заколотилось.
– Выпрямитесь, мастер законник. – Голос дочери Генриха VIII оказался звучным и на удивление низким.
Я взглянул на старшую из детей короля. Мне было известно, что дочь Екатерины Арагонской была намного старше леди Елизаветы и принца Эдуарда; ей перевалило далеко за двадцать, а со своими тонкими, узкими чертами лица она казалась еще старше. Ее темно‑рыжие волосы покрывало усыпанное бриллиантами круглое арселе, а зеленая мантия была расшита гранатами – распространенный узор, но также и эмблема ее давно умершей отвергнутой матери. Маленькие красивые кисти ее рук играли золотым ароматическим шариком на поясе.
– Простите, миледи, – сказал я, – я не знал…
Принцесса кивнула и улыбнулась – милой улыбкой, хотя ее темные глаза смотрели холодно и настороженно. Несмотря на свои спокойные манеры, она показалась мне человеком, который всю жизнь был настороже. Леди Мэри взмахнула рукой.
– Я знаю, вы ожидали королеву. Но мой отец позвал ее посидеть с ним немного. Когда пришла Мэри Оделл, чтобы забрать Джейн, та была со мной, и я сказала, что сопровожу ее вместо королевы. – Она насмешливо посмотрела на меня. – Полагаю, вас попросили расследовать случай с украденным перстнем королевы.
– Совершенно верно, миледи. Меня попросил лорд Парр.
Мэри сделала движение своими худенькими плечами – как будто пожала ими.
– Я что‑то смутно слышала об этом. Но в последние дни я была занята надзором за строительством моих новых апартаментов. – В ее голосе проскользнула нотка гордости. – Как видите, я привела с собой двух моих фрейлин, для приличия. – Она не представила их, но продолжала обращаться ко мне. – Я удивлена, что бедняжку Джейн будут допрашивать. – Мэри с нежностью посмотрела на маленькую женщину, которая с умоляющим видом посмотрела на нее и проговорила тонким голоском:
– Я не сделала ничего дурного, миледи.
Я задумался, в самом ли деле Джейн такая тупая и пугливая или притворяется, и не смог ответить на этот вопрос. В ее круглом, как луна, лице было нечто необъяснимо странное – то ли потому, что ее ум работал не так, как следует, то ли потому, что она была искусной актрисой. А может быть, имело место и то и другое.
– Так пожелала королева, – сказал я, – потому что Джейн – мне казалось, что здесь было принято называть шутиху христианским именем – была одной из тех четырех человек, кто входил в спальню Ее Величества в тот вечер, когда пропал перстень. – Вас ни в чем не подозревают, – успокоил я дурочку. – Просто мне нужно знать, не заметили ли вы чего‑нибудь необычного…
Меня прервал неожиданно резкий голос леди Мэри:
– Я требую, чтобы вы задавали все вопросы Джейн через меня, сэр, как, я уверена, потребовала бы и королева. Я не дам ее запугивать. – Она слегка сдвинула брови, что две ее фрейлины тут же скопировали. Утка натянула поводок, желая обследовать травы в углу.
– Тогда я прошу вас, миледи, спросить Джейн, куда она ходила и что, может быть, видела, когда вошла в личные апартаменты королевы шестого июля.
– Ну, Джейн, – ободряющим тоном спросила леди Мэри, – ты помнишь что‑нибудь?
Прежде чем ответить госпоже, дурочка бросила быстрый взгляд на меня.
– Я хотела показать королеве новый трюк, которому научила Утю – искать травку, которую я спрятала. Но фрейлины не пустили меня в покои, сказали, что ее там нет. – К моему удивлению, тут Джейн по‑детски топнула ногой и закричала: – Они часто не пускают меня к королеве, хотя только я могу отвлечь ее, когда она грустит! Она часто грустит в последнее…
Мэри подняла руку, и шутиха тут же замолкла.
– Да, – сухо сказала Мэри. – Часто. А теперь такой шум вокруг пропажи перстня. – Мне подумалось, что как королева ни старалась подружиться с детьми короля и подружить их друг с другом, по крайней мере, в отношении старшей принцессы ее успех оказался весьма ограниченным.
– Он имел огромную ценность лично для нее, – пробормотал я. – Миледи, если Джейн могла бы сказать, куда она заходила…
Мэри повернулась к Джейн и терпеливо проговорила:
– Когда ты прошла мимо фрейлин в личные покои, куда ты там заходила? Видела что‑нибудь странное?
– Я во всех комнатах искала королеву, – ответила Джейн. – А когда увидела, что ее и вправду нету, снова вышла. В ее покоях никого не было, пажи уже ушли, а Мэри Оделл еще не пришла.
– Значит, все хорошо, – сказала леди Мэри тоном, говорившим, что разговор закончен, и дурочка бросила на меня быстрый торжествующий взгляд.
Но я не сдался.
– Не заметила ли она чего‑нибудь необычного в спальне? Может быть, чего‑нибудь, касающегося личного сундука королевы, где она держала перстень и другие драгоценности?
– Нет. Ничего, – ответила Джейн – мне показалось, слишком быстро. – Королева никогда меня к нему не подпускает. Миледи, этот горбун пугает меня! – Мне показалось, что она лжет, и по перемене в лице леди Мэри я понял, что та тоже это увидела.
– Королева будет очень благодарна за любые сведения, – рискнул продолжить я.
Принцесса посмотрела на Джейн.
– Не волнуйся, дорогая. Ты знаешь, что я вижу, когда ты хитришь. Скажи этому джентльмену все, что тебе известно, и даю слово, тебе ничего не будет.
Дурочка покраснела и, как ребенок, засунула в рот палец.
– Джейн… – В голос Мэри прокралась строгая нотка.
– Это грубо, это нехорошо! – выпалила та.
– Что нехорошо, Джейн?
Повисла долгая пауза. Наконец шутиха выговорила:
– Когда я вошла в спальню, посмотреть, нет ли там королевы…
Я подался вперед.
– Да? – поощрила ее леди Мэри.
– Со мной была Утя, и…
– И?
– Она нагадила на пол.
Я ожидал чего угодно, но только не этого. Так вот как объясняется запах!
– Небольшое пятнышко дерьма на циновке, – продолжала Джейн. – Я боялась, что господин гофмейстер прогонит Утю, и потому взяла тряпку и смыла пятно водой из чаши с розовой водой королевы. Запах трав в комнате был такой сильный, и я думала, что вони не заметят. И тут же ушла и никому не сказала. – Она вдруг дернула утку за поводок и подтащила к себе с такой силой, что могла сломать ей шею, а потом нагнулась и обняла ее. Та, насколько это возможно для неразумной птицы, удивилась. – Не позволяйте этому горбуну сообщить королеве, прошу вас! Я люблю Утю.
– Никто не скажет, Джейн, – успокоила ее леди Мэри и посмотрела на меня. Ее губы слегка дернулись, и я понял, что эта женщина обладает качеством, о котором я раньше не догадывался, – чувством юмора. – Вы удовлетворены, мастер законник?
– Разумеется, миледи.
– Я позволю вам доложить лорду Парру о провинности утки, – торжественно произнесла Мэри. – Но только при условии, что Джейн не разлучат с ней.
– Разумеется, миледи.
– Тогда мы оставляем вас вашим делам.
Одна из фрейлин помогла шутихе подняться, а другая открыла дверь для леди Мэри. Я снова низко поклонился. Они ушли, и утка поковыляла следом на своих желтых перепончатых ногах. Когда я выпрямился, принцесса обернулась, посмотрела на меня и чуть заметно сардонически улыбнулась. Дверь закрылась. Я стоял, потрясенный неожиданным и смешным оборотом событий. Смешным? Я не мог удержаться от мысли, не стал ли просто жертвой тщательно разыгранной сцены и не знала ли Джейн больше, чем сказала. Если это так, то она совершенно великолепная актриса. Но у меня не было доказательств этого, ни одного. Я подумал о ее детском поведении. Возможно, это и привлекало к ней королеву и леди Мэри, двух взрослых женщин, у которых нет и, скорее всего, не будет детей. Возможно, дурочка заменяла обеим ребенка, не более того. Но что‑то в Мэри Тюдор вызывало во мне страх при мысли, что «Стенание» в итоге оказалось в ее руках. Я оставался в молельне со свечами и запахом ладана. Прошло полчаса, и свет за окном уже начал меркнуть, когда дверь открылась и вошел лорд Парр. Он хмурил брови.
– Мне сказали, что при встрече с вами Джейн сопровождала леди Мэри. Вы ничем не намекнули ей на книгу? – Он тревожно посмотрел на меня.
– Ни словом, милорд. – Я рассказал ему абсурдную историю про утку, то, что я узнал от пажа про человека с отрубленной половиной уха, и происшествие Мэри Оделл со стражником.
Старик кивнул:
– Я осторожно наведу справки. Человек с половиной уха служит важной персоне в королевстве…
– Причем этой персоной может быть и женщина.
Лорд Уильям внимательно посмотрел на меня.
– Вы имеете в виду леди Мэри? Что она могла в тот вечер послать дурочку Джейн украсть книгу?
– Мы должны абсолютно удостовериться, что королева ни словом не проговорилась Джейн о книге.
Парр покачал головой:
– Джейн всегда выглядела прирожденной идиоткой.
– Возможно. Однако ее речь, хотя и детская, льется вполне свободно. А перед дурочкой человек иногда может оказаться… недостаточно осторожен.
Мой собеседник кивнул, признавая это, но все же сказал:
– Королева не проговорилась бы. Во всяком случае, об этом. И как я уже говорил, леди Мэри в течение десяти лет строго следовала традициям. Тем не менее я поговорю с королевой насчет Джейн. Хотя даже это оставляет вопрос, как можно открыть сундук, не оставив никаких следов взлома. Сейчас королева еще у короля. Хорошая возможность осмотреть сундук. Пойдемте.
* * *
Окно в спальне королевы выходило на реку. Это была большая женская комната, здесь пахло благовониями, стояли цветы в вазах, а на полу были разбросаны вышитые подушки, чтобы можно было читать лежа. Главное место здесь занимала кровать с четырьмя столбами, но был также и стол – пустой, если не считать витиеватой чернильницы. Здесь королева и написала свое «Стенание грешницы». Рядом со столом стоял массивный сундук двух с половиной футов высотой, обитый сверху красно‑золотым турецким ковром. На боку две вырезанные нимфы поддерживали тюдоровскую розу. На сундуке не лежало постельного белья – вечерний паж еще не приходил.
Лорд Парр с удивительной для человека его лет гибкостью опустился на колени, и я, заметно медленнее, последовал его примеру. Он постучал по сундуку сбоку, вызвав глухое эхо.
– Твердый кондовый дуб, – сказал Уильям. – Все ценности королевы перемещены в другое место.
Я изучил замок на сундуке. Он был маленьким, но очень крепким, врезанным прямо в дерево.
– Никаких царапин ни на металле, ни на дереве вокруг, – сказал я, проведя по нему пальцами. – Его открыли либо ключом, либо очень изощренной отмычкой.
– Я убрал драгоценности королевы в другое место, – повторил лорд Парр, осторожно открывая пустой сундук.
Я заглянул внутрь и наклонился, чтобы осмотреть замок изнутри; спина у меня болела после долгого дня. Внутри тоже никаких царапин.
– Я видел много сундуков для хранения ценностей, – сказал я. – В моем случае, в основном документов. Часто они имеют два или три замка и сложный механизм внутри.
Парр согласно кивнул:
– Да. Но этот сундук подарила королеве мать, и она очень привязана к нему.
Я посмотрел на него:
– Но ведь замок, очевидно, новый.
– Да, так и есть. Когда весной началась беда, королева заменила замки во всех шкафах и сундуках. Я спросил ее, не хочет ли она более сложный замок и для этого, но она сказала, что это может повредить сам сундук. Помню, как она сказала: «Если у меня лишь один ключ, а замок крепок, он, несомненно, надежен». Конечно, – добавил Уильям с ноткой горечи, – тогда я не знал, что лежит внутри.
– Кто изготовил новый замок? – спросил я. – Они могли сделать и еще один ключ.
Лорд покачал головой:
– Вы правы, это очевидно. Но этот замок сконструировал личный мастер королевы, как и все новые замки. Это очень надежный человек, он делал замки для всех королев в течение двенадцати лет, а на такой должности не держат человека, не заслуживающего доверия.
– Вы допросили его?
– Нет еще. И опять же, я думал, это лучше оставить вам. Но я не считаю его вероятным подозреваемым.
– Тем не менее он, очевидно, попадает под подозрение.
– Он работает в замке Бэйнардс. Думаю, в понедельник вы могли бы поехать туда и допросить его. И поговорить с вышивальщиком о той манжете. Конечно, завтра их не будет, завтра воскресенье. Это досадно, но даст вам день, чтобы отдохнуть и все обдумать.
– Спасибо.
Я был благодарен старику за заботу, но он продолжил:
– Что нам действительно нужно – так это специалист по замкам. Кто‑нибудь не из дворца. – Старый лорд приподнял брови. – Ваш помощник Джек Барак известен своим опытом в таких делах. С тех пор, как его нанял лорд Кромвель.
Я глубоко вздохнул. Значит, лорд Парр наводил справки насчет Барака. Опыт моего помощника в таких делах был полезен много лет, и все же…
– Я бы лучше не привлекал его, – тихо проговорил я.
– Это может помочь королеве, – настаивал Уильям. – Бараку не обязательно знать, в чем дело, он даже не должен этого знать. Мы будем придерживаться истории с драгоценным камнем. Но теперь сундук пуст, я могу послать его в замок Бэйнардс, и он сможет взглянуть на него там в понедельник.
– Но он не считает себя большим специалистом…
Лорд Парр сурово посмотрел на меня:
– Он разбирается в замках. И имеет опыт в том, как работает королевское хозяйство – по крайней мере, его нижняя часть.
Я снова глубоко вздохнул:
– Я поговорю с ним завтра, посмотрю, что он скажет…
– Хорошо, – сказал Парр и бесцеремонно продолжил: – В понедельник в девять будьте в замке Бэйнардс. Сможете осмотреть замо́к, поговорить с мастером и вышивальщиком. Я обеспечу, чтобы Уильям Сесил тоже был там, он может рассказать вам, что ему удалось с этими религиозными фанатиками. – Он потер руки. – Мы потихоньку продвигаемся.
– И еще, – сказал я. – Тот, у кого сейчас книга, может в любой момент ее опубликовать.
– Знаю, – раздраженно ответил Уильям. – Каждый день я боюсь, что кто‑то передаст ее королю. Или что какой‑нибудь папист‑печатник запустит ее в печать, чтобы раздавать на улицах. Это ведь небольшая книжка, уже можно было бы напечатать множество экземпляров. – Он покачал головой. – И все же проходит день за днем, и ничего не происходит. Кто‑то ее прячет. Зачем? – Лорд вдруг показался мне старым и усталым. Он осмотрел спальню, а потом встал, хрустнув коленями. – Скоро придет вечерний паж, так что нам нужно идти. Отдохните завтра, мастер Шардлейк, у нас еще много работы.
Глава 11
Юристы со своими женами выходили из часовни Линкольнс‑Инн медленно и важно, как всегда после службы – мужчины в черных робах и шапках, женщины в своих лучших летних платьях. Я тоже вышел под июльское солнце. Утро было свежим, так как ночью разразилась гроза, пробудив меня от тяжелого сна. Немного дождя хорошо для урожая. А теперь мне предстояло выполнить свое обещание зайти к Стивену Билкнапу. Когда я шел вдоль часовни, ко мне подошел казначей Роуленд с застывшей улыбкой на узком лице.
Конец ознакомительного фрагмента – скачать книгу легально
[1] Один из четырех судебных иннов, юридических корпораций в Лондоне. Существовало и существует до сих пор четыре таких корпорации: Линкольнс‑Инн, Грейс‑Инн, Миддл‑Темпл и Иннер‑Темпл.
[2] Сержанты юриспруденции представляли собой высший разряд барристеров в английском суде, небольшую элитную группу адвокатов, работавших в центральных общих судах. Сержанты носили особую одежду, основным отличием которой являлась особая шапочка.
[3] Мужская длинная одежда, надеваемая через голову, с пышными рукавами и стоячим воротником.
[4] Осенняя судебная сессия, называемая Михайловской в честь сентябрьского дня Архангела Михаила.
[5] Общества любителей литературы и театра в средневековых Нидерландах.
[6] В то время в шиллинге было 12 пенсов.
[7] Пятая жена Генриха VIII.
[8] Олдермен – член городского управления.
[9] Место публичной казни в Лондоне.
[10] Грот – серебряная монета в четыре пенса.
[11] Имеется в виду стихотворение Т. Уайетта «Circumdederunt me inimici mei» («Враги окружили меня»).
[12] Азартная карточная игра.
[13] HR – Henricus Rex (лат.) – Король Генрих.
[14] Английская гвардия, телохранители короля.
[15] Женский головной убор XVI–XVII вв., представлявший собой металлический каркас в форме сердца или подковы.
[16] Анахронизм: карманы на одежде появились только во второй половине XVII в. Неспроста персонажи носят деньги в кошельке на поясе, а не в кармане.
[17] Еккл. 1:2. Английское «vanity» означает как «суета», так и «тщеславие».
[18] Я английский дворянин. Я живу в Лондоне… (фр.)
[19] …кошка – злобное животное… (фр.)
[20] Орган, созданный королем Генрихом VIII для управления землями, отобранными у католических монастырей.
[21] Вместо родителей (лат.).
[22] На самом деле трехмачтовая каракка «Мэри Роуз» затонула сама – не обладая хорошей остойчивостью и перегруженная пушками, из‑за порыва ветра она накренилась на правый борт и быстро пошла ко дну (1545).
[23] Северное восстание, или Благодатное Паломничество – восстание в северной Англии в 1536 г., вызванное разрывом Генриха VIII с Римской католической церковью.
Библиотека электронных книг "Семь Книг" - admin@7books.ru