
Прежде чем я упаду | Лорен Оливер
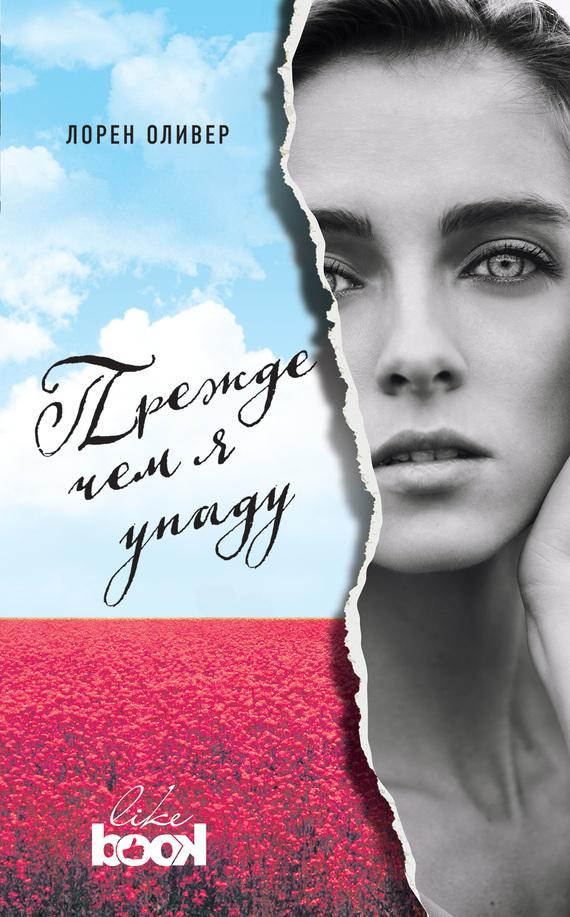
Лорен Оливер
Прежде чем я упаду
Young & Free
Незабвенной памяти Симона Эмиля Кнудсена II
Питер!
Спасибо за прекрасные мгновения. Мне не хватает тебя
Пролог
Говорят, перед смертью вся жизнь проносится перед глазами, но у меня вышло иначе.
Если честно, мне всегда казалось, что все эти истории с последним мгновением, мысленным сканированием жизни звучат довольно зловеще. Кто старое помянет, тому глаз вон, как любит повторять моя мама. Я бы, например, лучше не вспоминала весь пятый класс (эпоху очков и розовых брекетов), и разве кому‑нибудь захочется пережить заново первый день в промежуточной школе? А нудные семейные вылазки, бессмысленные уроки алгебры, менструальные спазмы и слюнявые поцелуи я и в первый‑то раз с трудом вытерпела…
Хотя я бы не отказалась заново пережить лучшие мгновения: когда на вечере встречи выпускников мы с Робом Кокраном впервые обжимались посреди танцпола и все видели, что мы вместе; когда в мае мы с Линдси, Элоди и Элли напились и делали «снежных ангелов»{ Чтобы получить «снежного ангела», нужно лечь спиной на снег и сдвигать и раздвигать руки и ноги. Получившийся отпечаток будет напоминать ангела в длинном одеянии и с крыльями. (Здесь и далее примечания переводчика.)}, оставляя здоровенные отпечатки на лужайке Элли; когда на вечеринке в честь моего шестнадцатилетия мы зажгли на заднем дворе сотню греющих свечей и танцевали на столе; когда на Хеллоуин мы с Линдси подшутили над Кларой Сьюз и за нами погнались копы, а мы так хохотали, что нас едва не вывернуло, – то, что я хотела бы запомнить, то, чем мне хотелось бы запомниться.
Но перед смертью я не думала о Робе или о каком‑нибудь другом парне. Не думала о наших с подругами возмутительных выходках. Даже о семье не думала, или о том, как утренний свет окрашивает стены моей спальни в сливочный оттенок, или как пахнут в июле азалии за моим окном – корицей и медом.
Вместо этого я подумала о Вики Халлинан.
А именно о случае в четвертом классе, когда на физкультуре Линдси заявила перед всеми, что не возьмет Вики играть в «вышибалу». «Она слишком толстая, – выпалила Линдси, – в нее можно попасть с закрытыми глазами». Тогда еще я не дружила с Линдси, но она уже выдавала чертовски забавные фразы, и я засмеялась вместе со всеми, а лицо Вики стало пурпурным, подобно изнанке грозового облака.
Вот что я вспомнила в мгновение перед смертью, когда мне полагалось узнать нечто потрясающее о своем прошлом: запах лака и скрип наших кроссовок по полированному полу; тесноту моих полиэстровых шортов; гулкое эхо в большом, пустынном спортивном зале, как будто хохотало не двадцать пять человек, а намного больше. И лицо Вики.
Странно то, что я сто лет об этом не думала. И даже не догадывалась, что такое есть в моей памяти, если вы понимаете, о чем я. Не то чтобы Вики получила психологическую травму или типа того. Дети постоянно поддевают друг друга. Невелика важность. Всегда кто‑то смеется и над кем‑то смеются. Это происходит каждый день, в каждой школе, в каждом американском городке – и даже, по‑моему, во всем мире. Весь смысл взросления – научиться оставаться среди тех, кто смеется.
На самом деле Вики была не такой уж толстой, просто у нее были по‑детски пухлые щеки и животик, а перед средней школой она и вовсе похудела и выросла на три дюйма. Она даже подружилась с Линдси; они вместе играли в хоккей на траве и здоровались в коридорах. Как‑то в девятом классе Вики устроила вечеринку, мы все здорово напились и хохотали что есть мочи, особенно Вики, пока ее лицо не стало почти таким же пурпурным, как много лет назад в спортивном зале.
Это была странность номер один.
Еще более странным было то, что мы только это и обсуждали – в смысле, как все будет перед смертью. Не помню, как мы перешли на эту тему, помню только, Элоди пожаловалась, что я всегда сижу рядом с водителем, и отказалась пристегнуть ремень; она перегнулась за айподом Линдси, хотя права диджея принадлежали мне. Я попыталась объяснить свою теорию предсмертных «лучших мгновений», и каждый начал предлагать подходящие варианты. Линдси, разумеется, пожелала еще раз узнать, что ее зачислили в Дьюк. Элли, которая, как обычно, жаловалась, что ей холодно, и угрожала умереть на месте от пневмонии, успела сообщить, что хочет целую вечность длить свою первую свиданку с Мэттом Уайльдом, и это никого не удивило. Линдси и Элоди курили, и через приоткрытые окна залетал ледяной дождь. Дорога была узкой и извилистой; по обе стороны деревья размахивали темными голыми ветвями, будто ветер пустил их в пляс.
Элоди поставила песню «Splinter» группы «Фэлласи», чтобы позлить Элли, возможно устав от ее нытья. Это была песня Элли с Мэттом, который бросил ее в сентябре. Элли назвала Элоди сукой, отстегнула ремень, наклонилась вперед и попыталась выхватить айпод. Линдси возмутилась, что кто‑то ткнул ее локтем в шею; сигарета выпала у нее изо рта и приземлилась между ног. Громко ругаясь, Линдси стала смахивать пепел с подушки сиденья, Элоди и Элли дрались, а я пыталась помирить их, напоминая, как мы делали «снежных ангелов» в мае. Покрышки скользили по мокрой дороге, в автомобиле было полно сигаретного дыма, его клубы парили в салоне подобно привидениям.
А потом вдруг впереди вспыхнуло белое пламя. Линдси что‑то завопила – я не разобрала слово, не то «тихо», не то «лихо», не то «ослиха», – и машина полетела с дороги прямо в черную пасть леса. Я услышала жуткий звук – скрежет железа по железу и звон стекла – и ощутила запах гари. Машина вдребезги. Я еще успела озадачиться вопросом, потушила Линдси сигарету или нет.
Затем из прошлого всплыло лицо Вики Халлинан, и вокруг закружился гулкий смех, переходящий в визг.
И после – ничего.
Понимаете, суть в том, что вы не знаете заранее. Не пробуждаетесь с дурным предчувствием. Не видите теней в ясный полдень. Забываете сказать родителям, что любите их, или, как в моем случае, вообще забываете с ними попрощаться.
Если вы похожи на меня, вы просыпаетесь за семь минут и сорок семь секунд до того, как за вами должна заехать лучшая подруга. Вы слишком переживаете, сколько роз получите в День Купидона, и потому успеваете только одеться, почистить зубы и взмолиться, чтобы косметичка оказалась на дне сумки и вы сумели накраситься в машине.
Если вы похожи на меня, ваш последний день начинается так…
Глава 1
– Бип‑бип! – кричит Линдси.
Пару недель назад моя мама наорала на нее за то, что она жмет на гудок в шесть пятьдесят пять каждое утро, и Линдси придумала этот трюк.
– Иду! – откликаюсь я, хотя она прекрасно видит, как я вываливаюсь из передней двери, одновременно натягивая куртку и запихивая в сумку скоросшиватель.
В последний момент меня ловит Иззи, моя восьмилетняя сестра.
– Что? – вихрем оборачиваюсь я.
У Иззи, как и положено младшей сестре, есть встроенный радар, с помощью которого она определяет, что я занята, опаздываю или болтаю по телефону со своим парнем. И тогда она сразу начинает меня доставать.
– Ты забыла перчатки, – сообщает она.
Вообще‑то у нее получается: «Ты забыла перфятки». Она отказывается посещать логопеда и лечиться от шепелявости, хотя все одноклассники над ней смеются. Сестра утверждает, что ей нравится так говорить.
Я забираю у нее перчатки. Они кашемировые, и сестра наверняка перемазала их арахисовым маслом. Вечно она копается в банках с этой дрянью.
– Сколько можно повторять, Иззи? – Я тыкаю ее пальцем в лоб. – Не трогай мои вещи.
Она хихикает как идиотка, и я вынуждена затолкать ее в дом и закрыть дверь. Если дать ей волю, она будет таскаться за мной весь день как собачка.
Когда я наконец выметаюсь из дома, Линдси свешивается из окна Танка – это прозвище ее машины, огромного серебристого «рейнджровера». (Всякий раз, когда мы катаемся в нем, кто‑нибудь обязательно произносит фразу: «Это не машина, а целый грузовик», а Линдси уверяет, что может столкнуться лоб в лоб со здоровенной фурой и не получить ни царапинки.) По‑настоящему свои машины есть только у нее и у Элли. Машина Элли – миниатюрная черная «джетта», мы называем ее Крошкой. Иногда я одалживаю у мамы «аккорд»; бедняжке Элоди приходится довольствоваться старым желтовато‑коричневым отцовским «фордом таурус», который уже почти не заводится.
Воздух ледяной и неподвижный. Небо светло‑синее без единого пятнышка. Солнце только взошло, слабое и водянистое, как будто с трудом перевалило через горизонт и ленится умыться. Позже обещали метель, но кто знает.
Я забираюсь на пассажирское сиденье. Линдси уже курит и указывает сигаретой на кофе «Данкин донатс», купленный специально для меня.
– Рогалики? – спрашиваю я.
– На заднем сиденье.
– С кунжутом?
– Ясное дело.
Она трогается с подъездной дорожки и еще раз оглядывает меня.
– Симпатичная юбка.
– У тебя тоже.
Линдси кивает, принимая комплимент. На самом деле у нас одинаковые юбки. Два раза в год мы с Линдси, Элли и Элоди нарочно одеваемся одинаково: в День Купидона и в Пижамный день на Неделе школьного духа, потому что на прошлое Рождество купили чудесные комплекты в «Виктория сикрет». Мы три часа проспорили, розовые или красные наряды выбрать – Линдси терпеть не может розовый, а Элли только в нем и живет, – и наконец остановились на черных мини‑юбках и топиках с красным мехом, которые откопали в распродажной корзине в «Нордстроме».
Как я уже сказала, только в эти два дня мы нарочно одеваемся одинаково. Хотя, если честно, в нашей средней школе «Томас Джефферсон» все выглядят более или менее одинаково. Официальной формы нет – это муниципальная школа, – но все равно на девяти из десяти учениках джинсы «Севен», серые кроссовки «Нью беланс», белые футболки и цветные флисовые куртки «Норт фейс». Даже парни и девушки одеваются одинаково, разве что у нас джинсы поуже и волосы мы укладываем каждый день. Это Коннектикут, здесь самое главное – не выделяться.
Я не утверждаю, что в нашей школе нет чудаков, – конечно есть, но даже они чудаковаты на один лад. Экогики ездят в школу на велосипедах, носят одежду из конопли и никогда не моют голову, как будто дреды помогают сократить выброс парниковых газов. Примадонны таскают большие бутылки лимонного чая, кутаются в шарфы даже летом и не общаются с одноклассниками, потому что «берегут голос». У членов Математической лиги всегда в десять раз больше книг, чем у остальных, они не брезгуют использовать свои шкафчики и всегда насторожены, словно ждут крика «фу!».
Вообще‑то мне плевать. Иногда мы с Линдси строим планы, как сбежим после выпуска и вломимся в нью‑йоркский лофт, где обитает татуировщик, с которым знаком ее сводный брат, но в глубине души мне нравится жить в Риджвью. Это успокаивает, если вы понимаете, о чем я.
Линдси водит не особо аккуратно, любит выворачивать руль, останавливаться ни с того ни с сего, а потом давить на газ. Я подаюсь вперед, пытаясь накрасить ресницы и не выколоть себе глаз.
– Патрик пожалеет, если не пришлет мне розу, – обещает Линдси.
Она пролетает мимо одного знака остановки и чуть не ломает мне шею, резко тормозя возле следующего. Патрик – ее блудный бой‑френд. С начала учебного года они рекордные тринадцать раз расстались и помирились.
– Мне пришлось сидеть рядом с Робом, пока он заполнял заявку. – Я закатываю глаза. – Прямо раб на плантации!
Мы с Робом Кокраном встречаемся с октября, но я влюбилась в него еще в шестом классе, когда он был слишком крутым, чтобы со мной общаться. Роб – моя первая любовь, по крайней мере первая настоящая любовь. В третьем классе я целовалась с Кентом Макфуллером, но это явно не считается, мы только обменялись колечками из одуванчиков и поиграли в мужа и жену.
– В прошлом году я получила двадцать две розы. – Линдси щелчком отправляет окурок в окно и наклоняется глотнуть кофе. – На этот раз должно быть двадцать пять.
Каждый год перед Днем Купидона ученический совет ставит у спортивного зала кабинку. В ней за два доллара продаются валограммы{ Валограмма – видимо, неологизм, образованный при помощи слов «Валентин» и «телеграмма».} для друзей – розы с маленькими записочками, – их затем разносят купидоны (обычно девятиклассницы или десятиклассницы, которые липнут к старшеклассникам).
– Мне хватит и пятнадцати, – замечаю я.
Очень важно, сколько роз ты получишь. По количеству цветков в руках легко определить, кто популярен, а кто нет. Плохо, если тебе досталось меньше десяти, и совсем унизительно, если меньше пяти, – обычно это значит, что ты урод или тебя никто не знает. Либо и то и другое вместе. Иногда ребята подбирают упавшие розы и добавляют в свои букеты, но это всегда заметно.
– Ну? – косится на меня Линдси. – Ты волнуешься? Большой день. Ночь открытия. – Она смеется. – Извини за каламбур.
– Ерунда.
Я пожимаю плечами, отворачиваюсь к окну и гляжу, как стекло запотевает от дыхания.
Родители Роба уезжают на выходные, и пару недель назад он предложил мне остаться у него на всю ночь. Было ясно, что на самом деле он хочет секса. Несколько раз мы были на грани, но на заднем сиденье «БМВ» его отца, в чужом подвале или в моей берлоге, пока родители спали наверху, мне всегда становилось не по себе.
Так что когда он предложил остаться на ночь, я согласилась без размышлений.
Линдси верещит и бьет ладонью по рулю.
– Ерунда? Ты серьезно? Моя детка выросла.
– Я тебя умоляю.
Мою шею заливает жаром, и я догадываюсь, что кожа наверняка пошла красными пятнами. Обычное дело, когда я смущена. Никакие дерматологи, притирки и пудры не помогают. Когда я была помладше, ученики распевали: «Угадайте, что такое: красно‑белое, чудное? Сэм Кингстон!»
Я едва заметно качаю головой и протираю стекло. Мир за окном сверкает, словно покрытый лаком.
– Кстати, напомни, когда вы с Патриком начали? Месяца три назад?
– Да, но с тех пор мы наверстали упущенное время, – усмехается Линдси, подскакивая на сиденье.
– Фу, перестань!
– Не волнуйся, детка. Все будет хорошо.
– Не называй меня деткой.
Это одна из причин, по которой я рада, что решила сегодня переспать с Робом: наконец‑то Линдси и Элоди перестанут надо мной потешаться. Слава богу, Элли до сих пор девственница, а значит, я не буду последней. Иногда мне кажется, что в нашей четверке я вечная отстающая, вечный наблюдатель со стороны.
– Я же говорю, это ерунда.
– Тебе виднее.
Линдси заставила меня понервничать, и по дороге я пересчитала все почтовые ящики. Неужели завтра мир покажется другим? Неужели завтра я буду казаться другой? Надеюсь, что да.
Мы заезжаем за Элоди, и не успевает Линдси нажать на гудок, как дверь распахивается и Элоди скачет по ледяной дорожке на трехдюймовых каблуках, как будто ей не терпится сбежать из дома.
– У тебя соски от холода сквозь куртку не торчат? – спрашивает Линдси, когда Элоди забирается в машину.
Как обычно, на Элоди только тонкая кожаная куртка, хотя в прогнозе погоды передавали, что температура не поднимется выше нуля.
– Что толку круто выглядеть, если этого никто не видит?
Элоди трясет сиськами, и мы покатываемся со смеху.
Когда она рядом, невольно расслабляешься; вот и у меня перестало крутить в животе.
Она щелкает рукой, и я передаю ей кофе. Мы все пьем одно и то же: большой ореховый, без сахара, двойная порция сливок.
– Смотри, куда садишься. Раздавишь рогалики, – предостерегает Линдси, хмурясь в зеркало заднего вида.
– А как насчет кусочка вот этого? – отзывается Элоди, шлепая себя по заднице, и мы снова смеемся.
– Оставь это для Пончика, похотливая сучка.
Стив Маффин – последняя жертва Элоди. Она называет его Пончиком из‑за фамилии, а еще потому, что он ужасно аппетитный (это она так считает; по‑моему, он слишком сальный и от него воняет травкой). Они встречаются уже полтора месяца.
Элоди из нас самая опытная. Она лишилась девственности в девятом классе и уже занималась сексом с двумя разными парнями. Именно она рассказала, что после первых двух раз у нее все болело, и я занервничала еще больше. Глупо, конечно, но я никогда не воспринимала секс как нечто физическое, от чего все может болеть, как от хоккея или верховой езды. А вдруг я совсем растеряюсь, как когда мы играли в баскетбол на физкультуре и я все время забывала, кого мне опекать, и не понимала, передавать мяч или вести?
– Ммм, Пончик. – Элоди кладет ладонь на живот. – Умираю от голода.
– Съешь рогалик, – предлагаю я.
– С кунжутом? – уточняет Элоди.
– Ясное дело, – хором отвечаем мы, и Линдси подмигивает мне.
Перед самой школой мы опускаем окна и врубаем на всю мощность «No More Drama» Мэри Джей Блайдж. Я закрываю глаза и вспоминаю вечер встречи выпускников и первый поцелуй с Робом: он притянул меня к себе на танцполе, наши губы соприкоснулись, его язык скользнул под мой, и я ощутила жар разноцветных огней, который давил на меня как ладонь, и музыка заметалась эхом меж ребер, отчего мое сердце задрожало и пропустило удар. От холодного ветра из окна болит горло, и басы сквозь подошвы проникают в тело, совсем как тем вечером, когда я думала, что большего счастья уже не бывает; они поднимаются до самой головы, отчего перед глазами все плывет и кажется, что машина вот‑вот развалится от звука.
Популярность: анализ
Популярность – странная штука. Ей невозможно дать толковое определение, обсуждать ее не круто, но всегда ясно, что это именно она. Как косоглазие или порно.
Линдси – настоящая красотка, а мы с Элоди и Элли не намного симпатичнее остальных. Мои достоинства: большие зеленые глаза, ровные белые зубы, высокие скулы, длинные ноги. Мои недостатки: слишком длинный нос, кожа, которая идет пятнами, когда я нервничаю, и отсутствие задницы.
Бекки Дифиоре такая же красотка, как Линдси, но я уверена, что Бекки даже не с кем пойти на вечер встречи одиннадцатиклассников. У Элли большие сиськи, а я почти плоская (когда Линдси в плохом настроении, она зовет меня Сэмюел, а не Сэм или Саманта). Мы вовсе не идеальные куклы, и наше дыхание не пахнет розами, ничего такого. Как‑то раз Линдси устроила в столовой соревнование с Джоной Сасноффом «Кто громче рыгнет», и все ей аплодировали. Элоди иногда надевает в школу пушистые желтые тапочки. Однажды на обществознании я так громко смеялась, что меня стошнило ванильным латте на парту Джейка Сомерса. Через месяц мы целовались с ним взасос в сарае Лили Энглер. (Мне не понравилось.)
Суть в том, что мы можем себе это позволить. Знаете почему?
Потому что мы популярны. А популярны мы потому, что нам все сходит с рук. Замкнутый круг.
Короче, я клоню к тому, что тут нечего анализировать. Если нарисовать круг, всегда будет внутренняя и внешняя часть, и если ты хоть немного соображаешь, совсем несложно отличить одну от другой. Так уж получается.
Врать не стану. Хорошо, что нам все дается легко. Приятно, когда можно натворить почти что угодно и последствий не будет. После окончания школы мы оглянемся назад и поймем, что все делали правильно: целовали самых клевых парней, посещали самые крутые вечеринки, ввязывались в неприятности ровно столько, сколько нужно, слушали слишком громкую музыку, слишком много курили, слишком много пили, слишком много смеялись и слишком мало слушались, да что там, не слушались вообще. Если бы старшие классы были игрой в покер, у нас с Линдси, Элли и Элоди было бы на руках восемьдесят процентов карт.
Поверьте, мне известно, каково быть на другой стороне. Я провела там первую половину жизни. Последняя из последних, худшая из худших. Мне известно, каково пререкаться и драться из‑за объедков.
Так что теперь право выбора за мной. Ну и что? Так уж вышло.
Никто и не утверждал, что жизнь справедлива.
Мы появляемся на парковке ровно за десять минут до первого звонка. Линдси прибавляет ходу и мчится на нижнюю, учительскую парковку, распугав стайку десятиклассниц. Из‑под их курток выглядывают красно‑белые кружевные платьица, а у одной на голове диадема – купидоны, ясное дело.
– Давай, давай, давай, – бормочет Линдси, когда мы едем за спортивным залом.
На нижней парковке есть только один ряд не для учителей, мы называем его Аллеей выпускников, хотя Линдси паркуется на нем с одиннадцатого класса. Это парковка для сливок «Томаса Джефферсона», и если упустишь место – а их всего двадцать, – придется рулить на верхнюю парковку, от которой целых двадцать две сотых мили до главного входа. Однажды мы посчитали и теперь всегда называем точное расстояние, например: «Ты серьезно хочешь топать двадцать две сотых мили под таким дождем?»
Найдя свободное место, Линдси издает возглас и дергает руль влево. Одновременно Сара Грундель на своем коричневом «шевроле» направляется туда же с противоположной стороны.
– Черт, нет. Только не это!
Линдси давит на гудок, а потом жмет на газ, хотя слепому видно, что Сара приехала первой. Элоди охает, когда горячий кофе выплескивается ей на блузку. Пронзительно визжит резина, и Сара Грундель едва успевает затормозить, чтобы «рейнджровер» Линдси не воткнулся ей в бампер.
– Отлично! – Линдси паркуется и выключает зажигание, затем открывает дверцу, выглядывает наружу и кричит Саре: – Прости, киска! Я тебя не заметила.
Конечно, это ложь.
– Супер. – Элоди вытирает кофе скомканной салфеткой «Данкин донатс». – Теперь мои сиськи весь день будут вонять орехами.
– Парням нравятся съедобные запахи, – успокаиваю я ее. – Читала в «Гламуре».
– Засунь печенье себе в трусики, и Пончик набросится на тебя, не успеешь дойти до класса, – ухмыляется Линдси, опуская зеркало заднего вида и изучая свое лицо.
– Может, Сэмми, тебе попробовать это с Робом? – Элоди со смехом бросает в меня испачканную кофе салфетку. – Что? Думала, я забыла о твоей великой ночи?
Я ловлю салфетку и швыряю обратно. Она роется в сумке, и над сиденьем взлетает помятый презерватив с табачными крошками, прилипшими к обертке. Линдси хохочет.
– Дикари! – восклицаю я, беря презерватив двумя пальцами и кидая в бардачок Линдси.
От одного прикосновения к нему я снова начинаю нервничать; низ живота крутит. Никогда не понимала, почему презервативы заворачивают в эти маленькие кусочки фольги, из‑за которой они напоминают лекарства, прописываемые от аллергии или проблем с кишечником.
– Берегите любовь, – изрекает Элоди, наклоняясь и целуя меня в щеку.
На щеке остается большое пятно розового блеска для губ.
– Хватит тормозить, – говорю я и выбираюсь на улицу, пока подруги не увидели, как я краснею.
Мистер Шоу, главный тренер, стоит у спортивного зала, пока мы вылезаем из машины. Наверное, разглядывает наши задницы. Элоди считает, что он выпросил себе кабинет рядом с раздевалкой для девочек, потому что установил в туалете веб‑камеру. А иначе зачем ему компьютер? Он ведь главный тренер. Теперь я вспоминаю об этом каждый раз, когда писаю в раздевалке.
– Шевелитесь, дамы, – подгоняет он нас.
А еще он тренер по хоккею. Забавно, потому что ему слабо даже до торгового автомата сбегать. Он похож на моржа, у него и усы имеются.
– Мне не хочется записывать вам опоздание.
– Мне не хочется вас шлепать, – имитирую я его странно высокий голос, еще одну причину, по которой Элоди подозревает его в педофилии.
Подруги хохочут.
– Две минуты до звонка, – резко добавляет Шоу.
Возможно, он услышал. Плевать.
– Веселой пятницы, – бормочет Линдси и берет меня под руку.
Элоди достает сотовый телефон и в его зеркальной крышке разглядывает зубы, выковыривая кунжутные семечки ногтем мизинца.
– Какой отстой, – сетует она, не поднимая глаз.
– Полный, – соглашаюсь я.
По пятницам бывает тяжелее всего: свобода так близко!
– Убей меня.
– Ни за что. – Линдси сжимает мою руку. – Я не позволю своей лучшей подруге умереть девственницей.
Вот видите, мы ничего не знали.
За первых два урока – искусство и АИПТ («Американскую историю повышенной трудности»; всегда обожала историю) – я получаю всего пять роз. И не слишком переживаю по этому поводу, хотя меня выводит из себя, что Эйлин Чо получает четыре розы от своего парня Йена Доуэла. Мне даже в голову не пришло просить Роба о том же; по‑моему, это нечестно. Нечестно делать вид, что у тебя больше друзей, чем на самом деле.
Как только я появляюсь на химии, мистер Тирни объявляет о внеплановой контрольной. Это серьезная проблема, потому что: 1) я не понимаю ни слова в домашних заданиях уже четыре недели (ладно, после первой недели даже не пытаюсь) и 2) мистер Тирни постоянно угрожает сообщить о низких оценках приемным комиссиям колледжей, ведь многих из нас еще не приняли. Не уверена, всерьез ли он или просто пытается запугать выпускников, но я не позволю учителю‑фашисту лишить меня шансов на поступление в Бостонский университет.
Хуже того, я сижу рядом с Лорен Лорнет, наверное единственной в классе, кто соображает в этом деле гораздо медленнее меня.
Вообще‑то мои оценки по химии в нынешнем году были вполне приличными, и не потому, что на меня снизошло внезапное прозрение о взаимодействии протонов и электронов. Мою стабильную пятерку с минусом можно объяснить двумя словами: Джереми Болл. Он весит меньше меня и пахнет кукурузными хлопьями, зато дает мне списывать домашние задания и наклоняет парту ко мне в дни контрольных, чтобы я могла безнаказанно подглядывать в его тетрадь. К несчастью, перед уроком Тирни я зашла пописать и проведать Элли – мы всегда встречаемся в туалете перед третьим уроком; у нее биология в то же время, когда у меня химия, – и потому не успела занять свое обычное место рядом с Джереми.
В контрольной мистера Тирни три вопроса, и я не в силах выдать правдоподобный ответ хотя бы на один. Лорен рядом со мной согнулась в три погибели и высунула кончик языка; она всегда так делает, когда размышляет. Вообще‑то ее ответ на первый вопрос выглядит вполне прилично: буквы аккуратные и уверенные, а не лихорадочно нацарапанные, как бывает, когда понятия не имеешь, о чем речь, и надеешься, что учитель не разберет твою писанину. (Для справки: это никогда не срабатывает.) Тут я вспоминаю, что на прошлой неделе мистер Тирни велел Лорен исправить оценки. Возможно, она взялась за ум.
Заглядывая ей через плечо, я копирую два из трех ответов – я наловчилась списывать совсем незаметно.
– Три‑и‑и‑и‑и‑и минуты! – провозглашает мистер Тирни с нажимом, точно голос за кадром, отчего у него колышется второй подбородок.
Судя по всему, Лорен закончила и проверяет работу, но она так низко наклонилась, что мне не виден третий ответ. Я слежу за бегом секундной стрелки.
– Две ми‑и‑ину‑у‑ты и три‑и‑и‑и‑дцать секу‑у‑у‑нд, – рокочет Тирни.
Подавшись вперед, я тыкаю Лорен ручкой в бок. Она удивленно поднимает глаза. Кажется, я сто лет не общалась с ней, и на ее лице мелькает странное выражение.
– Ручку, – одними губами произношу я.
Бросив взгляд на Тирни, который, к счастью, уставился в учебник, она с растерянным видом уточняет:
– Что?
Я размахиваю ручкой, давая понять, что у меня закончились чернила. Лорен тупо смотрит на меня, и на мгновение мне хочется схватить ее и хорошенько встряхнуть – «Две‑е‑е‑е‑е мину‑у‑у‑ты», – но наконец ее лицо проясняется, и она улыбается, как будто только что изобрела лекарство от рака. Не хочу показаться грубой, но быть ботаником и при этом тормозом – полный бред. В чем выгода быть ботаником, если не можешь даже исполнить сонату Бетховена, или выиграть чемпионат штата по правописанию, или поступить в Гарвард?
– Три‑и‑и‑дца‑а‑а‑ать секу‑у‑у‑унд.
Пока Лорен ищет ручку в сумке, я скатываю последний ответ. Я даже забываю о своей просьбе, и соседке приходится шептать, чтобы привлечь мое внимание.
– Вот, держи.
Я беру ручку. Колпачок погрызен, фу, гадость. Я натянуто улыбаюсь и отворачиваюсь, но через секунду Лорен интересуется:
– Ну как, пишет?
Тогда я окидываю ее взглядом, означающим, что она мешает. Однако она думает, что я не расслышала, и спрашивает громче:
– Ручка. Она пишет?
И тут Тирни хлопает учебником по столу. Получается так громко, что все подскакивают.
– Мисс Лорнет! – рявкает он, глядя на Лорен. – Вы разговариваете на моей контрольной?
Лорен густо краснеет и переводит глаза с учителя на меня и обратно, облизывая губы. Я молчу.
– Я просто… – тихо начинает она.
– Довольно.
Тирни встает, хмурясь так сильно, что его рот вот‑вот сольется с шеей, и скрещивает руки на груди. Он испепеляет Лорен убийственным взглядом – наверное, собирается сказать что‑то еще, но лишь сообщает:
– Время вышло. Отложите карандаши и ручки.
Я пытаюсь вернуть ручку Лорен, однако та отказывается со словами:
– Оставь себе.
– Спасибо, не надо, – упираюсь я, вертя ручку двумя пальцами над партой.
Но Лорен убирает руки за спину.
– Нет, правда, она понадобится тебе. Чтобы писать и все такое.
Она смотрит на меня, словно предлагает нечто чудесное, а не обслюнявленную ручку «Бик». Возможно, из‑за выражения ее лица я вдруг вспоминаю, как мы отправились на экскурсию во втором классе и остались единственными, кого никто не выбрал себе в пару. Остаток дня нам пришлось держаться за руки каждый раз, переходя улицу, и ее ладонь всегда была потной.
Интересно, она помнит? Надеюсь, что нет.
Натянуто улыбнувшись, я бросаю ручку в сумку. Губы Лорен расплываются от уха до уха. Разумеется, я выкину эту дрянь сразу после урока; со слюной наверняка переносится куча мерзких бактерий.
С другой стороны, мама часто повторяет, что каждый день нужно совершать доброе дело. Полагаю, мы с Лорен в расчете.
Урок математики: еще немного «химии»
Четвертый урок – «Основы безопасности жизнедеятельности». Так называют физкультуру для старшеклассников, которых оскорбила бы насильственная физическая активность. (Элоди считает, что название «Рабство» подошло бы лучше.) Мы изучаем искусственное дыхание, то есть целуемся взасос с большими куклами на глазах у мистера Шоу. Нет, он точно извращенец.
Пятый урок – математика, и купидоны заявляются рано, сразу после начала урока. На одном блестящее красное трико и дьявольские рожки; другой одет как зайчик из «Плейбоя», а может, пасхальный кролик, только на шпильках; третий изображает ангела. Их костюмы совершенно не подходят для этого праздника, но, как я уже упоминала, весь смысл в том, чтобы покрасоваться перед старшеклассниками. Я не виню их. Мы тоже так поступали. В девятом классе Элли начала встречаться с Майком Хармоном – в то время выпускником – через два месяца после того, как доставила ему валограмму и он отметил, что ее задница шикарно смотрится в трико. Такая вот история любви.
Дьявол протягивает мне три розы – одну от Элоди, другую от Тары Флют, которая считается одной из нас, хотя на самом деле это не так, и одну от Роба. Я устраиваю целое представление: разворачиваю крошечную карточку, обернутую вокруг стебля, и изображаю, что тронута, когда читаю записку, хотя там лишь несколько слов: «Счастливого Дня Купидона. Лю тя». И маленькими буквами в самом низу: «Ну что, довольна?»
Конечно «лю тя» не равно «я люблю тебя» – так мы никогда не говорили, – но уже совсем близко. Он наверняка приберегает признание для сегодняшней ночи. На прошлой неделе поздно вечером мы сидели у него на диване, он разглядывал меня, и я была уверена – уверена, – что он вот‑вот признается в любви, однако он сказал лишь, что под определенным углом я смахиваю на Скарлетт Йоханссон.
В конце концов, моя записка лучше, чем та, которую Элли получила от Мэтта Уайльда в прошлом году: «Люби меня, как я тебя, ложись ко мне в кровать, и мы не будем спать». Он так пошутил, но тем не менее. «Кровать» и «спать» – сомнительная рифма.
Мне казалось, что мои валограммы закончились, но ангел подходит к парте и протягивает еще одну. Все розы разного цвета, а эта совсем особенная, со сливочно‑розовыми переливами, словно сделана из мороженого.
– Какая красивая, – вздыхает ангел.
Я поднимаю глаза. Ангел стоит рядом и смотрит на розу на моей парте. Надо же, мелюзга набралась смелости обратиться к выпускнице! Я испытываю укол раздражения. Она даже не похожа на обычного купидона. У нее светлые, почти белые, волосы и вены просвечивают сквозь кожу. Кого‑то она мне напоминает, только не могу вспомнить кого.
Заметив мой взгляд, она быстро и смущенно улыбается. Приятно видеть, как она краснеет, – по крайней мере, так она кажется живой.
– Мэриан!
Она поворачивается на зов дьявола. Тот нетерпеливо машет рукой с оставшимися розами, и ангел – по всей видимости, Мэриан – поспешно возвращается к остальным купидонам. Все трое уходят.
Я провожу пальцем по лепесткам розы – они невероятно мягкие, как пух или дыхание, – и немедленно чувствую себя глупо. Разворачиваю записку, ожидая увидеть послание от Элли или Линдси (она всегда пишет «Люблю тебя до смерти, сучка»), но обнаруживаю рисунок: толстый Купидон случайно застрелил птицу на ветке. Птица, на которой написано «белоголовый орлан», падает на парочку на скамейке – очевидно, настоящую цель Купидона. В глазах у Купидона нарисованы спиральки, и он глупо ухмыляется.
Под рисунком выведена фраза: «Много пить – добру не быть».
Это наверняка от Кента Макфуллера, он рисует карикатуры для «Напасти», школьной юмористической газеты. Я бросаю взгляд в его сторону. Он всегда сидит в заднем левом углу класса, такая у него странность – и далеко не единственная. Разумеется, наши глаза встречаются. Он быстро улыбается и машет мне рукой, затем изображает, что натягивает лук и стреляет в меня. Я демонстративно хмурюсь, беру его записку, наспех складываю и бросаю на дно сумки. Но ему, кажется, все равно. Я прямо ощущаю, как его улыбка обжигает меня.
Мистер Даймлер собирает домашние задания по проходам и останавливается около моей парты. Если честно, это из‑за него я так рада, что получила четыре валограммы именно на математике. Мистеру Даймлеру всего двадцать пять, и он настоящий красавчик. Он помощник тренера по хоккею, и довольно забавно видеть его рядом с Шоу. Внешне они полные противоположности. Мистер Даймлер выше шести футов ростом, всегда загорелый и одевается как мы: в джинсы, флиски и кроссовки «Нью беланс». Он закончил нашу школу. Как‑то раз мы отыскали его в старых ежегодниках в библиотеке. Он был королем бала; на одном фото он стоит в смокинге и улыбается, обнимая свою королеву. Из‑за ворота его рубашки выглядывает пеньковый амулет. Мне нравится этот снимок. А знаете, что мне нравится еще больше? Он до сих пор носит этот пеньковый амулет.
Парадокс, но самый сексуальный парень в «Томасе Джефферсоне» – учитель.
Как обычно, когда он улыбается, у меня подскакивает сердце. Он проводит рукой по взъерошенным каштановым волосам, и я воображаю, что делаю с его волосами то же самое.
– Уже девять роз? – Он поднимает брови и демонстративно смотрит на часы. – А ведь еще только пятнадцать минут двенадцатого. Так держать!
– Ну что тут поделаешь? – Я стараюсь говорить как можно более вкрадчиво и кокетливо. – Люди меня любят.
Он подмигивает мне и отвечает:
– Это заметно.
Позволив ему пройти чуть дальше по проходу, я громко сообщаю:
– Но я еще не получила вашу розу, мистер Даймлер.
Он не оглядывается, но кончики его ушей краснеют. Класс хихикает и гогочет. Я испытываю прилив адреналина, как всегда, когда знаешь, что поступаешь дурно, но тебе это сойдет с рук, – например, когда крадешь еду в школьной столовой или тихонько напиваешься на семейном празднике.
Линдси считает, что мистер Даймлер однажды подаст на меня в суд за сексуальные домогательства. Мне так не кажется. По‑моему, он втайне получает удовольствие.
А вот и доказательство: он оборачивается к классу с улыбкой на лице.
– Судя по результатам последней контрольной, вы так и не разобрались с асимптотами и пределами, – начинает он, опершись о стол и скрестив ноги в лодыжках.
Думаю, ни один другой учитель не способен сделать математику хотя бы отдаленно интересной.
Остаток урока он почти не замечает меня – только если я поднимаю руку. Честное слово, когда наши взгляды пересекаются, все мое тело превращается в огромную мурашку. И я готова поклясться, что он чувствует то же самое.
После урока Кент догоняет меня с вопросом:
– Ну? Как тебе?
– Что? – поддразниваю я, хотя прекрасно понимаю: он имеет в виду рисунок и розу.
Кент только улыбается и меняет тему:
– Мои родители уезжают на выходные.
– Везет.
Его улыбка неколебима.
– У меня сегодня вечеринка. Придешь?
Я смотрю на Кента, которого никогда не понимала. По крайней мере, не понимала много лет. В детстве мы были очень близки – собственно, он был моим лучшим другом, а не просто первым, кто поцеловал меня, – но, едва поступив в промежуточную школу, он становился все более и более странным. С девятого класса он ходит в школу только в блейзерах, причем большинство из них порвано по швам или протерто на локтях. Он носит одни и те же разбитые кроссовки в шахматную клетку, а его длинные волосы падают на глаза каждые пять секунд. И наконец, финальный аккорд: он надевает шляпу‑котелок. В школу.
Самое обидное, что он может быть клевым парнем. У него вполне подходящие лицо и тело. Под левым глазом у него крошечная родинка в форме сердца, честное слово. Но он все испортил, став таким чудаком.
– Пока я не знаю своих планов, – заявляю я. – Поживем – увидим…
И осекаюсь, давая понять, что приду, только если не подвернется ничего получше.
– Было бы здорово, – кивает он, продолжая улыбаться.
Что еще бесит в Кенте: он ведет себя так, будто мир – это огромный сверкающий подарок, который он разворачивает каждое утро.
– Посмотрим, – отвечаю я.
Дальше по коридору я вижу, как Роб ныряет в столовую, и ускоряю шаг в надежде, что Кент сообразит и свалит. Весьма оптимистично с моей стороны. Кент много лет без ума от меня. Возможно, даже со времен нашего поцелуя.
Он останавливается – наверное, ждет, что я тоже остановлюсь. Однако я не останавливаюсь. Мгновение мне стыдно, как будто я вела себя слишком грубо, но потом его голос звенит мне вслед, и по звуку становится ясно: он до сих пор улыбается.
– Увидимся вечером! – кричит он.
Его кроссовки скрипят по линолеуму, и мне понятно, что он развернулся и отправился обратно. Он начинает насвистывать. Свист, затихая, летит ко мне. Я не сразу различаю мелодию.
«Завтра солнце взойдет; ставь последний грош, что завтра будет солнце». Из мюзикла «Энни». Моя любимая песня в семилетнем возрасте.
Конечно, никто в коридоре не поймет, но я все равно смущаюсь и краснею. Он всегда так поступает: ведет себя так, словно знает меня лучше всех, только потому, что мы вместе играли в песочнице сто лет назад. Ведет себя так, будто последние десять лет ничего не изменили, хотя они изменили все.
В заднем кармане жужжит телефон, и я раскрываю его перед тем, как войти в столовую. Эсэмэска от Линдси: «Сегодня туса у Кента Макчудика. Идешь?»
На секунду я останавливаюсь, глубоко вздыхаю и набираю: «Ясное дело».
В столовой «Томаса Джефферсона» съедобны только три блюда:
- Рогалики, простые или со сливочным сыром.
- Картошка фри.
- Сэндвичи со стола «Сделай сам». Но только с индейкой, ветчиной или куриной грудкой. Салями и вареная колбаса – ни в коем случае, ростбиф – под вопросом. Отстой, потому что сэндвичи с ростбифом – мои любимые.
Роб стоит у кассы с компанией друзей. В его руках огромный поднос с картошкой фри; он ест ее каждый день. Роб ловит мой взгляд и кивает. (Он не особенно силен в области чувств, своих или моих. Помните «лю тя» в его любовной записке?)
Странно. Пока мы не начали встречаться, он нравился мне так сильно и так долго, что всякий раз, когда он хотя бы косился в мою сторону, у меня щемило в груди и голова шла кругом. Серьезно, иногда я чуть не падала в обморок от одной мысли о нем, так что приходилось садиться.
Однако теперь, когда мы официально вместе, при взгляде на него меня порой посещают странные мысли. Например, я гадаю, не забиты ли у него артерии от бесконечной картошки фри, чистит ли он зубы зубной нитью или как давно в последний раз стирал футболку «Янкиз», которую надевает почти каждый день. Иногда мне кажется, что со мной что‑то не в порядке. Кто же не хочет быть с Робом Кокраном?
Разумеется, я совершенно счастлива; просто иногда я вынуждена вновь и вновь мысленно повторять, почему он вообще мне понравился, словно иначе забуду. К счастью, причин масса: у него черные волосы и миллион веснушек, которые его совсем не портят; он горластый, но забавный; все его знают и любят, и, наверное, половина девчонок в школе по нему сохнут; он отлично смотрится в своей футболке для лакросса; когда он очень устает, то кладет голову мне на плечо и засыпает. Это в нем самое прекрасное. Мне нравится лежать рядом с ним, когда уже поздно, темно и так тихо, что я слышу биение своего сердца. В такие мгновения я уверена, что люблю его.
Не обращая внимания на Роба, я встаю в очередь заплатить за рогалик – я тоже умею изображать неприступность, – после чего направляюсь в сектор выпускников. Остальная часть столовой представляет собой прямоугольник. Умственно отсталые сидят в самой глубине, рядом с учебными классами; затем идут столы девятиклассников, десятиклассников и одиннадцатиклассников. Сектор выпускников расположен в самом начале столовой. Это восьмиугольник с окнами со всех сторон. Ну хорошо, из окон видно только парковку. Но это лучше, чем наблюдать, как слюнявые идиоты лопают яблочное пюре. Без обид, ладно?
Элли уже сидит за нашим любимым круглым столиком у самого окна. Я ставлю поднос и кладу розы. Букет Элли лежит на столе, и я быстро пересчитываю цветы, затем здороваюсь:
– Привет. – Я показываю на ее букет и встряхиваю своим. – Девять роз. У меня тоже.
– Одна не считается, – кривится она. – Итан Шлоски прислал. Прикинь? Вот маньяк.
– Ладно тебе. У меня тоже одна не считается – от Кента Макфуллера.
– Он тебя лю‑у‑у‑бит, – произносит Элли. – Получила эсэмэску от Линдси?
Я выковыриваю мягкую начинку из рогалика и закидываю в рот.
– Мы правда собираемся к нему на вечеринку?
– Боишься, что он изнасилует тебя прямо там? – фыркает Элли.
– Очень смешно.
– Обещали бочонок пива. – Элли отгрызает крошечный кусочек сэндвича с индейкой. – У меня дома после школы, ладно?
Могла бы не уточнять. Это наша пятничная традиция. Мы заказываем еду, роемся у Элли в шкафу, врубаем музыку погромче и танцуем, меняясь тенями для век и блеском для губ.
– Ясное дело.
Краешком глаза я слежу, как приближается Роб; внезапно он оказывается рядом, плюхается на соседний стул, наклоняется и касается губами моего левого уха. От него пахнет одеколоном «Тотал», как всегда. По‑моему, немного напоминает чай с мелиссой, который пила моя бабушка, но ему незачем об этом знать.
– Привет, Саммантуй.
Он всегда выдумывает мне имена: Саммантуй, Сэмвич, Саммит.
– Получила мою валограмму?
– А ты мою? – спрашиваю я.
Он сбрасывает с плеча рюкзак и расстегивает молнию. На дне лежит полдюжины смятых роз – вероятно, одна из них моя, – а также пустая пачка сигарет, упаковка жевательной резинки «Трайдент», сотовый телефон и пара сменных футболок. Учеба его не слишком занимает.
– От кого остальные розы? – поддразниваю я.
– От твоих конкуренток, – многозначительно отвечает он.
– Супер, – вставляет Элли. – Ты пойдешь на вечеринку к Кенту сегодня вечером, Роб?
– Может быть, – пожимает он плечами и делает скучающий вид.
Хотите секрет? Однажды, когда мы целовались, я распахнула глаза и увидела, что его глаза открыты. Он даже не смотрел на меня. Через мое плечо он разглядывал комнату.
– Обещали бочонок пива, – повторяет Элли.
Все шутят, что «Джефферсон» помогает подготовиться к колледжу: учит учиться и учит пить. Два года назад «Нью‑Йорк таймс» включила нас в список десяти самых пьющих муниципальных школ в Коннектикуте.
Собственно, а чем нам еще заниматься? У нас есть торговые центры и вечеринки в подвалах. Вот и все. И так живет почти вся страна. Папа считает, что давно пора снести статую Свободы и построить большой торговый ряд или водрузить золотистые арки «Макдоналдса». Мол, тогда все поймут, к чему мы движемся.
– Гм. Прошу прощения.
Линдси стоит за спиной у Роба и покашливает, скрестив руки на груди и постукивая ногой.
– Ты занял мое место, Кокран, – сообщает она.
Но только притворяется рассерженной. Роб и Линдси всегда дружили. По крайней мере, всегда учились в одной группе и поневоле стали друзьями.
– Приношу свои извинения, Эджкомб.
Он встает и раскланивается, а она плюхается за стол.
– Увидимся вечером, Роб, – говорит Элли. – Захвати своих друзей.
Наклонившись, он зарывается лицом в мои волосы и произносит тихим, глубоким голосом:
– До встречи.
Раньше от этого голоса все нервы в моем теле взрывались фейерверком. А теперь порой он кажется мне слащавым.
– Не забудь. Сегодня будем только ты и я.
– Помню, – отзываюсь я.
Надеюсь, у меня получилось сексуально, а не испуганно. Однако ладони вспотели. Только бы он не попытался взять меня за руку!
К счастью, он не пытается. Вместо этого прижимается губами к моим губам. Мы целуемся взасос, пока Линдси не кидает мне в плечо картошкой и не восклицает:
– Только не во время еды!
– Прощайте, леди.
С этими словами Роб вразвалочку удаляется прочь. Его кепка чуть сдвинута набок.
Когда никто не смотрит, я вытираю рот салфеткой, потому что нижняя половина моего лица обслюнявлена Робом.
Вот еще один секрет о нем: я терпеть не могу, как он целуется.
Элоди считает, что все мои переживания от неуверенности, потому что мы с Робом пока не закрепили сделку. Она уверена, что мне сразу станет лучше, и наверняка права. В конце концов, Элоди в этом деле эксперт.
Она последней присоединяется к нам за обедом, ставит поднос, и мы все тянемся к ее картошке. Она без энтузиазма пытается отшлепать нас по рукам, затем швыряет свой букет на стол. У нее двенадцать роз, и я испытываю мгновенный укол зависти. Наверное, Элли чувствует то же самое, потому что спрашивает:
– Как ты столько набрала?
– У кого ты столько набрала? – поправляет Линдси.
Элоди показывает язык – она явно довольна, что мы заметили.
Тут Элли бросает взгляд через мое плечо и хихикает.
– Псих‑убийца, qu’est‑ce que c’est{ Строчка из песни «Psycho Killer» (1977) рок‑группы «Talking Heads».}.
Мы оборачиваемся. Джулиет Сиха, она же Психа, только что вплыла в сектор выпускников. Она не ходит, а именно плывет, словно ее влекут неподвластные силы. Длинными бледными пальцами она держит коричневый бумажный пакет. Ее лицо скрыто за завесой светлых, почти бесцветных, волос, плечи подтянуты к ушам.
Большинство собравшихся не обращают на нее внимания и вряд ли помнят о ее существовании, но мы с Линдси, Элли и Элоди визжим и втыкаем в воздух воображаемые ножи, как в «Психо» Альфреда Хичкока, который мы смотрели пару лет назад на вечеринке с ночевкой. (В результате нам пришлось спать при свете.)
Вряд ли Джулиет нас слышит. Линдси уверяет, что она вообще ничего не слышит из‑за громких голосов в голове. Джулиет медленно плывет по помещению к двери на парковку. Не знаю, где она обедает. Ни разу не видела ее в столовой.
Ей приходится несколько раз толкнуть дверь плечом, чтобы выйти. Неужели она настолько хилая?
Линдси слизывает соль с картошки фри, прежде чем закинуть ее в рот, затем задает вопрос:
– Она получила нашу валограмму?
Элли кивает.
– На биологии. Я сидела сразу за ней.
– Сказала что‑нибудь?
– А разве она умеет говорить? – Элли прижимает руку к сердцу, делая вид, что расстроена. – Она выбросила розу сразу после урока. Представляешь? Прямо у меня на глазах.
В девятом классе Линдси случайно стало известно, что Джулиет не прислали ни одной валограммы. Ни единой. Тогда Линдси написала записку и вместе с одной из своих роз прикрепила изолентой к шкафчику Джулиет. Записка гласила: «Может, в следующем году, но вряд ли».
С тех пор каждый год в День Купидона мы посылаем ей розу и такую же записку. Полагаю, единственную записку, которую она когда‑либо от кого‑либо получила. «Может, в следующем году, но вряд ли».
Некрасиво, конечно, однако Джулиет заслужила свое прозвище. Она настоящая чудачка. Ходят слухи, что однажды родители нашли ее на Восемьдесят четвертом шоссе. Совершенно голая, в три часа дня она брела по разделительной полосе. В прошлом году Лейси Кеннеди поведала, что застукала Джулиет в туалете научного крыла; та без конца расчесывала волосы и таращилась на свое отражение. А еще Джулиет ни с кем не общается. Уже много лет, насколько мне известно.
Линдси ненавидит ее. Вроде бы Линдси и Джулиет работали в паре на уроках в начальной школе, и с тех самых пор Линдси ненавидит ее и скрещивает пальцы всякий раз, когда Джулиет рядом, как будто та может превратиться в вампира и вцепиться Линдси в горло.
Это Линдси в пятом классе во время похода герлскаутов обнаружила, что Джулиет описалась в спальный мешок; это Линдси наградила ее кличкой Мышка‑мокрушка. Джулиет дразнили так целую вечность – до конца девятого класса, хотите – верьте, хотите – нет, – и сторонились, потому что от нее якобы пахло мочой.
В окно я вижу, как волосы Джулиет вспыхивают на солнце, будто охваченные пламенем. На горизонте клубится тьма, смазанное пятно, где зреет метель. До меня впервые доходит, что я толком не знаю, почему Линдси возненавидела Джулиет и когда именно это произошло. Я открываю рот, собираясь спросить, но подруги уже сменили тему беседы.
– …бои в грязи, – заканчивает Элоди, и Элли хихикает.
– Ой, как мне страшно, – саркастически произносит Линдси.
Очевидно, я что‑то пропустила, а потому спрашиваю:
– О чем это вы?
Элоди поворачивается ко мне.
– Сара Грундель всем рассказывает, что Линдси сломала ей жизнь. – Элоди ловко закидывает картошку в рот, и мне приходится подождать. – Она пролетела мимо четвертьфиналов, а тебе же известно, как для нее важно это дерьмо. Помнишь, как она забыла снять плавательные очки после утренней тренировки и разгуливала в них до второго урока?
– У нее, наверное, вся стена увешана наградными ленточками, – вставляет Элли.
– Как у Сэм когда‑то. Правда, Сэм? – усмехается Линдси, пихая меня локтем в бок. – Голубыми ленточками за игры с лошадками.
– Так что за беда‑то?
Я всплескиваю руками, поскольку хочу и историю услышать, и отвлечь внимание от себя и того факта, что когда‑то я была лохушкой. В пятом классе я проводила больше времени с лошадьми, чем с представителями своего биологического вида.
– Вы можете объяснить, почему Сара злится на Линдси?
Элоди закатывает глаза, будто мне самое место за столом для умственно отсталых.
– Сару оставили после уроков. Вроде она опоздала в пятый раз за две недели.
Но я все равно не понимаю, и подруга тяжело вздыхает и поясняет:
– Она опоздала потому, что ей пришлось поставить машину на верхней парковке и топать…
– Двадцать две сотых мили! – хором выпаливаем мы и хохочем как умалишенные.
– Не переживай, Линдз, – успокаиваю я. – Если вы подеретесь, я обязательно поставлю на тебя.
– Да, мы прикроем тебе спину, – подхватывает Элоди.
– Разве не странно, как одно вытекает из другого? – робко замечает Элли, как всегда, когда пытается рассуждать. – Словно раскручивается по спирали. Если бы Линдси не украла место Сары на парковке…
– Я не крала его. Оно досталось мне по справедливости, – протестует Линдси и для пущей выразительности хлопает ладонью по столу.
Диетическая кола Элоди выплескивается из стакана прямо на картошку. Мы снова смеемся.
– Я серьезно! – Элли пытается перекричать нас. – Это как паутина, понимаете? Все связано.
– Ты снова залезла в папину нычку, Эл? – спрашивает Элоди.
От хохота мы чуть не валимся под стол. Это наша старая шутка. Папа Элли работает в музыкальном бизнесе. Он юрист, а не продюсер, менеджер или музыкант и повсюду ходит в костюме (даже в бассейн летом), но Линдси уверяет, что он тайный хиппи‑анашист.
Мы сгибаемся пополам от смеха, и Элли краснеет.
– Вечно вы не слушаете меня, – жалуется она, пытаясь скрыть улыбку, и швыряет картошкой в Элоди. – Однажды я читала, что, если в Таиланде взлетит стайка бабочек, в Нью‑Йорке случится гроза.
– Ага, а если ты пукнешь, во всей Португалии отключат электричество, – ухмыляется Элоди, бросая картошку обратно.
– Твое несвежее дыхание запросто вызовет паническое бегство животных в Африке. – Элли наклоняется вперед. – И я не пукаю.
Мы с Линдси хохочем, пока Элоди и Элли кидают друг в друга картошкой. Линдси пытается сказать, что они понапрасну тратят вкуснейший жир, но от смеха не может вымолвить ни слова. Наконец она вдыхает побольше воздуха и выкашливает:
– А знаете, что мне известно? Если хорошенько чихнуть, можно вызвать торнадо в Айове.
Тут даже Элли сдается, и мы начинаем вызывать торнадо, чихая и фыркая одновременно. На нас все таращатся, но нам плевать.
Примерно через миллион чихов Линдси откидывается на спинку стула, обхватив руками живот и задыхаясь.
– Тридцать погибших в торнадо в Айове, – выдавливает она, – и еще пятьдесят пропавших.
И мы снова хохочем.
Мы с Линдси решаем прогулять седьмой урок и сходить в «Ти‑си‑би‑уай»{ TCBY – сеть по продаже замороженного йогурта, название которой расшифровывается как «Лучший деревенский йогурт».}. У Линдси седьмым уроком французский, который она не переваривает, а у меня английский. Мы часто прогуливаем вместе. Мы выпускницы, на дворе второй семестр, а значит, никто и не ждет, что мы появимся в классе. К тому же я ненавижу свою учительницу английского, миссис Харбор. Она вечно уводит в какие‑то дебри. Иногда я отвлекаюсь всего на пару минут, и вот она уже вещает о нижнем белье в восемнадцатом веке, или тирании в Африке, или красоте рассвета над Большим каньоном. Наверное, ей и шестидесяти нет, но я совершенно уверена, что она уже начала слетать с катушек. С моей бабушкой было так же: мысли крутились, вертелись и сталкивались друг с другом, следствия опережали причины, точка А менялась местами с точкой Б. Когда бабушка была жива, мы навещали ее, и хотя мне было всего шесть лет, я помню, как надеялась умереть молодой.
Вот вам пример иронии, миссис Харбор. Или предвидения?
Чтобы во время учебного дня покинуть кампус, нужен специальный пропуск, подписанный родителями и администрацией. Так было не всегда. Довольно долго у выпускников имелась привилегия оставлять территорию в любое время, если в расписании стояло «окно». Однако с тех пор минуло двадцать лет, и «Томас Джефферсон» успел завоевать репутацию школы с одним из самых высоких процентов подростковых самоубийств по стране. Как‑то раз в Интернете мы наткнулись на статью, в которой «Коннектикут пост» назвал нас «школой самоубийц».
В один прекрасный день компания ребят выехала из кампуса и сбросилась с моста. По‑видимому, групповое самоубийство. После этого нам запретили покидать школу во время учебного дня без специального разрешения. Довольно глупо, по‑моему. Как если бы обнаружили, что ученики в бутылках из‑под воды проносят в школу водку, и запретили пить воду.
К счастью, есть другой способ сбежать: через дыру в заборе за спортивным залом, рядом с теннисным кортом, который мы называем Курительным салоном, потому что там тусуются курильщики. Однако когда мы с Линдси выбираемся из кампуса и направляемся в лес, никого поблизости нет. Вскоре мы выходим на Сто двадцатое шоссе. Вокруг тишина и мороз. Ветки и черные листья хрустят под ногами; дыхание вырывается клубами плотного белого пара.
«Томас Джефферсон» находится в трех милях от центра Риджвью – если это можно назвать центром, – но всего в полумиле от кучки убогих магазинов, которые мы называем Рядом. Здесь есть бензоколонка, «Ти‑си‑би‑уай», китайский ресторан – однажды пообедав там, Элоди болела два дня – и случайно затесавшийся магазинчик «Холлмарк», где продаются розовые в блестках фигурки балерин, стеклянные шары со «снегом» и прочее дерьмо. Туда‑то мы и направляемся. И выглядим на редкость по‑дурацки, рассекая вдоль шоссе в юбках, колготках и куртках нараспашку, из‑под которых торчат топики с мехом.
По дороге в «Ти‑си‑би‑уай» мы проходим мимо «Хунань китчен». Сквозь закопченные стекла видно, как Алекс Лимент и Анна Картулло склонились над миской неизвестно чего.
– О‑о‑о, скандал!
Линдси поднимает брови, хотя на полноценный скандал это не тянет. Все в курсе, что последние три месяца Алекс изменяет Бриджет Макгуир с Анной. Все, кроме Бриджет, разумеется.
Семья Бриджет суперкатолическая. Бриджет хорошенькая и очень чистенькая, словно только что вымылась скрабом. Она наверняка бережет себя до свадьбы. По крайней мере, так она говорит; хотя Элоди считает, что Бриджет – латентная лесбиянка. Анна Картулло – всего лишь одиннадцатиклассница, но если верить слухам, переспала уже по крайней мере с четырьмя парнями. Она из небогатой семьи, что в Риджвью редкость. Ее мать парикмахер, а об отце я и вовсе не слышала. Она живет в дрянной съемной квартире сразу за Рядом. Эндрю Сингер как‑то обмолвился, что у нее в спальне пахнет курицей в кисло‑сладком соусе.
– Пойдем поздороваемся, – предлагает Линдси, хватая меня за руку.
– У меня сахарная ломка, – упираюсь я.
– Вот, держи.
Подруга достает из‑за пояса упаковку конфет. Линдси всегда носит с собой конфеты, двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю, как будто толкает наркотики. В некотором роде так и есть.
– Всего на секундочку, честное слово.
Она затаскивает меня внутрь; звенит дверной колокольчик. Женщина за стойкой, листавшая «Ю‑эс уикли», бросает на нас взгляд и возвращается к журналу, когда понимает, что мы не собираемся ничего заказывать.
Линдси садится рядом с кабинкой Алекса и Анны и опирается на стол. Она, типа, дружит с Алексом. Алекс, типа, дружит со многими, потому что приторговывает травкой, которую хранит в обувной коробке в спальне. Мы с ним киваем друг другу при встрече, вот и все наше общение. Мы в одном классе по английскому, но он посещает уроки еще реже, чем я. Наверное, остальное время он проводит с Анной. Иногда он произносит нечто вроде «чтоб ему провалиться, этому эссе!», но не больше.
– Привет, привет, – начинает Линдси. – Идешь сегодня на вечеринку к Кенту?
Лицо Алекса красное и пятнистое. Ему явно не по себе, что его застукали с Анной. А может, у него просто аллергия на здешнюю еду. Я бы не удивилась.
– Гм… Не знаю. Возможно. Посмотрим…
Он затихает.
– Там будет жутко весело, – нахальным голоском сообщает Линдси. – Возьмешь с собой Бриджет? Она такая милая.
На самом деле Бриджет раздражает нас обеих – она слишком бойкая, к тому же носит футболки с дурацкими надписями вроде «Тот, кто идет впереди, не видит чужих задниц» (честно‑честно), – Линдси презирает Анну и однажды написала «АК = БШ» на стене самого популярного туалета напротив столовой. «БШ» значит «белая шваль».
Положение, прямо скажем, неловкое; я пытаюсь его спасти и спрашиваю:
– Курица с кунжутом?
Я показываю на мясо, которое стынет в сероватом соусе в миске на столе, рядом с двумя печеньями с предсказаниями и унылого вида апельсином.
– Говядина с апельсинами, – отвечает Алекс.
Судя по всему, он рад смене темы.
Линдси бросает на меня недовольный взгляд, но я не замолкаю.
– Вы бы поосторожнее, ребята. Элоди как‑то отравилась местной курицей. Ее рвало два дня подряд, прикиньте? Если это и правда была курица. Она клянется, что нашла в ней комок шерсти.
После этих слов Анна берет палочками огромный кусок, смотрит на меня и улыбается, так что мне видно, как она жует. Это она специально, чтобы меня стошнило? Похоже на то.
– Отвратительно, Кингстон, – со смехом говорит Алекс.
Линдси закатывает глаза, как будто ей жаль тратить время на Алекса и Анну.
– Пойдем, Сэм.
Она прикарманивает печенье с предсказанием и разламывает на улице.
– «Счастье придет, когда его не ждешь».
Прочитав это, Линдси кривится, и я хохочу. Она комкает листок и бросает на землю.
– Чепуха.
Я глубоко вдыхаю.
– От здешнего запаха меня всегда тошнит.
Еще бы, ведь в ресторанчике пахнет несвежим мясом, дешевым маслом и чесноком. Облака на горизонте медленно расползаются, делая пейзаж серым и размытым.
– Можешь не объяснять. – Линдси прижимает ладонь к животу. – Знаешь, что мне нужно?
– Большая порция лучшего деревенского йогурта! – восклицаю я.
Звучит намного приятней, чем «Ти‑си‑би‑уай».
– Точно, большая порция лучшего деревенского йогурта, – эхом отзывается Линдси.
Мы обе продрогли, но все равно заказываем двойные шоколадные мягкие замороженные йогурты с карамельной и шоколадной крошкой, которые съедаем по дороге в школу, дуя на пальцы, чтобы не отморозить. Алекс и Анна уже ушли из «Хунань китчен», но мы снова натыкаемся на них в Курительном салоне. До начала восьмого урока осталось ровно семь минут, и Линдси тащит меня за теннисные корты выкурить по сигаретке. Я не вслушиваюсь в ссору Алекса и Анны, но мне кажется, что они ссорятся. Анна опустила голову, а Алекс держит ее за плечи и что‑то шепчет. Сигарета в его руке вот‑вот подожжет ее тусклые коричневые волосы; так и вижу, как ее голова вспыхивает, словно спичка.
Линдси докуривает, и мы бросаем упаковки из‑под йогурта прямо на землю, на мерзлые черные листья, смятые сигаретные пачки и полиэтиленовые пакеты, залитые дождевой водой.
Я тревожусь из‑за сегодняшней ночи – наполовину от страха, наполовину от предвкушения, – как бывает, когда слышишь гром и знаешь, что в любую секунду молния разорвет небо, пронзая облака своими клыками. Зря я прогуляла английский. У меня освободилось время на раздумья. А размышления еще никому не шли на пользу, что бы там ни говорили родители, учителя и чудаки из научного клуба.
Мы огибаем корты по периметру и идем по Аллее выпускников. Алекс и Анна все еще стоят, полускрытые спортивным залом. Алекс курит по меньшей мере вторую сигарету. Определенно, они ссорятся. Я испытываю мгновенный прилив удовольствия: мы с Робом никогда не ссоримся, разве только по пустякам. Это что‑нибудь да значит.
– Неприятности в раю, – замечаю я.
– Больше напоминает неприятности на парковке для трейлеров, – уточняет Линдси.
Мы пересекаем учительскую парковку, срезая путь, и видим мисс Винтерс, заместителя директора. Она рыщет между машин в надежде отыскать курильщиков, которые не успели или поленились дойти до Салона и попытались спрятаться между старыми учительскими «вольво» и «шевроле». У мисс Винтерс настоящий пунктик насчет курильщиков. По слухам, ее мама умерла от рака легких, эмфиземы или типа того. Если мисс Винтерс застукает кого‑то за курением, то обязательно оставит после уроков три пятницы подряд, без вариантов.
Линдси лихорадочно роется в сумке в поисках «Трайдента» и закидывает в рот сразу две подушечки.
– Черт, черт.
– За один только запах тебе ничего не сделают, – успокаиваю я ее.
Ей и самой это ясно, но она любит устраивать представления. Забавно, что можно знать друзей как облупленных и все равно играть с ними в одни и те же игры.
Она не обращает внимания, лишь выдыхает:
– Ну как?
– Как на ментоловой фабрике.
Мисс Винтерс пока нас не заметила. Она идет по рядам, время от времени нагибаясь и заглядывая под машины, как будто кто‑то может лежать там и курить. Вот почему за глаза ее называют Никотиновой Фашисткой.
Я медлю и оборачиваюсь на спортивный зал. Мне не особенно нравится Алекс и совсем не нравится Анна, но любой, кто учился в средней школе, понимает, что надо держаться вместе против родителей, учителей и копов. Это одна из пресловутых невидимых линий: мы против них. Есть вещи, которые просто знаешь, и все. Например, где сидеть, с кем общаться и что есть в столовой. Ты даже не задаешься вопросом, откуда тебе это известно. Если вы понимаете, о чем я.
– Может, вернемся и предупредим их? – предлагаю я.
Подруга останавливается и щурится на небо, будто размышляет.
– К черту, – наконец произносит она. – Пусть сами о себе позаботятся.
Звенит звонок на последний урок, словно подчеркивая ее правоту, и она пихает меня в бок.
– Скорее.
Линдси права, как всегда. В конце концов, что хорошего они мне сделали?
Дружба: история
Мы с Линдси подружились в седьмом классе. Она сама меня выбрала, до сих пор даже не догадываюсь почему. Много лет я лезла вон из кожи, но сумела пробиться с самого дна только в середнячки. Линдси же популярна с первого класса, с тех пор как сюда переехала. Ее сразу назначили инспектором манежа в школьном цирке. На следующий год мы ставили «Волшебника из страны Оз», и она была Дороти. В третьем классе ей досталась роль Чарли в постановке «Чарли и шоколадная фабрика».
Надеюсь, суть вы уловили. Рядом с ней пьянеешь без вина, как будто края мира сглаживаются и цвета кружатся безумной каруселью. Разумеется, с ней я не вдавалась в эти подробности. Она бы заявила, что я домогаюсь ее.
В общем, летом перед седьмым классом Тара Флют устроила вечеринку у бассейна. Бет Шифф выделывалась на глубине – прыгала «бомбочкой», а точнее, хвасталась сиськами третьего размера, которые отрастила где‑то между маем и июлем. Ни у кого из девчонок таких больших пока не было. Я отправилась в дом за газировкой, где ко мне подбежала Линдси со сверкающими глазами. Никогда прежде мы не общались. Она схватила меня за руку и заявила:
– Ты должна это увидеть.
Ее дыхание пахло мороженым. Она затащила меня в комнату Тары, где девчонки побросали сумки и сменную одежду. Сумка Бет была розовой с вышитыми фиолетовыми инициалами сбоку. Линдси явно уже порылась в ней, потому что сразу присела на корточки и достала прозрачный пакет на молнии – в начальной школе мы носили в таких ручки.
– Смотри!
Она встряхнула пакетом над головой. Внутри лежали два тампона.
Слово за слово, и мы с Линдси помчались обыскивать ящики и шкафчики в поисках тампонов и прокладок матери и старшей сестры Тары. У меня голова кружилась от счастья. Мы с Линдси Эджкомб разговаривали, и не просто разговаривали, а смеялись, и не просто смеялись, а смеялись до упаду, так что мне пришлось сжать ноги, иначе бы я описалась! Затем мы выскочили на террасу и принялись швырять тампоны в собравшихся, пригоршню за пригоршней. Линдси вопила: «Бет! Это выпало из твоей сумки!» Несколько тампонов полетело в воду, и парни стали толкаться и пихаться, чтобы поскорее выбраться из бассейна, как будто боялись испачкаться. Бет ежилась на трамплине, мокрая как мышь и трясущаяся, пока остальные загибались от хохота.
Я вспомнила, как в четвертом классе родители привезли меня в Большой каньон и поставили на обрыве, чтобы сфотографировать. У меня не получалось унять дрожь в ногах; ступни покалывало, как будто им не терпелось спрыгнуть: я против воли думала, как легко отсюда упасть, как высоко мы забрались. Когда мама сделала кадр и разрешила мне слезть, я начала смеяться и никак не могла остановиться.
На террасе с Линдси я испытывала то же самое.
С того дня мы с ней стали лучшими подругами. Элли присоединилась к нам позже, летом перед восьмым классом, после того как они с Линдси вместе выступали в лиге по хоккею на траве. Элоди переехала в Риджвью в девятом классе. На одной из своих первых вечеринок она подцепила Шона Мортона, по которому Линдси сохла полгода. Все решили, что Линдси убьет Элоди. Но в понедельник Элоди села за наш стол, и они с Линдси склонились над тарелкой спиральной картошки фри, хихикая и болтая, словно знали друг друга всю жизнь. Я рада этому. Хотя Элоди умеет смутить, в глубине души она, пожалуй, лучшая из нас.
Вечеринка
После школы мы идем к Элли. Когда мы были младше, в девятом классе и до середины десятого, иногда мы оставались у нее, мазались глиняными масками и заказывали горы китайской еды, таская двадцатки из банки для печенья на третьей полке рядом с холодильником, в которой отец Элли хранит тысячу долларов на черный день. Мы называли это «черными китайскими вечерами». Затем мы падали на гигантский диван и смотрели фильмы, пока не засыпали, переплетя ноги под огромным флисовым одеялом, – экран у телевизора в гостиной Элли большой, как в кинотеатре. Но за последние два года мы оставались у Элли только раз, когда Мэтт Уайльд бросил ее и она так рыдала, что наутро проснулась опухшей, как крот.
Сегодня мы совершаем набег на шкаф Элли, чтобы не идти на вечеринку Кента в одинаковых нарядах. Элоди, Элли и Линдси уделяют особое внимание моему внешнему виду. Элоди красит мне ногти ярко‑красным лаком; ее руки чуть дрожат, и немного лака попадает на кутикулу, отчего кажется, будто я истекаю кровью, но из‑за внутренних переживаний мне плевать. Мы с Робом договорились встретиться у Кента, и Роб уже прислал эсэмэску: «Прикинь, я кровать заправил». Я позволяю Элли выбрать мне наряд – золотой топик, слишком свободный в груди, и пару сумасшедших шпилек на четырехдюймовых каблуках (она называет их «стриптизерскими туфлями»). Линдси делает мне макияж, напевая и дыша водкой. Мы все приняли по две стопки, запив клюквенным соком.
Затем я закрываюсь в ванной, где теплое покалывание поднимается от кончиков пальцев к голове, и пытаюсь запомнить, как выгляжу сейчас, в этот миг. Через некоторое время мои черты просто повисают в зеркале, как будто принадлежат незнакомке.
В детстве я часто запиралась в ванной и включала такой горячий душ, что зеркала совсем запотевали, затем вставала и наблюдала, как мое лицо медленно выступает из‑за пара, сначала очертания, затем постепенно детали. Каждый раз я верила, что увижу красавицу, как будто за время душа превратилась в кого‑то идеального и яркого. Но отражение всегда было одним и тем же.
В ванной Элли я улыбаюсь от мысли: «Завтра наконец‑то я стану другой».
Линдси вроде как помешана на музыке и потому составляет плейлист для поездки к дому Кента, хотя он живет всего в нескольких милях. Мы слушаем Доктора Дре и Тупака, а потом врубаем «Baby Got Back» и хором подпеваем.
Но вот что самое странное: пока мы петляем по привычным улицам – улицам, которые я знаю всю жизнь, изученным до последней мелочи, как будто я сама их придумала, – мне кажется, что я плыву над всем, парю над домами, дорогами, дворами и деревьями, поднимаюсь все выше, и выше, и выше, над «Роккиз» и «Райт эйд», бензоколонкой и «Томасом Джефферсоном», футбольным полем и железными скамейками на открытой трибуне, на которых мы сидим на каждом матче выпускников и вопим что есть мочи. Словно все стало маленьким и неважным. Словно это всего лишь мои воспоминания.
Элоди рыдает навзрыд. Она всегда раскисает первой. Элли прихватила остатки водки, но запить нечем. Линдси за рулем, потому что она может пить всю ночь без малейших последствий.
Дождь начинается, когда мы уже почти приехали, но так тихо, что практически висит на месте, как огромный белый занавес. Когда я в последний раз была у Кента? На девятый день рождения? Я совсем забыла, как глубоко в лесу находится его дом. Подъездная дорожка извивается целую вечность. Виден только тусклый свет фар, который отражается от гравия и выхватывает мертвые ветви деревьев, склонившиеся над головой, да крошечные бриллиантики дождя.
Элли поправляет топик. Мы все одолжили у нее новые топики, но она решила остаться в старом, отороченном мехом, хотя в свое время возражала против его покупки.
– Напоминает начало фильма ужасов, – шепчет она. – Ты уверена, что номер дома – сорок два?
– Еще немного, – заверяю я, хотя начинаю подозревать, что мы повернули слишком рано.
У меня сосет под ложечкой, и я не знаю, хорошо это или плохо.
Лес смыкается все теснее и теснее, пока ветки чуть не мажут по дверцам машины. Линдси ноет, что автомобиль поцарапает. Кажется, нас вот‑вот засосет в темноту, и в тот же миг лес резко заканчивается и перед нами возникает самая большая и красивая лужайка, какую только можно вообразить; посередине стоит белый дом, будто сделанный из сахарной глазури. У него есть балконы и длинное крыльцо вдоль двух стен; ставни тоже белые и украшены резьбой, которую не видно в темноте. Ничего подобного я не припомню. Может, дело в выпивке, но мне кажется, что это самый превосходный особняк на свете.
С минуту мы молча смотрим. Половина здания тонет во мраке; с верхнего этажа на лужайку льется теплый свет, окрашивая траву серебром.
– Размером он почти с твой дом, Эл, – замечает Линдси.
Лучше бы она промолчала. Ее слова разрушили чары.
– Почти, – соглашается Элли.
Она достает из сумки водку, делает большой глоток, кашляет, рыгает и вытирает рот.
– Дай глотнуть, – просит Элоди и тянется к бутылке.
Каким‑то образом бутылка переходит ко мне, и я отпиваю. Водка обжигает горло; противный напиток, все равно что краска или бензин, зато мне сразу становится хорошо. Мы вылезаем из машины; свет из окон растекается, подмигивая мне.
На вечеринках у меня всегда ноет низ живота. Но это приятное ощущение: как будто может случиться все, что угодно. Хотя обычно ничего не происходит. Вечера перетекают друг в друга, недели в недели, месяцы в месяцы, и рано или поздно мы все умрем.
Однако в начале вечера возможно все. Парадная дверь заперта, и нам приходится обойти кругом, где за задней дверью начинается очень узкий коридор, обшитый деревянными панелями, и крошечная крутая деревянная лестница. Пахнет чем‑то из детства, но я не могу разобрать чем. Раздается звон разбитого стекла и чей‑то вопль: «Ложись!» Из колонок ревут «Дуджиас»: «Все чтецы собрались в этом клубе; если рифмовать умеешь круто, держи микрофон». Лестница такая узкая, что нам приходится выстроиться друг за другом, потому что народ с пустыми пивными кружками течет вниз. Большинству приходится поворачиваться и прижиматься спиной к стене. Мы здороваемся с парой человек и игнорируем остальных. Как обычно, я чувствую, что все смотрят на нас. Вот еще один плюс популярности: не нужно обращать внимание на то, что на тебя обращают внимание.
Наверху полутемный коридор украшен разноцветными рождественскими гирляндами. Здесь множество комнат, одна за другой, каждая набита задрапированными тканями, большими подушками и диванами с людьми. Все мягкое и приглушенное – цвета, поверхности, лица, – все, кроме музыки, которая пульсирует сквозь стены и заставляет вибрировать пол. В доме курят, и в воздухе висит плотная сизая завеса. Я курила травку всего один раз, но, наверное, именно так чувствуешь себя под кайфом.
Линдси наклоняется назад и что‑то говорит, однако из‑за гула голосов ничего не разобрать. Затем она удаляется, пробираясь сквозь толпу. Я оборачиваюсь, но Элоди и Элли тоже исчезли; внезапно мое сердце начинает колотиться, а ладони зудеть.
Недавно мне приснился кошмар: я стою посреди огромной толпы, и меня толкают то влево, то вправо. Лица кажутся знакомыми, но странно перекошены: мимо проходит девушка, похожая на Линдси; ее рот стекает вниз, словно тает. Никто не узнает меня.
Конечно, находиться в доме Кента не то же самое, ведь я знаю почти всех, кроме нескольких одиннадцатиклассниц и пары девчонок, которые, возможно, учатся в десятом классе. Но все же этого хватает, чтобы я немного встревожилась.
И даже почти отчаялась. Может, подойти к Эмме Хаузер, как ни противно общаться с подобным убожеством? Внезапно я ощущаю крепкое объятие и запах мелиссы. Роб!
Он слюнявит мне ухо.
– Красотка Сэмми! Где ты была всю мою жизнь?
Я оглядываюсь. Его лицо ярко‑красное.
– Ты напился, – укоряю я его, хотя и не собиралась.
Он безуспешно пытается поднять одну бровь.
– Совсем чуть‑чуть. А ты опоздала. – Он лениво усмехается уголком рта. – Мы тут пили вверх ногами.
– Мы не опоздали, – возражаю я. – Еще только десять часов. И вообще, я звонила тебе.
Роб хлопает себя по куртке и карманам.
– Наверное, куда‑то задевал телефон.
Я закатываю глаза.
– Негодник.
– Мне нравится, когда ты старомодно выражаешься.
Второй уголок его рта медленно ползет вверх, и мне ясно, что он собирается меня поцеловать. Я отворачиваюсь и ищу глазами подруг, но их и след простыл.
В углу я замечаю Кента в галстуке и рубашке на три размера больше, заправленной в поношенные брюки‑хаки. Хорошо хоть котелок не напялил. Кент болтает с Фиби Райфер, они над чем‑то смеются. Мне неприятно, что он до сих пор меня не увидел. Отчасти я надеюсь, что он поднимет глаза и бросится ко мне, как обычно, но он только склоняется к Фиби, наверное, чтобы лучше ее слышать.
– Побудем еще часок, ладно? – Роб притягивает меня к себе. – И уедем.
Когда он целует меня, его дыхание пахнет пивом и немного сигаретами. Я закрываю глаза и вспоминаю, как в шестом классе застукала его целующимся с Габби Хэйнес и так возревновала, что два дня не могла есть. Интересно, со стороны кажется, что мне нравится с ним целоваться? По Габби казалось.
Размышления о том, как забавна жизнь, успокаивают меня.
Я даже не успела снять куртку. Роб расстегивает молнию, обнимает меня за талию и лезет под топик. Его ладони большие и потные.
Отстранившись, я успеваю сказать:
– Не здесь же, перед всеми.
– Никто не смотрит, – говорит он, снова притягивая меня к себе.
Это неправда. Ему известно, что все смотрят на нас. Он видит это. Он даже глаза не закрыл.
Его ладони гладят мой живот, пальцы теребят косточки лифчика. Он не особо ловко управляется с лифчиками. Да и с грудями тоже, если на то пошло. В смысле, я, конечно, не в курсе, чего ожидать, но он просто мнет сиськи по кругу. Мой гинеколог делает то же самое на осмотре, так что один из них явно не прав. И вряд ли гинеколог.
Хотите, открою свой самый большой секрет? Я знаю, что положено дожидаться секса с тем, кого любишь и все такое, и я люблю Роба – в смысле, я всегда была в него влюблена, так что как же иначе? Но я не потому решила заняться с ним сексом.
Я решила заняться сексом, чтобы поскорее с этим покончить и потому, что секс всегда пугал меня и мне надоело бояться.
– Скорей бы проснуться рядом с тобой, – шепчет Роб мне на ухо.
Очень мило, но я не могу сосредоточиться, когда его руки шарят по моему телу. До меня внезапно доходит, что я никогда не думала про утро. Понятия не имею, как надо вести себя на следующий день после секса. Я воображаю, как мы лежим на рассвете бок о бок, не касаясь друг друга, и молчим. В комнате Роба нет занавесок – он сорвал их как‑то по пьяни. Днем кажется, что на его кровать направлен прожектор. Прожектор или любопытный глаз.
– Найдите себе комнату!
К нам подходит Элли и морщится. Я отстраняюсь от Роба.
– Извращенцы, – возмущается она.
– А это что, не комната?
Роб поднимает руки и указывает по сторонам. Он выплескивает немного пива на мой топик, и я недовольно фыркаю. Он пожимает плечами. В его стакане осталось всего полдюйма пива, и он хмурится, глядя на донышко.
– Прости, детка. Схожу за добавкой. Вам захватить?
– У нас с собой, – отвечает Элли, поглаживая бутылку в сумочке.
– Мудро.
Роб пытается постучать пальцем по лбу, но чуть не протыкает себе глаз. Он выпил больше, чем я думала. Элли хихикает, прикрыв рот рукой.
– Мой парень – идиот, – изрекаю я, как только он, шатаясь, уходит.
– Клевый идиот, – поправляет Элли.
– Это все равно что «клевый мутант». Такого не бывает.
– Еще как бывает.
Элли оглядывает комнату, надув губы, чтобы парням хотелось их поцеловать.
– Кстати, а куда вы пропали?
Я переживаю из‑за сущих пустяков: из‑за того, что подруги меня бросили всего через тридцать секунд после прихода на вечеринку, из‑за того, что Роб так напился, из‑за того, что Кент продолжает болтать с Фиби Райфер, хотя предполагается, что он без ума от меня. Разумеется, мне не нужно, чтобы он был без ума от меня. Просто его постоянство всегда странным образом меня успокаивало. Я выхватываю бутылку из сумки Элли и делаю очередной глоток.
– Осматривали дом. Здесь семнадцать комнат, прикинь? Сама погляди.
Видя мою гримасу, Элли вскидывает руки.
– Что? Как будто мы бросили тебя в чистом поле!
Она права. Не понимаю, с чего я завелась.
– А где Линдси и Элоди?
– Элоди присосалась к Пончику, а Линдси и Патрик ругаются.
– Уже?
– Ага, ну, они целовались первые три минуты. Подождали четвертой и разорались.
Я сгибаюсь пополам, и мы с Элли хохочем. Мне становится лучше. Водка наполняет голову теплом. Новые гости все появляются; комната немного вращается. Но это приятное чувство, словно сидишь на очень медленной карусели. Мы с Элли решаем спасать Линдси, пока ее ссора с Патриком не переросла в настоящий скандал.
Кажется, заявилась вся школа, но на самом деле ребят только шестьдесят или семьдесят. Столько еще ни разу не собиралось ни на одной вечеринке. Тут все сливки и середнячки двенадцатого класса с точки зрения популярности – Кент едва зацепился за последнюю перекладину общественной лестницы, но он хозяин, так что сойдет, – кое‑кто из одиннадцатиклассниц покруче и парочка по‑настоящему крутых десятиклассниц. Я знаю, что должна ненавидеть их, как ненавидели нас на вечеринках выпускников, когда мы были десятиклассницами, но, если честно, мне все равно. Элли, однако, проходя мимо стайки десятиклассниц, бросает на них ледяной взгляд и отчетливо произносит: «Шалавы». Одна из них, Рейчел Корниш, по слухам, недавно подцепила Мэтта Уайльда.
Разумеется, никаких девятиклассниц. Подонки общества тоже не пришли. Не потому, что их могли поднять на смех, хотя, вероятно, подняли бы. Дело не только в этом. Обычно они узнают о вечеринках, когда уже все закончилось. Им неизвестна информация, которой владеем мы: о секретном боковом входе в домик для гостей Эндрю Робертса, или о том, что Карли Яблонски спрятала в гараже холодильник, где можно хранить пиво, или о том, что в «Роккиз» не очень‑то внимательно проверяют удостоверения личности, или о том, что «Микс» открыт круглые сутки и там готовят лучший на свете омлет с сыром, истекающий маслом и кетчупом, самое то, когда напьешься. В средней школе есть два мира, которые существуют параллельно друг другу и никогда не соприкасаются: имущие и неимущие. По‑моему, это хорошо. В конце концов, средняя школа должна готовить к настоящей жизни.
Здесь так много крошечных комнат и коридоров – как в лабиринте. Во всех полно людей и дыма. Только одна дверь закрыта; на ней висит большая табличка «Не входить», внизу куча странных наклеек для бампера: «Не мешай крутить педали», «Поцелуй меня – я ирландец» и тому подобное.
Когда мы находим Линдси, они с Патриком уже помирились, кто бы мог подумать. Она сидит у него на коленях; он курит косяк. Элоди и Стив Маффин укрылись в углу. Он прислонился к стене, а она наполовину танцует, наполовину трется о него. Из ее рта свисает незажженная сигарета фильтром наружу, а волосы в полном беспорядке. Стив придерживает подружку одной рукой, чтобы та не упала, и в то же время болтает с Лиз Хаммер (ее действительно так зовут, и машина у нее, как ни странно, именно «хаммер»), как будто Элоди вообще нет рядом, не говоря уже о том, что она трется о него.
– Бедная Элоди. – Почему‑то внезапно мне становится ее жалко. – Она слишком хорошая.
– Она шлюшка, – беззлобно заявляет Элли.
– Как, по‑твоему, мы что‑нибудь из этого запомним? – Не знаю, откуда берутся слова; в голове пусто и звонко, словно она вот‑вот взлетит. – Как думаешь, мы будем что‑нибудь помнить через два года?
– Я и завтра‑то не вспомню, – смеется Элли, барабаня по бутылке в моей руке.
Осталось всего четверть. Не пойму, когда мы успели столько выпить.
При виде нас Линдси верещит и скатывается с колен Патрика, протягивая руки, как будто мы сто лет не виделись. Она выхватывает у меня водку и делает глоток; ее рука обвивает мою шею, на мгновение сжимает горло.
– Куда вы подевались? – вопит она; ее голос прекрасно различим, несмотря на музыку и смех. – Я повсюду вас искала.
– Вранье, – отрезаю я.
– Разве что во рту у Патрика, – поддакивает Элли.
Мы хихикаем над тем, что Линдси – врунишка, Элоди – пьяница, Элли страдает ОКР{ ОКР – обсессивно‑компульсивное психическое расстройство, характеризуется навязчивыми мыслями, воспоминаниями, движениями и действиями, а также фобиями.}, а я боюсь людей. Кто‑то приоткрывает окно, чтобы выпустить дым, и в комнату сыплется мелкая морось, пахнущая травой и свежестью, хотя на дворе середина зимы. Пока никто не видит, я протягиваю руку назад и кладу ладонь на подоконник, наслаждаясь холодным воздухом и миллионами уколов дождя. Я зажмуриваюсь и обещаю себе, что никогда не забуду это мгновение: смех подруг, жар множества тел и запах дождя.
Когда я открываю глаза, меня ждет самое большое потрясение в жизни. Джулиет Сиха стоит в дверном проеме и смотрит на меня.
Вообще‑то она смотрит на всех четверых: меня, Линдси, Элли и Элоди, которая только что оставила Стива и присоединилась к нам. Волосы Джулиет стянуты в конский хвост; пожалуй, я впервые вижу ее лицо.
Удивительно, что она пришла, но еще более удивительно, что она оказалась хорошенькой. У нее широко расставленные голубые глаза и высокие скулы, как у модели. Кожа идеально белая и чистая. Я не могу отвести от нее глаз.
Люди толкают и пихают ее, потому что она загораживает дверной проем, но она продолжает стоять и смотреть.
Тут Элли замечает нежданную гостью, и у нее отвисает челюсть.
– Что за?..
Элоди и Линдси поворачиваются выяснить, куда мы уставились. Линдси немедленно бледнеет – она даже кажется испуганной, что по‑настоящему странно, – но я не успеваю удивиться, потому что ее лицо так же быстро багровеет, она уже готова оторвать кому‑нибудь голову. Ну вот, совсем другое дело! Элоди истерически хохочет, сгибается пополам и закрывает рот обеими руками.
– Поверить не могу, – повторяет она. – Поверить не могу.
Она пытается напеть «Псих‑убийца, qu’est‑ce que c’est», но мы по‑прежнему в шоке и не подхватываем.
Знаете, как в фильмах люди говорят или делают что‑нибудь неуместное, и музыка со скрежетом обрывается, и повисает мертвая тишина? У нас примерно то же самое. Правда, музыка не смолкает, но по мере того как до народа доходит, что Джулиет Сиха – ссыкунья, чудачка и законченный псих – стоит посреди вечеринки и с отвращением разглядывает четырех самых популярных девушек в «Томасе Джефферсоне», болтовня прекращается и комнату наполняет тихий шепот, все более громкий и настоятельный, напоминающий гул ветра или океана.
Наконец Джулиет Сиха отлипает от двери, медленно направляется к нам – никогда не видела ее такой спокойной – и останавливается в трех футах от Линдси.
– Сука, – произносит Джулиет.
Ее голос ровный и слишком громкий, как будто она намеренно обращается ко всем в комнате. Я всегда думала, что ее голос высокий или хриплый, но он глубокий и низкий, как у парня.
Линдси не сразу находится с ответом и наконец выдавливает:
– Что ты сказала?
Джулиет не встречалась с Линдси глазами с пятого класса и уж тем более не общалась с ней. И уж тем более не оскорбляла ее.
– Что слышала. Сука. Гадина. Плохой человек.
Джулиет поворачивается к Элли.
– Ты тоже сука.
К Элоди.
– Сука.
Она смотрит на меня, и на мгновение в ее глазах мелькает что‑то знакомое, но тут же исчезает.
– Сука.
Мы так потрясены, что пребываем в полном замешательстве. Элоди снова нервно хихикает, икает и умолкает. Линдси открывает и закрывает рот, как рыба, но молчит. Элли сжимает кулаки, словно хочет дать Джулиет по морде.
И хотя я рассержена и сбита с толку, единственное, о чем я могу думать при виде Джулиет, – это: «Я понятия не имела, что ты такая хорошенькая».
Собираясь с мыслями, Линдси наклоняется к Джулиет, так что между их лицами остается всего несколько дюймов. Я никогда не видела подругу в такой ярости. Ее глаза вот‑вот выскочат из орбит, а рот напоминает рычащую собачью пасть. На мгновение она становится по‑настоящему уродливой.
– Лучше быть сукой, чем психом, – шипит она, хватая Джулиет за блузку.
У нее изо рта летят капельки слюны – так она разъярена. Она толкает Джулиет назад, прямо на Мэтта Дорфмана. Тот отпихивает Джулиет, и она налетает на Эмму Макэлрой. Линдси кричит: «Психа, Психа!» – и издает пронзительные звуки, втыкая в воздух невидимый нож, как в фильме «Психоз», и вот уже все хором скандируют: «Психа!», втыкают невидимые ножи, визжат и толкают Джулиет во все стороны. Элли первая выливает ей на голову пиво, и все берут с нее пример; Линдси поливает Джулиет водкой, и когда Джулиет, спотыкаясь, падает на меня, наполовину промокшая, и вытягивает руки, пытаясь обрести равновесие, я хватаю с подоконника недопитое пиво и выплескиваю на нее. Я даже не сознаю, что ору вместе со всеми, пока мое горло не начинает гореть.
Джулиет смотрит на меня. Не могу объяснить – это похоже на бред, – но в ее глазах мелькает что‑то вроде жалости, словно она жалеет меня.
Из меня мгновенно вышибает дух, как будто от удара в живот. Не раздумывая, я бросаюсь к ней и пихаю что есть мочи; она налетает на книжный шкаф, и тот чуть не падает. Я толкнула ее в сторону двери, и она выбегает из комнаты под визг, смех и возгласы «Психа!». Джулиет протискивается мимо Кента, который только что вошел, возможно, хотел выяснить, из‑за чего такой переполох.
На секунду мы встречаемся глазами. Я не вполне понимаю, что он думает, но явно ничего хорошего. Я отворачиваюсь; мне жарко и неловко. Все снова оживленно гудят, веселятся и обсуждают Джулиет, но мне никак не отдышаться; водка обжигает желудок и ползет обратно по горлу. В помещении душно; пространство кружится быстрее, чем раньше. Мне нужен воздух.
Но когда я пытаюсь выбраться из комнаты, Кент вырастает передо мной и загораживает проход.
– Что тут творится? – спрашивает он.
– Пожалуйста, дай мне пройти.
У меня нет настроения с кем‑либо общаться, особенно с Кентом, облаченным в дурацкую рубашку на пуговицах.
– Она хоть раз тебя обидела?
Я скрещиваю руки на груди.
– Все понятно. Ты подружился с Психой. Я угадала?
Он щурится.
– Клевая кличка. Сама придумала или подруги подсказали?
– Уйди с дороги.
Мне удается протиснуться мимо него, но он хватает меня за плечо с вопросом:
– Почему?
Мы находимся так близко, что я чую запах мятных леденцов и вижу родинку в форме сердца под левым глазом, хотя все остальное размыто. Он смотрит на меня, будто отчаянно пытается что‑то понять, и это хуже, намного хуже всего, что уже успело произойти, – хуже Джулиет с ее яростью и того, что меня может стошнить в любую секунду.
Я пытаюсь сбросить его руку с плеча.
– Да потому, что нельзя трогать всех подряд. Нельзя трогать меня. У меня есть парень.
– Потише. Я только пытаюсь…
– Отстань!
Мне удается стряхнуть его руку. Я понимаю, что веду себя слишком громко и вызывающе, как истеричка, но ничего не могу поделать.
– Что ты себе напридумывал? Я не стану с тобой встречаться. Не стала бы и через миллион лет. Так что прекрати меня преследовать. Странно, что я вообще помню, как тебя зовут.
Вылетая, слова словно душат меня: внезапно я начинаю задыхаться.
Кент пристально на меня сморит. Затем наклоняется еще ближе. На мгновение мне кажется, что он собирается меня поцеловать, и сердце замирает в груди.
Но он только шепчет мне на ухо:
– Я вижу тебя насквозь.
– Ты не знаешь меня. – Я отшатываюсь, дрожа. – Ты ничего обо мне не знаешь.
Как бы сдаваясь, он поднимает руки и отступает назад.
– Ты права. Не знаю.
Он отворачивается и что‑то бормочет.
– Что ты говоришь?
Сердце колотится в груди так сильно, что вот‑вот взорвется. Кент снова бросает на меня взгляд.
– Я говорю: «Слава богу».
Жалея, что надела шпильки Элли, я ковыляю прочь. Комната кружится, и мне приходится держаться за стойку перил.
– Твой парень внизу, блюет в раковину на кухне, – кричит вдогонку Кент.
Я показываю ему средний палец через плечо, не оборачиваясь и не проверяя, смотрит ли он, но почему‑то мне кажется, что не смотрит.
Еще до того, как спуститься и выяснить, не соврал ли Кент, я понимаю, что сегодня не та самая ночь. Меня окатывает волна облегчения и разочарования, так что приходится держаться за стену, чувствуя, как ступеньки вьются по спирали, словно норовят выскользнуть из‑под ног. Сегодня не та самая ночь. Завтра я проснусь прежней, и мир будет прежним, и на ощупь и вкус все останется таким же, как раньше. У меня сжимается горло, глаза горят, и в этот миг я думаю об одном: это Кент во всем виноват; Кент и Джулиет Сиха.
Через полчаса вечеринка сворачивается. Кто‑то сдернул рождественские гирлянды со стен, и они извиваются по полу, как змеи, подсвечивая в углах парящие пылинки.
Я уже почти пришла в норму. «Завтра все будет в порядке», – заверила Линдси, когда узнала о Робе. Мысленно я повторяю эту фразу вновь и вновь, точно мантру. «Завтра все будет в порядке. Завтра все будет в порядке».
В ванной я провожу двадцать минут, умываюсь, заново крашусь, хотя руки дрожат, а отражение в зеркале двоится. Всякий раз, когда крашусь, я вспоминаю мать – я любила наблюдать, как она склоняется над туалетным столиком, готовясь к свиданиям с моим отцом, – и это успокаивает меня. «Завтра все будет в порядке».
Это мое любимое время ночи, когда почти все спят и кажется, что мир принадлежит нам с подругами, как будто ничего не существует, кроме нашего маленького кружка: всюду царят тьма и тишина.
Мы с Элоди, Элли и Линдси уходим. Толпа потихоньку редеет, но передвигаться по‑прежнему сложно. Линдси громогласно предупреждает: «Осторожно, осторожно, разойдись, едет женская “скорая”!» Много лет назад в Покипси на концерте для подростков мы обнаружили, что лучший способ заставить людей расступиться – упомянуть о женской «скорой». Обычно все думают, что понимают смысл.
По дороге мы проходим мимо парочек, которые обжимаются в углах и на лестнице. За закрытыми дверями раздается приглушенное хихиканье. Элоди стучит по дверям кулаком и кричит: «Берегите любовь!» Линдси оборачивается и что‑то шепчет Элоди, та замолкает и виновато смотрит на меня. Но мне наплевать на Роба и упущенный шанс, однако внезапно накатывает усталость, так что даже нет сил говорить.
Мы видим Бриджет Макгуир – она сидит на краю ванны за приоткрытой дверью. Она обхватила голову руками и плачет.
– Что с ней? – интересуюсь я, пытаясь справиться с головокружением.
Мои собственные слова доносятся откуда‑то издалека.
– Она бросила Алекса, – сообщает Линдси, хватая меня под локоть; она кажется трезвой, но зрачки у нее огромные, а белки глаз налиты кровью. – Представляешь? Она выяснила, что Никотиновая Фашистка застукала Алекса и Анну. Он наврал, что идет к врачу.
Музыка продолжает играть, так что мы не слышим Бриджет, но ее плечи ходят ходуном вверх и вниз, будто у нее судороги.
– И слава богу. Вот подонок! – добавляет Линдси.
– Все они подонки, – откликается Элоди.
Она поднимает кружку с пивом, немного расплескавшимся по дороге. Не уверена, что она вообще понимает, о чем речь.
Линдси ставит кружку на приставной столик на потрепанный экземпляр «Моби Дика» и сует в карман небольшую керамическую фигурку: пастушка с курчавыми светлыми волосами и нарисованными ресницами. Она всегда крадет что‑нибудь с вечеринок. Называет это «сувенирами».
– Надеюсь, ее не стошнит в Танке, – шепчет она, кивая на Элоди.
Роб валяется на диване внизу, но умудряется поймать меня за руку, когда я прохожу мимо, и пытается завалить на себя со словами:
– Куда собралась?
Мутный взгляд, хриплый голос.
– Хватит, Роб. Отпусти!
Я отталкиваю его. Он тоже виноват.
– Мы же собирались… – Он осекается и озадаченно трясет головой, затем щурится на меня. – Ты изменила мне?
– Не глупи.
Вот бы перемотать назад весь вечер, перемотать последние пару недель, вернуться в то мгновение, когда Роб наклонился, положил подбородок мне на плечо и признался, что мечтает спать рядом со мной; вернуться в то тихое мгновение в темной комнате с голубым экраном приглушенного телевизора, с дыханием Роба и моими родителями, спящими наверху; вернуться в то мгновение, когда я открыла рот и ответила: «Я тоже».
– Точно. Ты изменила мне. Я догадался.
Шатаясь, он встает и дико озирается. Крис Хармон, один из лучших друзей Роба, стоит в углу и над чем‑то смеется. Спотыкаясь, Роб подходит к нему и ревет:
– Ты увел у меня девушку, Хармон?
Он толкает Криса, и тот налетает на книжный шкаф. Фарфоровая фигурка падает и разбивается; какая‑то девчонка охает.
– Рехнулся?
Крис бросается на Роба, они сцепляются, шатаясь по комнате, налетая на мебель и хрипя. Робу удается поставить Криса на колени, и вот уже оба борются на полу. Девчонки визжат и отпрыгивают в стороны. Кто‑то кричит: «Спасайте пиво!», и в тот же миг Роб и Крис катятся на кухню, где находится бочонок.
Линдси берет меня за плечи из‑за спины.
– Пойдем, Сэм.
– Я не могу его бросить, – возражаю я, хотя отчасти мне хочется.
– Все будет хорошо. Смотри – он уже смеется.
Она права. Парни закончили драться и валяются на полу, хохоча, что есть мочи.
– Роб ужасно разозлится, – упираюсь я.
Разумеется, Линдси понимает: дело не только в том, что я оставила его одного на вечеринке. Она быстро обнимает меня.
– Помни, что я сказала. – И напевает: – Подумай, ведь завтрашний день сметет паутину и боль…
На мгновение у меня сводит живот. Она издевается надо мной? Да нет, простое совпадение. Линдси не дружила со мной в детстве, даже не общалась. Откуда ей знать, что я запиралась в своей комнате, врубала запись «Энни» и вопила эту песню во всю глотку, пока родители не угрожали вышвырнуть меня на улицу.
Мелодия крутится в голове, теперь я буду напевать ее много дней. «Завтра, завтра, я люблю тебя, завтра». Прекрасное слово, если подумать.
– Паршивая вечеринка, правда? – раздается голос Элли, которая подходит с другой стороны.
Вообще она расстроилась только потому, что Мэтт Уайльд не пришел, но все равно приятно слышать.
Дождь оглушительно грохочет, и я вздрагиваю от удивления. Мгновение мы стоим на крыльце под крышей, обхватив себя за плечи, и наблюдаем, как дыхание вырывается изо ртов клубами пара. Холодно. Вода несется с крыши потоком. Кристофер Томлин и Адам Ву бросают пустые бутылки из‑под пива в лес. Часть бутылок разбивается с резким звоном, напоминающим выстрел.
Народ смеется, вопит и скачет под дождем, который хлещет так, что все сливается в единую массу. Соседей нет на много миль вокруг, так что полицию никто не вызовет. Трава перепахана; видны большие черные рытвины, полные грязи. Вдали мерцают огни фар – это машины катят по извилистой дорожке к Девятому шоссе.
– Бежим! – командует Линдси.
Элли тянет меня за руку, и мы несемся с криками; дождь ослепляет нас и струится по курткам, грязь затекает в туфли; ливень такой мощный, словно мир вот‑вот растает.
Когда мы добираемся до машины Линдси, мне действительно плевать на то, как ужасно закончился вечер. Мы истерически хохочем, промокшие и дрожащие, взбодренные холодом и дождем. Линдси верещит насчет мокрых задниц на кожаных сиденьях и грязи на полу, Элоди умоляет завернуть в «Микс» за омлетом с сыром и жалуется, что я всегда сижу рядом с водителем, а Элли требует включить обогрев и угрожает умереть на месте от пневмонии.
Наверное, так мы об этом и заговариваем, в смысле, о смерти. Я решаю, что Линдси можно пустить за руль, однако ведет она быстрее, чем обычно, по кошмарной, длинной, узкой дорожке. Деревья по обе стороны напоминают голые скелеты, стонущие на ветру. Линдси выезжает на Девятое шоссе; шины визжат на скользкой черной дороге. Часы на приборной панели показывают тридцать восемь минут первого.
– У меня есть теория, – заявляю я. – Теория, что перед смертью видишь свои лучшие мгновения, понимаете? Самое лучшее, что успел сделать в жизни.
– Дьюк, детка, – отзывается Линдси, отрывая руку от руля и потрясая кулаком в воздухе.
– Первая свиданка с Мэттом Уайльдом, – немедленно сообщает Элли.
– Умоляю, музыку, – стонет Элоди, наклоняясь вперед за айподом, – не то мне конец.
– Можно сигаретку? – просит Линдси.
Элоди прикуривает для нее от своей. Линдси приоткрывает окна, и через них задувает ледяной дождь. Элли снова хнычет, что ей холодно.
Тогда Элоди ставит «Splinter» группы «Фэлласи», чтобы позлить Элли, возможно устав от ее нытья. Элли называет ее сукой, отстегивает ремень, подается вперед и пытается выхватить айпод. Линдси жалуется, что кто‑то ткнул ее локтем в шею. Сигарета выпадает у нее изо рта и приземляется между ног. Громко ругаясь, Линдси пытается смахнуть пепел с подушки сиденья, Элоди и Элли дерутся, а я пытаюсь помирить их, напоминая, как мы лепили «снежных ангелов» в мае. Последняя цифра на часах мигает: тридцать девять минут первого. Покрышки скользят по мокрой дороге, в машине полно сигаретного дыма, его клубы парят в салоне, подобно привидениям.
А потом вдруг перед машиной вспыхивает белое пламя. Линдси что‑то вопит – я не разбираю слово, не то «тихо», не то «лихо», не то «ослиха», – и машина летит с дороги прямо в черную пасть леса. Я слышу жуткий звук – скрежет железа по железу и звон стекла – и ощущаю запах гари. Машина вдребезги. Я еще успеваю озадачиться вопросом, потушила Линдси сигарету или нет…
А потом…
Тогда‑то все и происходит. Смерть полна жара, грохота и невыносимой боли; раскаленная воронка разрезает меня надвое; что‑то жжет, испепеляет и рвет на куски, и если бы крик был чувством, то это был бы именно он. А после – ничего.
Наверняка кое‑кто из вас считает, что я достойна такого финала. Возможно, мне не стоило посылать розу Джулиет или обливать ее пивом на вечеринке. Возможно, мне не стоило списывать контрольную у Лорен Лорнет. Возможно, мне не стоило говорить гадости Кенту. Наверное, кое‑кто из вас решит, что я достойна этого, потому что собиралась позволить Робу все – то есть не блюсти свою чистоту.
Но прежде чем вы начнете тыкать пальцем, позвольте спросить: я правда совершила много зла? Такого зла, что заслужила смерти? Такого, что заслужила подобной смерти?
Что, другие ничего похожего не делают?
Что, вы сами ничего похожего не делаете?
Подумайте об этом.
Глава 2
Во сне я знаю, что падаю, хотя нет ни верха, ни низа, ни стен, ни потолка, только ощущение безграничной темноты и холода. Я так испугана, что собираюсь закричать, но когда открываю рот, ничего не происходит, и я гадаю, будет ли падение падением, если падать вечно и никогда не достичь дна?
Мне кажется, я буду падать вечно.
Шум прерывает тишину, тихое блеяние становится все громче и громче, словно железная коса рассекает воздух, врезается в меня…
И я просыпаюсь.
Будильник звенит уже двадцать минут. Без десяти семь.
Рывком сев на кровати, я отпихиваю одеяло. Я вся в поту, хотя в комнате холодно. Горло пересохло, отчаянно хочется пить, как будто я пробежала марафон.
Я оглядываюсь по сторонам; мгновение все кажется размытым и немного искаженным, как будто вокруг не комната, а ее прозрачный оттиск, который криво наложили и углы не совпадают с реальностью. Затем освещение меняется, и все снова выглядит нормально.
Ко мне возвращаются воспоминания о прошлом вечере, и кровь стучит в ушах: вечеринка, Джулиет Сиха, ссора с Кентом…
– Сэмми!
Дверь распахивается, ударяясь о стену; Иззи врывается в комнату и спешит ко мне прямо по тетрадям, валяющимся джинсам и розовой фуфайке «Виктория сикрет». Что‑то кажется неправильным, касается края памяти, но скоро исчезает. Сестра забирается на кровать и обхватывает меня горячими руками. Она сжимает в кулачке и осторожно тянет кулон, который я никогда не снимаю, – крошечную птичку на золотой цепочке, подарок бабушки.
– Мама говорит, тебе пора вставать.
От Иззи пахнет арахисовым маслом; только оттолкнув ее, я понимаю, как сильно меня трясет.
– Сегодня суббота, – возражаю я.
Понятия не имею, как добралась до дома вчера ночью. Понятия не имею, что случилось с Линдси, Элоди и Элли; мне даже думать об этом страшно.
Иззи хихикает как полоумная, спрыгивает с кровати и несется обратно к двери. Она исчезает в коридоре, и я слышу ее крик:
– Мама, Сэмми отказывается вставать!
У нее выходит «Фэмми» вместо «Сэмми».
– Сэмми! Сейчас я покажу тебе! – гулко отзывается мама из кухни.
Я опускаю ногу на пол. Прикосновение холодного дерева успокаивает. В детстве я спала на полу все лето; папа отказывался включить кондиционер, и пол оставался единственным прохладным местом. Сейчас я бы с удовольствием сделала то же самое. Судя по всему, у меня жар.
Роб, дождь, звон разбивающихся в лесу бутылок…
Вдруг оживает телефон, и я подскакиваю. Эсэмэска от Линдси: «Я на улице. Где ты?»
Быстро захлопнув телефон, я успеваю увидеть мерцающую дату: пятница, двенадцатое февраля. Вчера.
Еще одна телефонная трель. Еще одна эсэмэска: «Хочешь, чтобы я опоздала в День Купидона, су‑у‑учка?!!»
Я словно двигаюсь под водой – и мое тело ничего не весит – или наблюдаю за собой издалека. Пытаюсь встать, но желудок тут же сжимается, и приходится на дрожащих ногах ползти в ванную в полной уверенности, что меня вот‑вот стошнит. Я запираю дверь и включаю воду в раковине и душе. Встаю над унитазом.
В желудке спазмы снова и снова, однако ничего не происходит.
Машина, скольжение, крики…
Вчера.
В коридоре звучат голоса, но вода льется так громко, что слов не разобрать. В дверь стучат; только тогда я выпрямляюсь и кричу:
– Чего?
– Вылезай из душа. Нет времени.
Это Линдси – мама впустила ее.
Я приоткрываю дверь, за которой стоит недовольная Линдси в объемной куртке, застегнутой до подбородка. Но я все равно рада ее видеть. Она кажется такой нормальной, такой привычной.
– Что случилось прошлой ночью? – сразу спрашиваю я.
Она хмурится.
– Да, извини. Я не могла перезвонить. Патрик не давал повесить трубку до трех часов ночи.
– Перезвонить? – Я мотаю головой. – Нет, я…
– Он ужасно переживал, что родители не берут его в Акапулько. – Линдси закатывает глаза. – Бедняжка. Ей‑богу, Сэм, парни – это как собаки. Им нужно, чтобы их гладили, кормили и пускали в кровать.
Подруга наклоняется ко мне.
– Кстати, ты волнуешься?
– Из‑за чего?
Понятия не имею, о чем речь. Ее фразы пролетают мимо, сливаясь в единый поток. Я держусь за вешалку для полотенец и надеюсь не упасть. Душ слишком горячий, в воздухе висит густой пар. Зеркало запотело, на плитке осел конденсат.
– Из‑за себя, Роба, пары бутылок «Миллер лайт» и фланелевых простыней. – Линдси смеется. – Очень романтично.
– Мне нужно в душ.
Я пытаюсь закрыть дверь, но Линдси в последний момент просовывает локоть и врывается в ванную.
– Ты еще не помылась? – возмущается она. – Нет времени. Обойдешься.
Выключив душ, подруга хватает меня за руку и тащит в коридор.
– Придется накраситься, – заключает она, изучив мое лицо. – Видок у тебя – хуже некуда. Ночные кошмары?
– Вроде того.
– У меня в Танке есть «МАК».
Линдси расстегивает куртку, и из молнии выглядывает клочок меха: наши топики для Дня Купидона. Мне хочется сесть на пол и смеяться, смеяться; я из последних сил сопротивляюсь припадку, пока Линдси заталкивает меня в комнату и командует:
– Одевайся.
Она достает сотовый. Наверное, собирается написать Элоди, что мы опаздываем. Секунду она осматривает меня, вздыхает и отворачивается. Затем с хихиканьем заявляет:
– Надеюсь, Роб переживет, если от тебя будет попахивать.
Тем временем я натягиваю топик, юбку и сапоги.
Снова.
Эта смирительная рубашка меня не полнит?
Когда Элоди садится в машину и наклоняется за кофе, запах ее духов – малинового спрея для тела, который она упорно покупает в «Боди‑шопе», хотя это перестало быть круто уже в седьмом классе, – такой реальный, знакомый и едкий, что я ошеломленно закрываю глаза.
Плохая идея. С закрытыми глазами я вижу, как теплые огни прекрасного дома Кента постепенно исчезают в зеркале заднего вида и лоснящиеся черные деревья обступают нас с обеих сторон, точно скелеты. Пахнет гарью. Раздается крик Линдси, и у меня сжимается желудок, когда машина накреняется, визжа шинами…
– Вот дерьмо.
Я распахиваю глаза, когда Линдси сворачивает в сторону, чтобы не наехать на белку. Она выбрасывает сигарету в окно; запах дыма странно двоится: я не уверена, ощущаю его, или помню, или одновременно и то и другое.
– В жизни не встречала водителя хуже, – ухмыляется Элоди.
– Пожалуйста, осторожнее, – бормочу я и невольно хватаюсь за сиденье.
– Не волнуйся. – Линдси хлопает меня по колену. – Я не позволю своей лучшей подруге умереть девственницей.
В этот миг мне отчаянно хочется выложить все Линдси и Элоди, спросить у них, что со мной – с нами – происходит, но я не знаю, с чего начать.
«Мы попали в аварию после вечеринки, которой еще не было».
«Я думала, что умерла вчера. Я думала, что умерла сегодня вечером».
Судя по всему, Элоди делает вывод, что я притихла, поскольку психую из‑за Роба. Она кладет руку на спинку моего кресла, подается вперед и говорит:
– Не волнуйся, Сэм. Все будет хорошо. Это как ездить на велике.
Я пытаюсь улыбнуться, но не могу сосредоточиться. Словно прошло сто лет с тех пор, как я легла спать, воображая, будто Роб рядом, воображая прикосновения его прохладных сухих ладоней. Мысль о нем причиняет мне боль, горло вот‑вот перехватит. Мне не терпится увидеть его, увидеть его кривую усмешку, кепку «Янкиз» и даже грязную флиску, которая всегда немного пахнет мужским потом, даже после стирки по настоянию матери.
– Это как скакать на лошади, – поправляет Линдси. – Ты очень скоро получишь голубую ленточку, Сэмми.
– Вечно забываю, что ты увлекалась лошадьми, – замечает Элоди, снимая крышку с кофе и сдувая пар.
– В семь лет, – уточняю я, прежде чем Линдси успеет пошутить.
Боюсь заплакать, если она начнет меня высмеивать. Мне не удастся объяснить ей правду: что верховая езда была моим любимым занятием. Я обожала оставаться одна в лесу, особенно поздней осенью, когда природа хрусткая и золотая, деревья цвета пламени и пахнет так, будто все превращается в землю. Мне нравилась тишина – единственными звуками были мерный топот копыт и дыхание лошади.
Никаких телефонов. Никакого смеха. Никаких голосов. Никаких домов.
Никаких машин.
Чтобы солнце не било в глаза, я откидываю козырек и вижу в зеркале улыбку Элоди. «Может, рассказать ей, что со мной происходит», – размышляю я, но уже знаю, что промолчу. Она решит, что я рехнулась. И не только она.
Поэтому я просто смотрю в окно. Свет слабый и водянистый, будто солнце с трудом перевалило через горизонт и ленится умыться. Тени острые и резкие, как иглы. Три черные вороны одновременно снимаются с телефонного провода; я хочу взлететь вместе с ними, выше, и выше, и выше, словно на самолете, наблюдая, как земля уходит из‑под ног, складывается и ужимается, подобно фигурке оригами, пока все не становится ярким и плоским, пока весь мир не превращается в набросок самого себя.
– Музыкальную тему, пожалуйста, – просит Линдси.
Тогда я листаю ее айпод, пока не нахожу Мэри Джей Блайдж, затем откидываюсь на спинку сиденья и стараюсь ни о чем не думать, кроме музыки и ритма.
И не закрываю глаза.
Когда мы въезжаем на дорожку, которая вьется мимо верхней парковки и спускается к учительской парковке и Аллее выпускников, я успокаиваюсь, хотя Линдси ругается, а Элоди ноет, что еще одно опоздание – и ее оставят в пятницу после уроков, а ведь с первого звонка прошло уже две минуты.
Все кажется таким обычным. Сегодня пятница, а значит, Эмма Макэлрой ночевала у Эвана Данцига, и вот она ныряет в дыру в заборе. На Питере Курте кроссовки «Найк эйр форс», которые он носит с доисторических времен каждый день, хотя в них столько дыр, что видно, какого цвета у него носки (обычно черные). И вот Питер бежит в главное здание, сверкая кроссовками.
От вида знакомых вещей мне становится в тысячу раз лучше, и я начинаю подозревать, что вчерашний день – все, что случилось, – был лишь длинным странным сном.
Линдси сворачивает на Аллею выпускников, хотя шансы отыскать место для парковки нулевые. Это ритуал для нее. У меня сводит живот, когда мы проезжаем мимо третьего места считая от теннисных кортов – на нем стоит коричневый «шевроле» Сары Грундель. С бампера смотрит наклейка сборной «Томаса Джефферсона» по плаванию и еще одна – «Намокни». «Ей досталось последнее место, потому что мы безнадежно опоздали», – мелькает в моей голове. Приходится впиться ногтями в ладони и мысленно повторить, что мне приснился сон. На самом деле ничего этого не было.
– Поверить не могу, что нам придется топать двадцать две сотых мили. – Элоди надувает губы. – У меня даже куртки нет.
– Не надо было выходить полуголой, – огрызается Линдси. – Февраль на дворе.
– Я же не знала, что придется идти по улице.
Мы разворачиваемся и едем обратно к верхней парковке, оставляя футбольные поля по правую руку. В это время года поля разворочены: сплошная грязь и несколько заплаток побуревшей травы.
– У меня дежавю, – сообщает Элоди. – Словно мы вернулись в девятый класс.
– У меня все утро дежавю, – слетает с моего языка.
Мне немедленно становится лучше: ну конечно, дело именно в этом.
– Дай угадаю. – Линдси подносит руку к виску и хмурится, делая вид, что размышляет. – Тебе кажется, что Элоди уже когда‑то всех достала с утра пораньше.
– Заткнись!
Элоди наклоняется, шлепает Линдси по плечу, и обе смеются.
Я тоже улыбаюсь. Какое облегчение – сказать это вслух! Все сходится: однажды во время поездки в Колорадо мы с родителями одолели три мили до крошечного водопада в глубине леса. Деревья были большими и старыми, сплошь сосны. Облака напоминали сахарную вату. Иззи была еще слишком маленькой, не ходила и не говорила. Она ехала в рюкзаке на папе и тянула крошечные пухлые кулачки к небу, будто намеревалась схватить его.
В общем, мы стояли и наблюдали, как вода разбивается о камни, и внезапно меня посетило безумное чувство, что все это уже было, вплоть до запаха апельсина, который чистила мать, и отражений деревьев на водной глади. Я была уверена. В тот день все надо мной потешались, так как я ныла из‑за того, что иду пешком три мили, и когда я призналась в своем дежавю, родители засмеялись и заявили, что сочли бы чудом, согласись я пройти так много в прошлой жизни.
Суть в том, что я была уверена тогда точно так же, как уверена сейчас. Всякое бывает.
– О‑о‑о! – Элоди роется в сумочке, выбрасывает пачку сигарет, два пустых тюбика из‑под блеска для губ и сломанные щипчики для ресниц. – Чуть не забыла про твой подарок.
Над передним креслом взлетает презерватив; Линдси хлопает в ладоши и подпрыгивает.
– Берегите любовь? – натянуто улыбаюсь я и ловлю его.
Наклонившись, Элоди целует меня в щеку. На щеке остается пятно розового блеска для губ.
– Все будет замечательно, детка.
– Не называй меня деткой, – бурчу я, бросая презерватив в сумочку.
Мы вылезаем из машины. Так холодно, что слезятся глаза. Я отгоняю дурное предчувствие, которое свербит изнутри, и про себя повторяю: «Сегодня мой день, сегодня мой день, сегодня мой день», чтобы больше ни о чем не думать.
Мир теней
Однажды я читала, что дежавю возникает, когда две половинки мозга обрабатывают информацию с разной скоростью: правая на несколько секунд раньше левой или наоборот. С наукой у меня особенно плохо, так что я поняла не всю статью, но это объясняет странное двойственное ощущение при дежавю, как будто мир – или ты сам – разваливается на половины.
По крайней мере, так я ощущала себя: словно есть я настоящая и отражение меня и я не в силах отличить, кто есть кто.
Проблема в том, что дежавю проходит очень быстро – тридцать секунд, максимум минута, и все.
Но у меня ничего не проходит.
Все повторяется: на первом уроке Эйлин Чо верещит при виде роз. Самара Филлипс наклоняется и гудит: «Наверное, он очень любит тебя». Я прохожу мимо тех же людей в то же время. Аарон Стерн снова разливает кофе по всему коридору, и Кэрол Лин снова орет на него.
Даже слова те же самые: «Тебя что, мама в детстве уронила?» Если честно, это довольно забавно, даже во второй раз. Даже когда мне кажется, что я свихнулась, и хочется вопить.
Но еще поразительнее разные мелкие перемены. Сара Грундель, например. По дороге на второй урок я вижу, как она стоит, опершись на шкафчики, вертит очки для плавания на указательном пальце и болтает с Хиллари Хейл. До меня доносится обрывок их беседы.
– …так волнуюсь. Знаешь, тренер считает, что я вполне могу улучшить свое время еще на полсекунды.
– До полуфиналов целых две недели. Я верю в тебя.
Я останавливаюсь как вкопанная. Сара видит, что я уставилась на нее, и начинает нервничать. Приглаживает волосы, одергивает юбку, которая слегка задралась. Затем машет мне рукой и восклицает:
– Привет, Сэм!
И снова одергивает юбку.
– Вы… – Я глубоко вдыхаю, чтобы не заикаться как идиотка. – Вы обсуждали полуфиналы? По плаванию?
– Да, – оживляется Сара. – Хочешь прийти?
Несмотря на панику, я понимаю, что это очень глупый вопрос. В жизни не ходила на соревнования по плаванию; перспектива сидеть на скользком кафельном полу и наблюдать, как Сара Грундель рассекает по бассейну в купальнике, не более привлекательна, чем рагу с лапшой из «Хунань китчен». Единственное спортивное событие, которое я посещаю, – это матч выпускников, но все равно за четыре года я не удосужилась разобраться в правилах. Линдси обычно приносит фляжку чего‑нибудь спиртного для нас четверых, так что правила не главное.
– Мне казалось, ты не будешь выступать… – Я изо всех сил стараюсь держаться небрежно. – Ходят слухи… что ты опоздала и тренер взбесился…
– Слухи? Обо мне?
Сара широко распахивает глаза, как будто я только что протянула ей выигрышный лотерейный билет. Вероятно, она придерживается принципа «лучше плохое, чем ничего».
– Наверное, я ошиблась.
Вспомнив, что видела ее машину на третьем месте с конца, я заливаюсь румянцем. Ну конечно, сегодня она не опоздала. Конечно, она участвует в соревнованиях. Сегодня ей не пришлось топать с верхней парковки. Она опоздала вчера.
В голове звенит, мне хочется поскорее убраться. Хиллари странно на меня смотрит.
– Все в порядке? Ты такая бледная.
– Да. Абсолютно. Отравилась суши вчера вечером.
Я опираюсь рукой на шкафчик, чтобы не упасть. Сара заводит шарманку о том, как отравилась едой в торговом центре, но я уже удаляюсь. Коридор словно вертится и выгибается под ногами.
Дежавю. Это единственное объяснение.
Главное – почаще повторять. Может, получится поверить.
В таком смятении я едва не забываю о встрече с Элли в туалете у научного крыла. В кабинке я опускаю крышку унитаза и сажусь, вполуха слушая трескотню Элли. Помнится, миссис Харбор во время одного из своих безумных полетов фантазии заявила, что Платон полагал, будто весь мир – все видимое нами – только тени на стене пещеры. Сами предметы, отбрасывающие тени, от нас сокрыты. И сейчас мне кажется, что вокруг одни тени, словно я ухватываю образ предметов прежде, чем сами предметы.
– Ау? Ты вообще слушаешь меня?
Элли хлопает дверцей; я вздрагиваю и поднимаю глаза. Изнутри на дверце намалевано «АК = БШ». Снизу мелкими буквами приписано: «Возвращайся в свой трейлер, шлюшка».
– Ты сказала, что скоро тебе придется покупать лифчики в отделе для беременных, – машинально воспроизвожу я.
На самом деле я не слушала. По крайней мере, на этот раз.
Я рассеянно гадаю, зачем Линдси спускалась в такую даль разукрасить дверцу туалета – в смысле, почему это было для нее важно. Она уже написала свое уравнение дюжину раз в кабинках напротив столовой, а ведь тем туалетом пользуются все. Мне неясно, почему она не любит Анну, и, кстати, мне до сих пор неизвестно, почему она так ополчилась на Джулиет Сиху. Странно, как много можно знать о человеке и в то же время не знать ничего. И надеяться, что когда‑нибудь доберешься до сути.
Поднявшись, я распахиваю дверцу и указываю на граффити.
– Когда Линдси это написала?
Элли закатывает глаза.
– Не она. Какая‑то подражательница.
– Серьезно?
– Угу. В раздевалке для девочек есть еще одна надпись. Подражательницы! – Элли стягивает волосы в конский хвост и кусает губы, чтобы немного припухли. – Что за убожество! В этой школе ничего нельзя сделать – сразу начнут повторять.
– Убожество.
Я провожу пальцами по словам. Они черные и жирные как червяки, написаны стойким маркером. Мгновение я размышляю, ходит ли Анна в этот туалет.
– Надо подать иск о нарушении авторских прав. Прикинь! Двадцать баксов всякий раз, когда кто‑нибудь копирует наш стиль. Да мы озолотимся! – Элли хихикает. – Хочешь мятную конфетку?
Она протягивает мне жестянку «Алтоидс». Элли до сих пор девственница – и останется таковой в обозримом будущем (по крайней мере, пока не поступит в колледж), поскольку без ума от Мэтта Уайльда. Но она все равно принимает противозачаточные таблетки, которые хранит в мятой фольге вместе с мятными конфетами. По ее уверениям, она прячет таблетки от отца, но все знают: ей нравится доставать их на уроках и заставлять всех думать, что она занимается сексом. Как будто ей удалось кого‑то обмануть! «Томас Джефферсон» – маленькая школа, здесь не бывает секретов.
Как‑то раз Элоди сказала, что у Элли «беременное дыхание», и мы чуть не лопнули от смеха. Дело было в одиннадцатом классе субботним майским утром. Мы валялись на батуте у Элли после одной из ее лучших вечеринок. Нас всех немного мучило похмелье, головы кружились, животы были набиты блинчиками и беконом, съеденными за ужином, и мы были совершенно счастливы. Я лежала на раскачивающемся батуте, зажмурившись от солнца, и мечтала, чтобы день никогда не кончался.
Звенит звонок, и Элли восклицает:
– Черт! Опоздаем!
В животе снова разверзается яма. Жаль, что нельзя весь день прятаться в туалете.
Вы в курсе, что дальше. Я опаздываю на химию и сажусь на последнее свободное место рядом с Лорен Лорнет. Мистер Тирни устраивает контрольную из трех вопросов.
Догадываетесь, что самое ужасное? Я уже видела эту контрольную, но до сих пор не знаю ответов.
Я прошу одолжить ручку. Лорен шепотом спрашивает, пишет ли она. Мистер Тирни хлопает учебником по столу.
Все подскакивают, кроме меня.
Урок. Звонок. Урок. Звонок. Безумие. Я схожу с ума.
Когда на математику приносят розы, у меня дрожат руки. Я набираю воздуха, прежде чем развернуть крошечную ламинированную карточку, прикрепленную к цветку, который прислал Роб. Я воображаю, будто там написано нечто невероятное, удивительное, способное изменить все к лучшему.
«Ты прекрасна, Сэм».
«Я так счастлив быть с тобой».
«Сэм, я люблю тебя».
Осторожно я отгибаю уголок карточки и заглядываю внутрь.
«Лю тя…»
Быстро закрыв карточку, я убираю ее в сумку.
– Ух ты. Какая красивая.
Я поднимаю глаза. Девушка в костюме ангела стоит рядом и разглядывает розу, которую только что положила на парту, со сливочно‑розовыми лепестками, словно из мороженого. Она еще не убрала руку, и сквозь кожу просвечивает паутина тоненьких голубых вен.
– Сфотографируй, – раздраженно предлагаю я. – Продержится дольше.
Она краснеет под стать розам в руках и, запинаясь, извиняется.
Прочесть записку, прикрепленную к этой розе, я не удосуживаюсь и остаток урока не свожу глаз с доски, чтобы Кент не подал мне знаков. Я так старательно избегаю Кента, что почти пропускаю момент, когда мистер Даймлер подмигивает мне и улыбается.
Почти.
После урока Кент догоняет меня. В руках у него сливочно‑розовая роза, которую я нарочно оставила на парте.
– Ты забыла розу, – сообщает он; его волосы, как всегда, падают на один глаз. – Ну же, говори, не стесняйся: я забавный.
– Не забыла. – Я избегаю смотреть на него. – Она не нужна мне.
Украдкой я поглядываю на Кента и вижу, что его улыбка на мгновение блекнет. Затем она вновь сияет в полную силу, как лазерный луч.
– В смысле? – Он пытается всучить мне розу. – Разве ты не слышала, что чем больше роз получишь в День Купидона, тем выше котируешься?
– Вряд ли мне нужна помощь в этом отношении. Особенно от тебя.
Его улыбка окончательно вянет. Я ненавижу то, что делаю, но меня преследует воспоминание, или сон, или что это было: он наклоняется, и я воображаю, будто он собирается меня поцеловать, я уверена в этом, но он только шепчет: «Я вижу тебя насквозь».
«Ты не знаешь меня. Ты ничего обо мне не знаешь».
«Слава богу».
Я впиваюсь ногтями в ладони.
– Но с чего ты взяла, что эта роза от меня?
Его голос такой серьезный и тихий, что я вздрагиваю, уставившись в его ярко‑зеленые глаза. В детстве мама шутила, что Господь покрасил траву и глаза Кента одним цветом.
– Но это совершенно очевидно.
Хоть бы он перестал так смотреть. Он набирает побольше воздуха.
– Слушай. У меня сегодня вечеринка…
В столовую влетает Роб. В любой другой день я подождала бы, пока он заметит меня, но сегодня не могу, а потому кричу:
– Роб!
Оглянувшись, он лениво машет мне рукой и поворачивается обратно.
– Роб! Подожди!
Я лечу по коридору. Не бегу – мы с Линдси, Элли и Элоди много лет назад пообещали друг другу не бегать в школе, даже на уроках физкультуры (посмотрите правде в лицо: пот и одышка не слишком привлекательное зрелище), – но близко к тому.
– Не гони, Саммантуй. Где пожар?
Роб обнимает меня, и я зарываюсь носом в его флиску. Она немного пахнет старой пиццей – не самый лучший запах, особенно вперемешку с мелиссой, – но мне все равно. У меня так дрожат ноги, что я боюсь упасть. Вот бы стоять и держаться за Роба вечно.
– Я скучала по тебе, – признаюсь я его груди.
На мгновение его объятие становится крепче. Но когда он поднимает мое лицо за подбородок, на его губах блуждает улыбка.
– Ты получила мою валограмму? – спрашивает он.
– Спасибо, – киваю я.
У меня сжимается горло. Только бы не разреветься! В его объятиях так хорошо, как будто они моя единственная опора.
– Слушай, Роб. Насчет сегодняшнего вечера…
Лихорадочно думаю, как продолжить фразу, но он перебивает меня:
– Ладно. Что случилось?
Немного отстранившись, я смотрю на него.
– Я… хочу… просто я… сегодня все вверх дном. Наверное, я заболела или… или еще что‑нибудь.
Смеясь, он хватает меня за нос.
– Ну нет. Этот номер у тебя не пройдет. – Роб прижимается ко мне лбом и шепчет: – Я так давно мечтаю об этом.
– Знаю, я тоже…
Столько раз я воображала, как луна будет нырять среди деревьев, заглядывать в окна и высвечивать треугольники и квадраты на стенах; воображала прикосновение его флисового одеяла к обнаженной коже, когда я сниму одежду.
А еще я представляла, как Роб поцелует меня, когда все закончится, признается в любви и уснет с приоткрытым ртом, и я проберусь украдкой в ванную и напишу Элоди, Линдси и Элли эсэмэску: «Я сделала это».
Сложнее представить то, что будет происходить посередине.
В заднем кармане вибрирует телефон: новая эсэмэска. У меня екает сердце. Мне уже известно, что в ней написано.
– Ты прав. – Я обвиваю Роба руками. – Может, мне прийти сразу после школы? Проведем вместе весь день и всю ночь.
– Ты прелесть. – Роб отстраняется и поправляет рюкзак и кепку. – Но родители не уедут до ужина.
– Плевать. Посмотрим фильм или…
– К тому же, – Роб смотрит мне через плечо, – я слышал, что намечается вечеринка у… как там его… ну, парня в котелке. Кен?
– Кент, – машинально поправляю я.
Разумеется, Роб знает его имя – здесь все всех знают, – но это вопрос иерархии. Я вспоминаю, как сказала Кенту: «Странно, что я вообще помню, как тебя зовут», и мне становится дурно. Коридор наполняется голосами; люди снуют мимо нас с Робом. Я ощущаю их взгляды. Наверное, они надеются, что мы поссоримся.
– Точно, Кент. Может, загляну к нему ненадолго. Встретимся на месте?
– Ты правда хочешь пойти?
Я пытаюсь подавить нарастающую панику. Опускаю голову и смотрю на Роба снизу вверх, как Линдси смотрит на Патрика, когда ей по‑настоящему что‑то нужно.
– Мы же проведем меньше времени вместе.
– Времени нам хватит. – Роб целует свои пальцы и дважды касается моей щеки. – Можешь не сомневаться. Я хоть раз тебя подводил?
«Да, сегодня вечером». Я не успеваю отогнать предательскую мысль и слишком громко отвечаю:
– Нет.
Впрочем, Роб не слушает. К нам только что подошли Адам Маршалл и Джереми Форкер, и они наскакивают друг на друга и борются в знак приветствия. Иногда мне кажется, что Линдси права: парни действительно все равно что собаки.
Я достаю телефон, чтобы прочитать эсэмэску, хотя это совсем необязательно.
«Сегодня туса у Кента Макчудика. Идешь?»
Онемевшими пальцами я набираю: «Ясное дело».
Затем отправляюсь обедать; мне кажется, что гул трех сотен голосов сливается в настоящий ураган, который унесет меня куда‑то вверх, прочь отсюда.
Если я умру во сне
– Ну как? Нервничаешь?
Линдси поднимает ногу в воздух и вертит ею во все стороны, восхищаясь туфлями, которые только что тиснула из шкафа Элли.
В гостиной грохочет музыка. Элли и Элоди во всю глотку распевают «Like a Prayer», причем Элли вообще не попадает в ноты. Мы с Линдси валяемся на огромной кровати Элли. У нее в доме все на четверть крупнее, чем у нормальных людей: холодильник, кожаные кресла, телевизоры, даже бутыли с шампанским, которые ее отец хранит в винном погребе (руки прочь!). Линдси однажды призналась, что в доме Элли чувствует себя Алисой в Стране чудес.
Я устраиваюсь поудобнее на здоровенной подушке с надписью «Берегись сучки». Я уже выпила четыре порции в надежде, что это меня успокоит, и огни над головой мигают и расплываются. Мы приоткрыли окна, но все равно жарко.
– Не забывай дышать, – наставляет Линдси. – Не пугайся, если будет немного больно, особенно в самом начале. Не напрягайся, а то станет хуже.
Меня изрядно подташнивает, и от болтовни Линдси легче не становится. Весь день я не могла есть, так что умирала от голода, когда мы добрались до дома, и сожрала пару дюжин крекеров с песто и козьим сыром, которые соорудила Элли. Не уверена, что козий сыр хорошо сочетается с водкой. Кроме того, Линдси заставила меня съесть штук семь мятных пастилок «Листерин», потому что в песто есть чеснок и Робу якобы покажется, что он теряет девственность с итальянским поваром.
Из‑за Роба я не слишком переживаю – в смысле, не могу сосредоточиться на мыслях о нем. Вечеринка, поездка, ее возможные последствия – вот от чего на самом деле сводит живот. По крайней мере, водка помогла восстановить дыхание, и меня больше не трясет.
Конечно, я не могу открыться Линдси и потому говорю:
– Мне не страшно. В конце концов, все через это проходят. Если даже Анна Картулло смогла…
– Фу, – кривится Линдси. – Что бы вы ни делали, это не то, что делает Анна Картулло. Вы с Робом занимаетесь любовью.
Она изображает пальцами кавычки и хихикает, но я вижу, что она серьезно.
– Думаешь?
– Конечно. – Она наклоняет голову и смотрит на меня. – А ты?
Меня так и подмывает спросить: «Откуда ты знаешь, в чем разница?»
В фильмах всегда понятно, когда люди предназначены друг для друга, потому что нарастает фоновая музыка – глупо, зато верно. Линдси без конца повторяет, что жизни не представляет без Патрика. Может, положено чувствовать именно это?
Иногда, когда я стою среди толпы рядом с Робом и он обнимает меня за плечи и притягивает к себе, словно ограждая от толканий, пиханий и тому подобного, в животе разгорается пожар, как будто после бокала вина, и я совершенно счастлива. Наверняка это и есть любовь.
Наконец я отвечаю Линдси:
– Конечно.
Подруга снова хихикает и толкает меня локтем.
– Ну так как? Он набрался смелости и сказал это?
– Сказал что?
Она закатывает глаза.
– Что любит тебя.
Я молчу чуть дольше, чем следует, представив его карточку: «Лю тя». Такое пишешь в чужих ежегодниках, когда не можешь найти нужных слов.
– Скажет, куда он денется, – продолжает Линдси. – Все парни идиоты. Спорим, он признается сегодня ночью. Сразу после того, как вы…
Она умолкает и двигает бедрами. Я шлепаю ее подушкой.
– Кобель в юбке!
Линдси рычит и скалит зубы. Мы хохочем и минуту лежим в тишине, слушая, как Элоди и Элли воют в соседней комнате. Они перешли к «Total Eclipse of the Heart». Хорошо здесь: приятно и привычно. Я вспоминаю, сколько раз на этом самом месте мы ждали, пока Элоди и Элли соберутся. Ждали развлечений, чего‑нибудь новенького. Тикали часы, время утекало навсегда. Вдруг возникает желание отдельно прокрутить в голове каждый такой день, будто я верну их обратно, если воспроизведу все до единого.
– Ты нервничала? В смысле, в первый раз, – интересуюсь я тихо, поскольку немного смущена.
Судя по всему, вопрос застает Линдси врасплох. Она краснеет, теребит тесьму на покрывале, и на мгновение повисает неловкая пауза. Я догадываюсь о ее мыслях, но ни за что не озвучу их. Мы с Линдси, Элли и Элоди очень близки – ближе не бывает. Однако есть вещи, которые мы никогда не обсуждаем. Например, Линдси утверждает, что Патрик – ее первый и единственный, но технически это неверно. Технически ее первым был парень, которого она встретила на вечеринке, когда навещала своего сводного брата в Нью‑Йоркском университете. Они покурили травки, прикончили упаковку пива и занялись сексом. Он так и не узнал, что был у нее первым.
Мы не говорим об этом. Мы не говорим о том, что не можем оставаться у Элоди дома после пяти, потому что придет ее пьяная мать. Не говорим о том, что Элли никогда не ест больше четверти содержимого тарелки, хотя обожает готовить и часами смотрит кулинарный канал.
Мы не говорим о шутке, которая много лет преследовала меня в коридорах, классах и школьном автобусе и пробиралась даже в сны: «Угадайте, что такое: красно‑белое, чудное? Сэм Кингстон!», и уж тем более не говорим о том, что ее придумала Линдси.
Хороший друг хранит секреты. Лучший друг помогает хранить секреты.
Линдси перекатывается на бок и опирается на локоть. Интересно, она скажет о парне из Нью‑Йорка? (Мне неизвестно его имя; она упоминала о нем всего несколько раз и называла Одним Типом.)
– Я не нервничала, – тихо произносит она, глубоко вдыхая и расплываясь в улыбке. – Я желала его, детка. Алкала, – с фальшивым британским акцентом добавляет она, после чего запрыгивает на меня и изображает траханье.
– Ты невозможна!
Я отпихиваю ее в сторону, и она с гоготом скатывается с кровати.
– Ты любишь меня.
Встав на колени, Линдси сдувает челку с лица, наклоняется и опирается локтями на кровать. Внезапно она становится серьезной и тихонько окликает, распахнув глаза:
– Сэм!
Мне приходится сесть, чтобы расслышать сквозь музыку.
– Можно, я открою тебе секрет?
– Конечно.
У меня колотится сердце. Ей известно, что со мной происходит. С ней происходит то же самое.
– Пообещай держать язык за зубами. Поклянись, что не испугаешься.
Линдси знает, знает! Я не одинока. В голове проясняется, все вокруг становится более резким. Я моментально трезвею и с трудом выдавливаю:
– Клянусь.
Она наклоняется к самому уху.
– Я…
Повернув голову, она громко рыгает мне в лицо.
– Боже, Линдз! Да что с тобой?
Я размахиваю ладонью у себя перед носом. Она снова плюхается на спину, болтает ногами в воздухе и истерически хохочет.
– Ты бы видела свое лицо.
– Хоть когда‑нибудь ты бываешь серьезной? – в шутку спрашиваю я, хотя все мое тело тяжелеет от разочарования.
Она не знает. Не понимает. Что бы ни происходило, это происходит только со мной. Чувство полного одиночества окутывает меня подобно туману.
Промокнув уголки глаз большим пальцем, Линдси вскакивает на ноги.
– Буду серьезной, когда умру.
От этого слова я содрогаюсь. Умру. Такое окончательное, уродливое, короткое. Алкогольное тепло покидает мое тело, я замерзаю и наклоняюсь закрыть окно.
Разинутая черная пасть леса. Лицо Вики Халлинан…
Что со мной будет, если выяснится, что я действительно свихнулась? Перед восьмым уроком я стояла в десяти футах от главного офиса – там находятся кабинеты директора, мисс Винтерс и школьного психиатра – и убеждала себя переступить порог и сказать: «Кажется, я схожу с ума». Но дверь внезапно хлопнула, и в коридор вылетела Лорен Лорнет, хлюпая носом. Наверное, расстроилась из‑за несчастной любви или ссоры с родителями, в общем, чего‑то обычного. В эту секунду все мои усилия примириться с происходящим пошли прахом. Все изменилось. Я изменилась.
– Ну так что, мы идем? – грохочет Элоди, ворвавшись в комнату.
За ней Элли. Обе задыхаются.
– Вперед! – командует Линдси, перебрасывая сумочку через плечо.
– Еще только половина десятого, – хихикает Элли, – а у Сэм такой вид, будто ее уже тошнит.
Поднявшись, я мгновение жду, пока земля перестанет качаться под ногами.
– Все будет хорошо. Я в порядке.
– Врунья, – улыбается Линдси.
Вечеринка, дубль второй
– Напоминает начало фильма ужасов, – шепчет Элли. – Ты уверена, что номер дома – сорок два?
– Еще немного.
Мой голос словно доносится издалека. Страх снова навалился в полную силу, давит со всех сторон, мешает дышать.
– Хоть бы краска не попортилась, – ноет Линдси.
Ветка скребет по пассажирской дверце; звук такой, словно царапают ногтем по классной доске.
Лес расступается, и в темноте возникает дом Кента, белый и сверкающий, будто сделанный изо льда. Он появляется из ниоткуда, со всех сторон окруженный мраком, и я вспоминаю сцену из «Титаника», когда айсберг поднимается из воды и вспарывает кораблю брюхо. На секунду мы умолкаем. Крошечные капельки дождя стучат по ветровому стеклу и крыше; Линдси выключает айпод. По радио тихонько играет старая песня. Я с трудом разбираю слова: «Почувствуй то же, что прежде… Ласкай меня снова…»
– Размером он почти с твой дом, Эл, – замечает Линдси.
– Почти, – соглашается Элли.
Меня накрывает волна любви к ней. Элли, которая обожает большие дома, дорогие машины, украшения «Тиффани», туфли на платформе и блеск для тела. Элли, которая не слишком умна, и прекрасно это осознает, и гоняется за парнями, которые ее не стоят. Элли, которая втайне потрясающе готовит. Я знаю ее. Я понимаю ее. Я знаю их всех.
В доме из колонок ревут «Дуджиас»: «Все чтецы собрались в этом клубе, если рифмовать умеешь круто, держи микрофон». Лестница вращается под ногами. Уже наверху Линдси со смехом отнимает у меня бутылку.
– Притормози, алкашка. Забыла о своем важном деле?
– Важном деле? – похохатываю я. – А я думала, что собираюсь заняться любовью.
В помещении так накурено, что мне не хватает воздуха.
– Важном занятии любовью. – Она наклоняется, и ее лицо становится огромным, как луна. – Хватит пока водки, ладно?
Я машинально киваю, и огромное лицо удаляется. Линдси оглядывает комнату.
– Схожу поищу Патрика. Справишься без меня?
– Конечно.
Улыбнуться у меня не получается, лицевые мышцы отказываются подчиняться. Линдси отворачивается, и я хватаю ее за руку.
– Линдз?
– Да?
– Можно, я пойду с тобой?
Она пожимает плечами.
– Конечно. Как пожелаешь. Он где‑то в глубине дома – только что прислал эсэмэску.
Мы пробираемся сквозь толпу. Линдси кричит через плечо: «Здесь настоящий лабиринт». Все сливается в едином круговороте – обрывки фраз, смех, прикосновения чужих курток, запах пива и духов, геля для душа и пота.
Присутствующие выглядят как во сне: знакомыми, но не вполне четкими, словно в любую секунду могут превратиться в кого‑нибудь другого. Ну конечно, я сплю! Это всего лишь сон. Весь день – сон. Я проснусь и поведаю Линдси, что смотрела ужасно реалистичный и длинный сон. Она закатит глаза и возразит, что сны никогда не длятся дольше тридцати секунд.
Может, сообщить Линдси, что она всего лишь снится мне, а на самом деле ее нет? Она тянет меня за руку и нетерпеливо взмахивает волосами. Я хихикаю и начинаю успокаиваться. Это сон; я могу делать все, что заблагорассудится. Могу поцеловать кого угодно. Мы идем мимо кучки парней, и я мысленно ставлю галочки: Адам Маршалл, Рассан Лукас, Эндрю Робертс. Я могу поцеловать любого, если захочу. Кент в углу болтает с Фиби Райфер, и я думаю: «Можно подойти, поцеловать родинку в форме сердца у него под глазом, и ничего не случится». Не понимаю, с чего мне пришло это в голову. Я никогда не стала бы целоваться с Кентом, даже во сне. Но могла бы, если бы пожелала. Ведь сейчас я лежу под теплым одеялом на большой кровати в окружении подушек, сложив руки под головой, и сплю.
Я наклоняюсь сказать Линдси, что мне снится вчерашний день, а может, и вчерашний день тоже был сном, но тут вижу Бриджет Макгуир. Она стоит в углу, обняв Алекса Лимента за талию. Бриджет смеется, Алекс тычется носом в ее шею. Затем Бриджет поднимает глаза и видит, что я наблюдаю за ними. Она берет Алекса за руку и тащит ко мне, расталкивая собравшихся.
– Спросим у нее, – бросает Бриджет через плечо и улыбается мне; ее зубы такие белые, что даже светятся. – Миссис Харбор раздала сегодня темы сочинений?
– Что?
Я так растеряна, что не сразу соображаю: речь об уроке литературы.
– Темы сочинений. По «Макбету».
Она пихает Алекса, и тот поясняет:
– Я пропустил седьмой урок.
Мы встречаемся глазами, он отворачивается и делает большой глоток пива. Я молчу. Не знаю, как реагировать.
– Так раздала она темы или нет? – Бриджет ведет себя как обычно, напоминает щенка в ожидании угощения. – Алекс был вынужден прогулять. Ходил к врачу. Мама заставила его сделать какую‑то прививку от менингита. Правда, глупо? В смысле, в прошлом году от менингита умерли всего четыре человека. Больше шансов попасть под машину…
– Лучше бы сделал прививку от герпеса, – фыркает Линдси, но так тихо, что слышу только я. – Хотя, наверное, уже поздно.
– Не знаю, – отвечаю я Бриджет. – Я прогуляла.
И слежу за Алексом в ожидании реакции. Интересно, он заметил, как мы с Линдси заглядывали в окна «Хунань китчен»? Вряд ли.
Они с Анной сидели над кусочками сероватого мяса, стывшего в пластмассовой миске. Так я и думала. Линдси хотела зайти и позлить их, но я пригрозила, что меня вырвет на ее новые сапоги «Стив Мэдден» от одного только запаха несвежего мяса и лука.
Когда мы вышли из «Лучшего деревенского йогурта», Алекса и Анны уже не было. Потом мы встретили их в Курительном салоне. Они прощались, когда Линдси еще только прикуривала. Алекс чмокнул Анну в щеку, и они направились в разные стороны: Алекс в столовую, Анна в корпус искусств.
Они расстались задолго до того, как мы с Линдси встретили Никотиновую Фашистку. Сегодня их не застукали.
И Бриджет неизвестно, где на самом деле был Алекс во время седьмого урока.
Внезапно кусочки мозаики встают на места – все страхи, которые я подавляла, – один за другим, как падающие костяшки домино. Больше не могу отрицать очевидное. Сара Грундель заняла место на парковке, поскольку мы опоздали, и все еще участвует в полуфиналах. Анна и Алекс не поссорились, потому что я убедила Линдси не вмешиваться. Вот почему их не застукали в Курительном салоне и вот почему Бриджет висит на Алексе, а не плачет в ванной.
Это не сон. И не дежавю.
Это происходит на самом деле. Происходит снова.
Мое тело обращается в лед. Бриджет хвастается, что никогда не прогуливала уроки, Линдси кивает со скучающим видом, Алекс пьет пиво. А мне не хватает воздуха – ужас сжимает тисками, и мне кажется, что я разлечусь на тысячу осколков прямо здесь и сейчас. Я хочу сесть и опустить голову между коленей, но боюсь, что если пошевелюсь или закрою глаза, то сразу начну распадаться – голова отвалится от шеи, шея от плеч… и я уплыву в никуда.
Череп отделен от шейного позвонка, шейный позвонок отделен от позвоночника…
Из‑за спины меня обнимает Роб и прижимается губами к шее. Но даже он не может меня согреть. Я не в силах унять дрожь.
– Красотка Сэмми! – напевает он, разворачивая меня к себе. – Где ты была всю мою жизнь?
– Роб. – Странно, что я еще не утратила дар речи. – Нам надо поговорить.
– Что такое, детка?
Его глаза мутные и налитые кровью. Возможно, из‑за страха мир становится резче, чем когда‑либо прежде. Я впервые замечаю, что шрам в форме полумесяца под носом делает Роба немного похожим на быка.
– Здесь нельзя. Давай… давай куда‑нибудь уйдем. Например, в комнату. Куда‑нибудь, где никого нет.
Конец ознакомительного фрагмента – скачать книгу легально
Библиотека электронных книг "Семь Книг" - admin@7books.ru