
Разведка и Кремль. Воспоминания опасного свидетеля | Павел Судоплатов
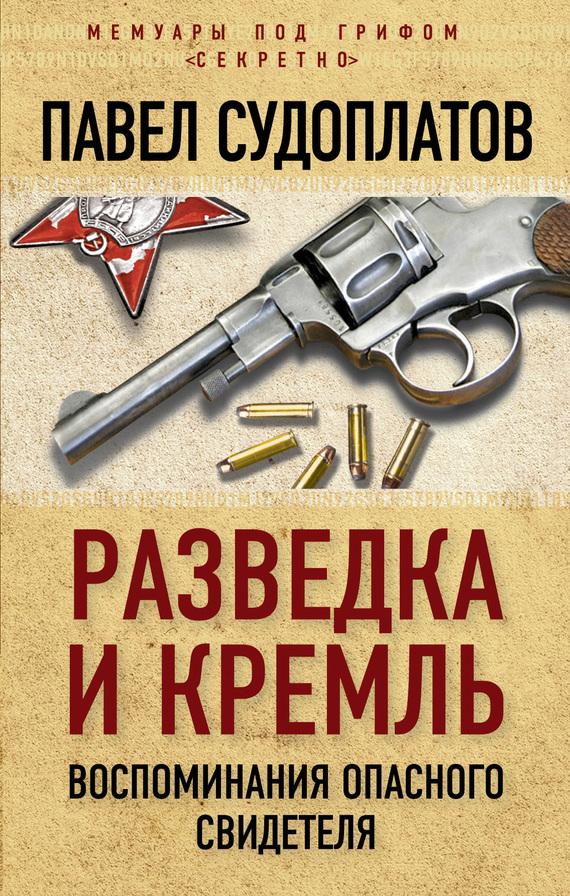
Павел Анатольевич Судоплатов
Разведка и Кремль. Воспоминания опасного свидетеля
Мемуары под грифом «секретно»
Хотим мы того или не хотим, но проходит время, и то, что еще вчера было Великой Государственной Тайной, теряет свою исключительность и секретность в силу крутых поворотов в истории государства и становится общим достоянием – было бы желание знать правду.
Судьба распорядилась так, что к моменту завершения этой книги я, один из руководителей самостоятельных центров военной и внешнеполитической разведки Советского Союза, остался единственным свидетелем противоборства спецслужб и зигзагов во внутренней и внешней политике Кремля в период 1930–1950 годов.
Несмотря на репрессии в довоенные и послевоенные годы, мне, находившемуся в заключении 15 лет, в силу причудливого стечения обстоятельств и несомненного везения, удалось выжить и записать ряд воспоминаний, связанных с противоречивым и трагическим развитием событий того времени.
Дела разведки и контрразведки никогда не были в почете у руководящих кругов России. Однако при тоталитарном правлении они порой приобретали существенное значение в действиях властей. Собственная популярность меня как профессионала занимает меньше всего, но после распада СССР, как мне представляется, прежде всего в силу беспринципной грызни и борьбы за власть в стране, я считаю своим долгом рассказать людям правду о том, что было на самом деле в 30– 50‑е годы, чтобы они поняли логику трагических и героических событий в истории нашей Родины. Мотивы преступных репрессий, в которых повинны руководство страны и органы безопасности, были связаны не только с личными амбициями Сталина и других «вождей», но и с той борьбой за власть, которая постоянно шла внутри их окружения. Эту борьбу всегда умело прикрывали громкими лозунгами – «борьба с уклонами» в правящей партии «ускоренного строительства коммунизма», «борьба с врагами народа», «борьба с космополитами», «перестройка». А в итоге жертвами всех этих кампаний всегда оказывались миллионы ни в чем не повинных людей.
Для меня это основная тема книги. Уверен, она очень расходится с мифом о побудительных мотивах действий так называемых «консервативных» или «демократических» кругов бывшего кремлевского руководства.
Я считаю необходимым также обратить внимание на то, что мои воспоминания ни в коей мере не претендуют на роль научно‑исторического повествования. Это субъективный взгляд очевидца на то, как работали механизмы, приводившие в действие политическую машину СССР, как удалось создать ценой колоссальных жертв могущественное государство, в известной мере определившее развитие мировых событий в 30‑е и 50‑е годы, ставшее сверхдержавой, державшее в страхе не только своих граждан, но и весь мир. Его сила была в ликвидации нищеты и разрухи, охвативших страну после гражданской войны, в глубокой вере в правоту великой социальной революции XX века. Именно поэтому, симпатизируя СССР, его напрямую и косвенно поддерживали великие умы современного мира – Нильс Бор, Энрико Ферми, Роберт Оппенгеймер, Альберт Эйнштейн и другие.
В жестоком противоборстве СССР и западного мира заложена главная причина взаимной нетерпимости во всех событиях внутренней и внешней политики нашей страны.
У меня нет никаких сомнений, как бы это ни оспаривали сегодня, что правящие круги Запада не только ненавидели наше государство, но и на всем протяжении его истории делали все, что было в силах, для его гибели. Вынужденный союз США, Англии и СССР в борьбе с гитлеризмом в годы войны также не был передышкой в их противоборстве. «Холодная война» продолжалась, просто быстрое поражение СССР в борьбе с Германией было невыгодно Западу, опасавшемуся за свое мировое господство. Вплоть до декабря 1991 года делалось все для ослабления СССР. И сейчас мы испытываем мучительные переживания в связи с переходом в новую стадию противоборства и сотрудничества со странами Запада, которые все равно будут базироваться на исторической роли России как одной из сверхдержав современности. Однако сейчас, в отличие от прошлых лет, речь не идет о выживании нашего государства.
Наследие СССР надежно гарантирует допустимые повороты и зигзаги, делает нас мощным партнером в переговорах на международной арене. Конечно, внутренняя нестабильность в стране, провалы в экономической политике неизбежно заставляют правящие круги и ныне – в который раз – возлагать ответственность за допущенные ошибки на прошлое руководство. Отсюда постоянная неприязнь, перерастающая порой в ненависть к тем, кто своей реальной работой внес вклад в тот базис современного развития, который остается до сих пор несокрушимым фактором гордости и престижа Родины.
Соблюдая военную присягу, я молчал, пока существовал Советский Союз. Когда деятельность советской разведки и ряд аспектов внешней политики СССР перестали быть секретными после известных событий 1991 года, и все то, чему я верно служил, перестало существовать, я не мог и не имел права дальше молчать. К сожалению, у меня не было иного выхода, как издать воспоминания первоначально на Западе, так как отечественные издатели намерены были их опубликовать только после консультации в «компетентных инстанциях». Я искренне благодарен Дж. и Л. Шехтерам, которые сделали литературную запись моих воспоминаний и помогли им увидеть свет.
В создании настоящей книги мне оказали большую поддержку мои боевые товарищи, с которыми я делил все трудности нашей сложной и опасной работы. Считаю своим долгом особо поблагодарить за моральную помощь в издании этой книги бывшего начальника советской внешней разведки Л.В. Шебаршина, ветеранов органов госбезопасности С.А. Ананьина, П.И. Массю, А.Н. Рылова, И.А. Щорса, Ю.А. Колесникова, З.В. Зарубину, А.Ф. Камаеву‑Филоненко, писателя – публициста К.А. Столярова.
Глава 1
Боевое крещение
Я родился в 1907 году на Украине, в городе Мелитополе, расположенном в богатом фруктами регионе и в то время насчитывавшем около двадцати тысяч жителей. Мать у меня русская, а украинцем был мой отец – разнорабочий, пекарь, булочник, повар, официант. Как и всех детей – а нас в семье было пятеро, – меня крестили в русской православной церкви на день Петра и Павла. Мое начальное образование включало в себя изучение Нового и Ветхого Завета и основ русского языка, поскольку в царское время преподавание украинского в школах запрещалось. Пользовались им лишь в качестве разговорного. До десяти лет, пока не умер отец, у меня было самое обычное детство. После его смерти заботы о семье легли на плечи матери и старшей сестры. В год смерти отца произошла революция, власть взяли большевики.
Поначалу жизнь в городе мало в чем изменилась, и все текло по‑заведенному. Однако, как только подошли к концу запасы продовольствия, начался хаос, сопровождавшийся бандитским террором. У нашей семьи не было никакой собственности, мы арендовали двухкомнатную квартиру в маленьком одноэтажном доме, принадлежавшем домовладельцу Хроленко. Мое восприятие событий того времени можно считать типичным для семей с низким достатком, которым нечего было терять. Вполне естественно, я всей душой поверил, прочтя написанную Бухариным «Азбуку революции», что общественная собственность будет означать построение справедливого общества, где все будут равны, а страной будут управлять представители крестьянства и рабочего класса в интересах простых людей, а не помещиков и капиталистов.
Мой старший брат Николай вступил в Красную Армию в 1918 году – через два года он стал бойцом в отряде ЧК. За год до этого, в двенадцатилетнем возрасте, я убежал из дому и присоединился к красноармейскому полку, который вскоре был вынужден покинуть Мелитополь. Наш полк разгромили белые, и лишь небольшим группам бойцов удалось влиться в подразделения 44‑й стрелковой дивизии Красной Армии в районе Киева. Поскольку к тому времени я уже окончил начальную школу и умел читать, меня определили в роту связи. Позднее я принимал участие в боях под Киевом. В 1921 году, когда мне исполнилось четырнадцать, сотрудники Особого отдела дивизии попали в засаду, устроенную украинскими националистами, и многие из них погибли. В то время мы сражались в основном не с белогвардейцами, а с войсками украинских националистов, предводительствуемыми Петлюрой и Коновальцем, командиром корпуса «Сечевые стрельцы». Когда началась гражданская война, украинские националисты провозгласили независимую республику и в январе 1919 официально года объявили войну России и украинскому большевистскому руководству. (В 30‑х, а затем еще раз в 40‑х годах я также принимал непосредственное участие в борьбе с украинскими националистами.) Борьба эта фактически завершилась лишь в январе 1992 года, после того как украинское правительство в изгнании и весь остальной мир признали президента Кравчука законным главой суверенного государства Украина.
В Особом отделе, понесшем тяжелые потери, срочно потребовался телефонист и шифровальщик. Так я был послан на работу в органы безопасности. Это и было началом моей службы в ВЧК‑КГБ.
В дивизии, где я служил, вместе с нами сражались поляки, австрийцы, немцы, сербы и даже китайцы. Последние были очень дисциплинированны и дрались до последней капли крови. Борьба шла жестокая, и случалось, что целые деревни оказывались уничтоженными украинскими националистами и бандформированиями: всего в ходе гражданской войны на Украине погибло свыше миллиона человек. Мое поколение вскоре привыкло к жестокостям этой войны, потерям и лишениям. Мы считали все это вполне естественным. В состоянии войны страна находилась с 1914 года, и трагедия России заключалась в том, что до самого конца гражданской войны, то есть до 1922 года, создать стабильное общество, опирающееся на нормальные, гуманные ценности, не представлялось возможным.
Опыт, приобретенный при выполнении обязанностей телефониста, а затем шифровальщика, оказался полезным. Я печатал документы с грифом ««секретно», посылавшиеся командованию, и расшифровывал телеграммы, которые мы получали непосредственно от главы ВЧК Феликса Дзержинского из Москвы.
1921 год стал переломным в моей жизни. Дивизия была переведена в Житомир. Главной задачей нашего Особого отдела была помощь местному ЧК в проникновении в партизанское подполье украинских националистов, руководимых Петлюрой и Коновальцем. Их вооруженные банды устраивали диверсии против органов Советской власти на местах. Возглавлявшим ЧК Погажевичу и Савину удалось установить диалог с партизанскими руководителями и провести с ними неофициальные переговоры. Мое руководство встретилось с ними в Житомире на явочной квартире. Я как младший сотрудник на подхвате должен был проживать в доме, где находилась явочная квартира, и обслуживать переговоры. Опыт общения с главарями формирований украинских националистов, являвшимися, по существу, настоящими хозяевами в своей округе, помог мне в дальнейшем, когда я стал оперативным работником госбезопасности. На своей собственной шкуре испытал я, каково иметь дело с заговорами в подполье.
Война с украинскими националистами продолжалась почти два года и закончилась компромиссом – их главари приняли амнистию, которую дало им правительство Советской Украины. Произошло это лишь после того, как кавалерийский отряд в две тысячи сабель, посланный Коновальцем в Житомир, был окружен частями Красной Армии и сдался. Банда Коновальца потерпела сокрушительное поражение. В этих боях погиб мой старший брат Николай, служивший в погранвойсках на польской границе. Я же подал рапорт о переводе в Мелитополь, чтобы быть поближе к семье и иметь возможность помогать ей.
В течение последних трех лет пребывания в Мелитополе я был младшим оперативным работником в окружном отделе ГПУ и отвечал за работу осведомителей, действовавших в греческом, болгарском и немецком поселениях. В 1927 годуя получил повышение и был переведен в Харьков, тогдашнюю столицу Украины, где стал работать в ГПУ УССР. Именно там, в Харькове, я встретился со своей будущей женой, Эммой Кагановой: мне было двадцать, ей на два года больше – она приехала на Украину из белорусского города Гомеля.
Эмма была способной, и ей удалось поступить в гимназию, где для евреев существовала ограничительная норма. Она окончила несколько классов гимназии и позднее стала работать секретарем‑машинисткой у Хатаевича, секретаря гомельской губернской организации большевиков. Когда ее начальника перевели в Одессу, где он возглавил партийную организацию, она последовала за ним. Именно в Одессе Эмма и перешла в местное ГПУ. Ей поручили вести работу среди проживавших в городе немецких колонистов. Голубоглазая блондинка, она говорила на близком к немецкому идише и вполне могла сойти за немку.
В Харьков ее перевели за год до того, как я туда перебрался. Эмма занимала в ГПУ УССР более весомое положение, чем такой новичок, каким я тогда был. Как образованной и привлекательной женщине, к тому же начитанной и чувствовавшей себя вполне свободно в обществе писателей и поэтов, ей доверили руководить деятельностью осведомителей в среде украинской творческой интеллигенции – писателей и театральных деятелей. Мы встретились с ней на службе, и меня поразили ее красота и ум. Отец Эммы, сплавщик леса, умер, когда ей было всего десять лет. Она начала работать и одна содержала всю семью, где было восемь детей. Так что у нас с Эммой было много общего: и я, и она являлись опорой для семьи и должны были в силу обстоятельств рано повзрослеть.
Несмотря на то, что вся наша жизнь была заполнена работой, жена побудила меня заняться изучением права в Харьковском университете. Но мне, правда, удалось побывать всего на десяти лекциях и сдать один экзамен – по экономической географии. На большее у меня просто не хватило времени. Мой рабочий день начинался в десять часов утра и заканчивался в шесть вечера с коротким перерывом на обед. После этого начинались встречи с осведомителями на явочных квартирах. Они продолжались с половины восьмого вечера до одиннадцати. Затем я возвращался на службу, чтобы доложить начальству о полученных мною оперативных материалах.
По ленинскому декрету от 1922 года ГПУ должен был стать основным источником информации для всех уровней советского руководства. Еще и сегодня руководство страны получает ежемесячные доклады о положении в государстве от органов госбезопасности по линии их агентуры. Подобного рода доклад включает изложение внутренних трудностей и недостатков в работе различных организаций, предприятий и учреждений. По заведенному при Сталине порядку встречаться со своим осведомителем в дневное время было не положено. Вот почему мы встречались по вечерам. Было известно, что Сталин засиживается допоздна, и мы работали в таком же режиме.
По иронии судьбы отделение информации нашего отдела возглавлял бывший царский офицер Козельский, происходивший из обедневшей дворянской семьи. Хотя этот человек и служил в царской армии, его симпатии к большевикам, проявившиеся в годы революции, позволили ему завоевать наше доверие. В 1937 году он покончил самоубийством, чтобы избежать ареста во время кампании чисток…
Для меня Эмма была идеалом настоящей женщины, и в 1928 году мы поженились, хотя официально зарегистрировали наш брак лишь в 1951 году. Так жили многие из моих товарищей, годами не оформляя своего брака.
Между тем работа шла своим чередом, и я получил новое – весьма необычное, но весьма важное – задание, которое совместно контролировалось руководителями ОГПУ и партийными органами. Моя новая должность называлась комиссар спецколонии в Прилуках для беспризорных детей. После гражданской войны подобного рода колонии ставили своей целью покончить с беспризорностью детей‑сирот, которых голод и невыносимые условия жизни вынуждали становиться на путь преступности. На содержание этих колоний каждый чекист должен был отчислять десять процентов своей заработной платы. При них создавались мастерские и группы профессиональной подготовки: трудовой деятельности ребят придавалось тогда решающее значение. Завоевав доверие колонистов, мне удалось организовать фабрику огнетушителей, которая вскоре начала приносить доход.
Благодаря положению моей жены в украинских партийных кругах я дважды встречался с Косиором, тогдашним секретарем ЦК Коммунистической партии Украины. Эти встречи проходили на квартире Хатаевича, куда нас приглашали в качестве гостей. Особое впечатление на меня производило то, как оба руководителя смотрели на будущее Украины. Экономические проблемы и трагедию коллективизации они рассматривали как временные трудности, которые следует преодолевать всеми возможными средствами. По их словам, необходимо было воспитать новое поколение, абсолютно преданное делу коммунизма и свободное от всяких обязательств перед старой моралью. Наибольшее внимание следовало уделять развитию и поддержке новой украинской интеллигенции, враждебно относящейся к националистическим идеям. Потребовались еще шестьдесят лет и развал Советского Союза, чтобы стало очевидным: нужно было проявить по крайней мере терпимость и постараться понять противную сторону, а не стремиться во что бы то ни стало ее уничтожить.
Нам с женой льстило, что такие люди как Косиор и Хатаевич разговаривают с нами как со своими товарищами по партии, хотя оба мы были тогда комсомольцами. Кандидатами в члены партии мы стали позднее.
В 1933 году глава украинского ГПУ Балицкий был назначен заместителем председателя общесоюзного ОГПУ. Переезжая в Москву на новую работу, он взял с собой нескольких сотрудников, в том числе и меня. Я получил в управлении кадров центрального аппарата госбезопасности должность старшего инспектора, курировавшего перемещения по службе и новые назначения в Иностранном отделе (закордонной разведке) ОГПУ.
В то время я начал часто сталкиваться по работе с Артузовым, тогдашним начальником Иностранного отдела, и его заместителем Слуцким. В 1933 году Кулинич, офицер, отвечавшая за оперативное наблюдение и борьбу с украинской эмиграцией на Западе, подала рапорт об отставке по состоянию здоровья. Узнав, что я родом с Украины и имею опыт работы в местных условиях, Артузов предложил эту должность мне. К тому времени Эмма также перевелась в Москву и получила назначение в Секретно‑политический отдел. С 1934 года в ее обязанности входила работа с сетью осведомителей в только что созданном Союзе писателей и в среде творческой интеллигенции.
После трагического убийства советского дипломата Майлова во Львове, совершенного террористом ОУН Лемеком в 1934 году, председатель ОГПУ Менжинский издал приказ о разработке плана действий по нейтрализации террористических акций украинских националистов. Украинское ГПУ сообщило, что ему удалось внедрить в подпольную военную организацию украинских националистов в изгнании (ОУН) своего проверенного агента – Лебедя. Это было крупным достижением.
Слуцкий, к тому времени начальник Иностранного отдела, предложил мне стать сотрудником‑нелегалом, работающим за рубежом. Сначала это показалось мне нереальным, поскольку опыта работы за границей у меня не было, и я ничего не знал об условиях жизни на Западе. К тому же мои знания немецкого, который должен был мне понадобиться в Германии и Польше, где предстояло работать, равнялись нулю.
Однако чем больше я думал об этом предложении, тем более заманчивым оно мне представлялось. И я согласился. После чего сразу приступил к интенсивному изучению немецкого языка – занятия проходили на явочной квартире пять раз в неделю. Опытные инструкторы обучали меня также приемам рукопашного боя и владению оружием. Исключительно полезными для меня были встречи с заместителем начальника Иностранного отдела ОГПУ – НКВД Шпигельгласом. У него был большой опыт работы за границей в качестве нелегала – в Китае и Западной Европе. В начале 30‑х годов в Париже «крышей» ему служил рыбный магазин, специализировавшийся на продаже омаров, расположенный возле Монмартра.
После восьми месяцев обучения я был готов отправиться в свою первую зарубежную командировку в сопровождении Лебедя, «главного представителя» ОУН на Украине, а в действительности нашего тайного агента на протяжении многих лет. Лебедь с 1913 по 1918 год просидел вместе с Коновальцем в лагере для военнопленных под Царицыным. В гражданскую войну он стал заместителем Коновальца и командовал пехотной дивизией, сражавшейся против частей Красной Армии на Украине. После отступления Коновальца в Польшу в 1920 году Лебедь был направлен им на Украину для организации подпольной сети ОУН. Но там его арестовали. Выбор перед ним был простой: или работать на нас, или умереть.
Лебедь стал для нас ключевой фигурой в борьбе с бандитизмом на Украине в 20‑х годах. Его репутация в националистических кругах за рубежом оставалась по‑прежнему высокой: Коновалец рассматривал своего представителя как человека, способного провести подготовительную работу для захвата власти ОУН в Киеве в случае войны. От Лебедя, которому мы разрешали выезжать на Запад в 20‑х и 30‑х годах по нелегальным каналам, нам и стало известно, что Коновалец лелеял планы захвата Украины в будущей войне. В Берлине Лебедь встречался с полковником Александером, предшественником адмирала Вильгельма Канариса на посту руководителя германской разведслужбы в начале 30‑х годов, и узнал от него, что Коновалец дважды виделся с Гитлером, который предложил, чтобы несколько сторонников Коновальца прошли курс обучения в нацистской партийной школе в Лейпциге.
Я ехал за границу как «племянник» Лебедя, якобы для помощи в его работе. Моя жена была переведена в Иностранный отдел НКВД для того, чтобы через нее я мог поддерживать связь с Центром. Она должна была выступать в роли студентки из Женевы, что позволило ей время от времени встречаться с агентами в Западной Европе. С этой целью она прошла специальный курс.
Лебедь не знал о том, что на нас работает еще один агент, Полуведько, главный представитель Коновальца в Финляндии. Он жил по фальшивому паспорту в Хельсинки, организуя контакты между украинскими националистами в изгнании и их подпольной организацией в Ленинграде. Оуновцы прятали свои архивы в Ленинграде, в знаменитой библиотеке имени Салтыкова‑Щедрина. Хотя мы и знали это, обнаружить архивы удалось лишь после окончания второй мировой войны, в 1949 году.
Я выехал в Хельсинки в сопровождении Лебедя. Лебедь передал меня на попечение Полуведько и тут же возвратился в Харьков через Москву. Полуведько, ничего не знавший о моей истинной работе, регулярно посылал обо мне отчеты в НКВД через Зою Воскресенскую‑Рыбкину, отвечавшую за связь с ним. Мне надо было дать Центру знать, что со мной все в порядке, и, как условились заранее, я написал записку своей «девушке», а затем порвал ее и бросил в корзинку для бумаг. Выступив в роли моего невольного помощника, Полуведько собрал обрывки и передал их Зое. А на каком‑то этапе Полуведько вообще предложил меня убрать, о чем сообщал в одном из своих донесений, но, к счастью, решение этого вопроса зависело не от него. В Финляндии (а позднее и в Германии) я жил весьма скудно: у меня не было карманных денег, и я постоянно ходил голодный. Полуведько выделял мне всего десять финских марок в день, а их едва хватало на обед – при этом одну монетку надо было оставлять на вечер для газового счетчика, иначе не работали отопление и газовая плита. На тайных встречах между нами, расписание которых было определено перед моим отъездом из Москвы, Зоя Рыбкина и ее муж Борис Рыбкин, резидент в Финляндии, руководивший моей разведдеятельностью в этой стране, приносили бутерброды и шоколад. Перед уходом они просматривали содержимое моих карманов, чтобы убедиться, что я не взял с собой никакой еды: ведь это могло провалить нашу ««игру».
После двух месяцев ожидания в Хельсинки прибыли связные от Коновальца – Грибивский (««Канцлер») из Праги и Андриевский из Брюсселя. Мы отправились в Стокгольм пароходом.
При посадке мне вручили фальшивый литовский паспорт. Когда прибыли в Стокгольм, всех пассажиров собрали в столовой, и официант начал раздавать прошедшие пограничный контроль паспорта. Поначалу он отказался вернуть мне мой паспорт, заявив, что фото явно не соответствует оригиналу. Действительно, паспорт был на имя Сциборского, члена Центрального руководства ОУН, украинского активиста, с его фотографией. К счастью, тут вмешался возмущенный Полуведько, пригрозивший официанту и заставивший его вернуть мне документ. После недели пребывания в Стокгольме мы отправились в Германию, где никаких неприятностей с тем же паспортом у меня уже не было. В июне 1936 года прибыли в Берлин, и там я встретился с Коновальцем, который расспрашивал меня обо всем с большим пристрастием. Наша встреча проходила на квартире, находившейся в здании музея этнографии и предоставленной ему германской разведслужбой. В сентябре меня послали на три месяца в нацистскую школу в Лейпциге. Во время учебы я имел возможность познакомиться с оуновским руководством. Слушателей школы, естественно, интересовала моя личность. Однако никаких проблем с моей «легендой» не возникало.
Мои беседы с Коновальцем становились между тем все серьезнее. В его планы входила подготовка административных органов для ряда областей Украины, которые предполагалось освободить в ближайшем будущем, причем украинские националисты должны были выступать в союзе с немцами. Я узнал, что в их распоряжении уже имеются две бригады, в общей сложности около двух тысяч человек, которые предполагалось использовать в качестве полицейских сил в Галиции (части Западной Украины, входившей тогда в Польшу) и в Германии.
Оуновцы всячески пытались вовлечь меня в борьбу за власть, которая шла между двумя их главными группировками: «стариков» и «молодежи». Первых представляли Коновалец и его заместитель Мельник, а «молодежь» возглавляли Бандера и Костарев. Моей главной задачей было убедить их в том, что террористическая деятельность на Украине не имеет никаких шансов на успех, что власти немедленно разгромят небольшие очаги сопротивления. Я настаивал на том, что надо держать наши силы и подпольную сеть в резерве, пока не начнется война между Германией и Советским Союзом, а в этом случае немедленно их использовать.
Особенно тревожили террористические связи этой организации, в частности, договоренность с хорватскими националистами и участие в убийстве югославского короля Александра и министра иностранных дел Франции Луи Барту. Для меня было открытием, что все эти террористы финансируются абвером – разведывательной и контрразведывательной службой вермахта. Полной неожиданностью явилась для меня и новость, что убийство польского министра генерала Перацкого в 1934 году украинским террористом Мацейко было проведено вопреки приказу Коновальца, и стоял за этим Бандера, соперничавший с последним за власть. Бандера стремился к контролю над организацией, играя на естественной неприязни украинцев к Перацкому, который нес ответственность за репрессии против украинского меньшинства в Польше. Коновалец рассказал мне, что к этому времени между Польшей и Германией был подписан договор о дружбе, так что немцев никоим образом не устраивали любые враждебные акции по отношению к полякам. Они были так взбешены, что выдали Бандеру, скрывавшегося в Германии. Убийца генерала, Мацейко, сумел скрыться.
Дело обстояло следующим образом. Мацейко планировал убить Перацкого, взорвав гранату, но она по каким‑то причинам не взорвалась, и он застрелил польского министра. За ним тут же бросилась толпа людей. Мацейко сумел проскочить перед идущим трамваем, который отсек его от преследователей, забежал в подъезд первого же дома, поднялся на площадку 7‑го этажа, там сбросил плащ и шляпу, выкинул револьвер и, неузнанный, спокойно вышел на улицу. Польская контрразведка установила засаду на всех явочных квартирах украинских националистов в Варшаве, но он не появился ни на одной из них. Ночь он провел со своей подружкой, тоже украинской террористкой Чемеринекой. Именно она организовала его побег через Карпаты в Чехословакию, использовав свои связи в чешской полиции.
В Чехословакии ОУН имела мощную поддержку со стороны властей. У президента Бенеша были с Коновальцем личные отношения еще со времен первой мировой войны. Однако, когда ОУН «вышла из‑под контроля» властей и осуществила убийство Перацкого, эти отношения ухудшились.
Несмотря на эмоциональное выступление Бандеры на суде в защиту дела украинского национализма, он и другие организаторы были приговорены к смертной казни через повешение. Однако давление Германии на польские власти в конце концов спасло им жизнь. Смертный приговор заменили тюрьмой. Немцы после захвата Польши тут же выпустили Бандеру на свободу. И между двумя группировками украинских националистов закипела кровавая междоусобная война.
В общении со своими коллегами по нацистской партийной школе я держался абсолютно уверенно и независимо: ведь я представлял головную часть их подпольной организации на Украине, в то время как они являлись всего лишь эмигрантами, существовавшими на немецкие подачки. Я имел право накладывать вето на их предложения, поскольку выполнял инструкции своего «дяди» («вуйко»). Если что‑то в их высказываниях мне не нравилось, достаточно было просто сказать: «Вуйко не велел!».
Именно таким образом я отверг предложение о моей встрече с полковником Лахузеном из штаб‑квартиры абвера. Вступать в прямые контакты с германской разведкой было бы рискованно, так как немцы могли попытаться принудить меня к сотрудничеству. Снова и снова приходилось мне повторять свои возражения по поводу встречи с кем‑либо из абвера.
Однажды, когда мы гуляли с Коновальцем, к нам подошел уличный фотограф и сфотографировал нас, передав пленку Коновальцу, заплатившему за это две марки. Я возмутился. Было ясно, что мое берлинское окружение хочет иметь фотографию в своем досье, чтобы потом, когда им понадобится, они могли разыскать меня. Тогда же, на улице, я выразил свой недвусмысленный протест Коновальцу. Было бы непростительной ошибкой, если такая фотография оказалась бы в руках у немцев, заявил я ему, нисколько не сомневаясь, что именно это и было его истинной целью. Коновалец попытался как‑то меня успокоить. По его словам, не было ничего предосудительного в том, что какой‑то уличный фотограф, зарабатывающий себе на жизнь, сфотографировал нас вдвоем, прогуливающимися по берлинской улице.
Позднее я убедился, что был прав. В годы войны СМЕРШ захватил двух лазутчиков в Западной Украине, у одного из них была эта фотография. Когда его спросили, зачем она ему нужна, он ответил: «Я не имею понятия, кто этот человек, но мы получили приказ ликвидировать его, если обнаружим».
Я сумел войти в доверие к Коновальцу, передав ему содержимое одного конфиденциального разговора. Как‑то Костарев и еще несколько молодых украинских националистов, слушателей нацистской партийной школы, стали говорить, что Коновалец слишком стар, чтобы руководить организацией, и его следует использовать лишь в качестве декоративной фигуры. Когда они спросили мое мнение, я возмущенно ответил:
– Да кто вы такие, чтобы предлагать подобное? Наша организация не только полностью доверяет Коновальцу, но и регулярно получает от него поддержку, а о вас до моего приезда сюда мы вообще ничего не слышали.
Когда я рассказал об этом Коновальцу, лицо его побледнело. Позже Костарев был уничтожен. Не думаю, что это случайное совпадение.
В Центре было решено, что, как только я прибуду в Германию, мне следует проявлять полную самостоятельность и не поддерживать никаких контактов ни с нашей резидентурой, ни с нелегалами. Коновалец взял меня под свою опеку и частенько навещал: мы вдвоем бродили по городу. Однажды он даже повел меня на спектакль в Берлинскую оперу, но в целом развлечений в моей жизни там было не так уж много. Украинская община была очень бедной, и о том, чтобы позволить себе какую‑либо роскошь, не могло быть и речи. Если вас приглашали на чай, то сахар принято было приносить с собой. Украинцы, с которыми я общался, наивно полагали, что могут помочь финансировать ОУН за счет доходов какой‑нибудь гуталиновой фабрики, которой владели их родственники в Польше. Они буквально жаждали войны Германии с Польшей и СССР как освобождения из‑под ига «национального угнетения».
Коновалец привязался ко мне и даже предложил, чтобы я сопровождал его в инспекционной поездке в Париж и Вену с целью проверки положения дел в украинских эмигрантских кругах, поддерживавших его. У него были деньги, полученные от немцев, и это позволяло ему играть роль лидера могущественной организации.
В Париже мы остановились в разных отелях. Во время нашего пребывания в городе проходила всеобщая забастовка, и все рестораны оказались закрытыми, так что Коновалец повез меня обедать в… Версаль. Не работало и метро, и нам пришлось взять такси, кстати, весьма дорогое. Я был под огромным впечатлением от Парижа и остаюсь его поклонником до сегодняшнего дня.
Центр был осведомлен о том, что мы с Коновальцем намеревались провести в Париже три недели, и решил воспользоваться этой возможностью, чтобы организовать мне встречу с моим курьером. Согласно инструкции из Москвы мне надлежало по возможности выйти на такую встречу в Париже и позднее в Вене. Для этого я должен был дважды в неделю появляться между пятью и шестью вечера на углу Плас де Клиши и Бульвара де Клиши. Курьер должен был быть мне лично известен, но имя его мне не раскрывали – таковы были «правила конспирации»: им мог оказаться кто угодно. В первое же свое появление на условленном месте я увидел… собственную жену, одетую по последней моде: она сидела за столиком кафе на улице и медленно попивала черный кофе. В ту минуту я был обуреваем самыми разнородными чувствами. Усилием воли мне удалось заставить себя удостовериться, что за мной нет никакой слежки, и лишь после этого я приблизился к Эмме. Мне сразу же стало совершенно ясно: место для рандеву выбрано крайне неудачно, так как сновавшая вокруг толпа не давала возможности проверить, есть ли за тобой «хвост» или нет.
Опыт моей работы в Харькове против польской агентуры научил меня, что почти во всех провалах виноват был неудачный выбор места встречи. Взяв себя в руки, я на плохом немецком попросил разрешения сесть рядом за столик. Мы оба были крайне напряжены. Эмма, когда я подсел к ней, осведомилась, все ли у меня в порядке.
– Хотя ты и потерял в весе, но выглядишь, по‑моему, превосходно, – добавила она с улыбкой. – Да и выбрит на сей раз прекрасно.
Это ее замечание явно намекало на то, что дома, в России, я частенько брился через день.
Посидев немного за столиком, мы незаметно удалились: это кафе было чересчур открыто для посторонних глаз. Идя по направлению к бульвару, мы заметили двух жандармов, явно направлявшихся в нашу сторону. Повинуясь внутреннему инстинкту, мы тотчас перешли улицу, чтобы избежать встречи с полицией. Теперь, оглядываясь назад, я вижу, насколько это было глупо.
Недорогой отель, в котором остановилась Эмма (вполне подходящий для студентки, проводящей свои каникулы в Париже), находился всего в нескольких кварталах от места нашей встречи. Хотя я и был в восторге от встречи с женой, которую не видел почти год, мне было страшно подвергать ее хотя бы малейшему риску из‑за свидания со мной. Мы обнялись, и я тут же сказал, чтобы она передала Центру мое требование: ни при каких обстоятельствах Эмма не должна быть моей связной. Я ведь не относился к числу тех, кто живет на Западе постоянно, так что с полной уверенностью мог утверждать: все мои контакты внимательнейшим образом изучаются и анализируются как разведкой украинских националистов, так и немцами. И если немецкая или даже французская контрразведка будет иметь основания считать, что Эмма связана со мной, то ее наверняка схватят и подвергнут допросу с пристрастием. Вот почему я велел ей немедленно возвращаться в Швейцарию, а оттуда – домой. Я должен был так поступить, чтобы избавиться от беспокойства за ее судьбу и чувствовать себя в безопасности. Эмма тут же заверила меня, что уедет в Берн незамедлительно. Я информировал ее о положении дел в украинских эмигрантских кругах и о той значительной поддержке, которую они получали от Германии. Особенно любопытной показалась ей информация, касавшаяся раздоров внутри украинской организации: я рассказал Эмме о своей предполагавшейся поездке с Коновальцем в Вену и убедительно просил ее не появляться там в качестве курьера возле Шенбруннского дворца – места предполагавшейся встречи.
Во время нашего пребывания в Париже Коновалец пригласил меня посетить вместе с ним могилу Петлюры, после разгрома частями Красной Армии бежавшего в столицу Франции, где в 1926 году он и был убит. Коновалец боготворил этого человека, называя его «нашим знаменем и самым любимым вождем». Он говорил, что память о Петлюре должна быть сохранена. Мне было приятно, что Коновалец берет меня с собой, но одна мысль не давала покоя: на могилу во время посещения положено класть цветы. Между тем мой кошелек был пуст, а напоминать о таких мелочах Коновальцу я не считал для себя возможным. Это было бы просто бестактно по отношению к человеку, занимавшему столь высокое положение, хотя, по существу, заботиться о цветах в данном случае надлежало ему, а не мне. Что делать? Всю дорогу до кладбища меня продолжала терзать эта мысль.
Мы прошли через все кладбище и остановились перед скромным надгробием на могиле Петлюры. Коновалец перекрестился – я последовал его примеру. Некоторое время мы стояли молча, затем я вытащил из кармана носовой платок и завернул в него горсть земли с могилы.
– Что ты делаешь?! – воскликнул Коновалец.
– Эту землю с могилы Петлюры отвезу на Украину, – ответил я, – мы в его память посадим дерево и будем за ним ухаживать.
Коновалец был в восторге. Он обнял меня, поцеловал и горячо похвалил за прекрасную идею. В результате наша дружба и его доверие ко мне еще более укрепились.
Коновалец рассказал мне, что один из его помощников, Грибивский, подозревается в сотрудничестве с чехословацкой контрразведкой, и попросил, чтобы я встретился с ним и попытался его прощупать. После убийства в Варшаве генерала Перацкого украинскими националистами чехи оперативно, за один день, захватили все явки украинской организации в Праге и забрали многие досье, находившиеся в ведении Грибивского. Эту историю я уже знал. Мой близкий друг и коллега Каминский, бывший за два года до меня в Германии в качестве нелегала, пытался завербовать Грибивского, якобы от имени словацкой полиции, для работы осведомителем, хотя на самом деле речь шла о работе на нас. Грибивский, со своей стороны, предполагал захватить Каминского во время назначенной встречи, но тот, увидев слежку, избежал ловушки, вовремя успев вскочить в проходивший трамвай. Коновалец совершенно правильно подозревал, что Каминский является вовсе не словацким, а советским агентом, и я, зная это, решительно возражал против моей встречи с Грибивским, заявив, что его, возможно, контролируют большевики (в конце концов он мог специально сделать вид, что не сумел захватить Каминского), а поэтому контакты с ним могут засветить меня и привести к провалу моей миссии здесь.
После нашего приезда в Вену я отправился на заранее определенное место встречи, где застал моего куратора и наставника по работе в Москве Зубова. Это был опытный разведчик, и я всегда стремился получить от него как можно больше знаний. Я подробно информировал его о деятельности Коновальца и сообщил, что назавтра намечен наш поход в оперу. Зубову удалось купить билет на тот же спектакль – он сидел прямо за нами и мог слышать все, о чем мы разговаривали с моим спутником. Выходя из театра, я нарочно налетел на Зубова в толпе зрителей и даже извинился за то, что толкнул его. В сущности, это была глупая детская выходка.
Из Вены я возвратился в Берлин, где в течение нескольких месяцев шли бесполезные переговоры о возможном развертывании сил подполья на Украине в случае начала войны. В этот период я дважды ездил из Германии в Париж, встречаясь там с лидерами украинского правительства в изгнании. Коновалец предостерег меня в отношении этих людей: по его словам, их не следовало воспринимать серьезно, поскольку в реальной действительности все будут решать не эти господа, протиравшие штаны в парижских кафе, а его военная организация.
Тем временем мой «дядя», Лебедь, используя свои связи, прислал через Финляндию распоряжение о моем возвращении на Украину, где меня должны были оформить радистом на советское судно, регулярно заходившее в иностранные порты. Это давало бы мне возможность поддерживать постоянную связь между подпольем ОУН на Украине и националистическими организациями за рубежом. Коновальцу идея пришлась по душе, и он согласился с моим возвращением в Советский Союз.
С фальшивыми документами в сопровождении Сушко, заместителя Коновальца (Коновалец хотел убедиться, что я благополучно пересек границу), через Финляндию я добрался до советско‑финской границы. Сушко привел меня туда, где, казалось, можно было безопасно перейти границу, проходившую здесь по болоту. Тем не менее, как только я приблизился к самой границе, меня перехватил финский пограничный патруль. Я был арестован и посажен в тюрьму в Хельсинки. Там меня допрашивали в течение месяца. Я объяснял им, что являюсь украинским националистом и стремлюсь возвратиться в Советский Союз, выполняя приказ своей организации.
Весь этот месяц атмосфера в Центре была весьма напряженной, поскольку Зоя Рыбкина сообщила из Хельсинки о моем возвращении. Чтобы узнать, что со мной произошло, на границу выехали Зубов и Шпигельглас. Все считали, что скорее всего меня ликвидировал Сушко.
По истечении трех недель после моего ареста официальному украинскому представителю в Хельсинки Полуведько поступил запрос от финской полиции и офицеров абвера о некоем украинце, пытавшемся пробраться в Советский Союз. Между абвером и финской разведкой существовало соглашение о контроле над советской границей – любые перебежчики проверялись ими совместно. В конце концов меня передали Полуведько, который сопровождал меня до Таллинна. Там мне выдали еще один фальшивый литовский паспорт, а в советском консульстве оформили краткосрочную туристическую визу для поездки в Ленинград. На сей раз с пересечением границы не было никаких проблем: пограничник проштемпелевал мой паспорт, а затем мне удалось улизнуть от интуристского гида, ожидавшего меня в Ленинграде. Уверен, что это вызвало настоящий переполох в отделении Интуриста, и милиция наверняка была поставлена на ноги, чтобы разыскать пропавшего в городе литовского туриста.
Успешная командировка в Западную Европу изменила мое положение в разведке. О результатах работы было доложено Сталину и Косиору, секретарю ЦК Коммунистической партии Украины, а также Петровскому, председателю Верховного Совета республики. В кабинете Слуцкого, где я докладывал в деталях о своей поездке, меня представили двум людям: один из них был Серебрянский, начальник Особой группы при наркоме внутренних дел – самостоятельного и в то время мне неизвестного Центра закордонной разведки органов безопасности, а другой, по‑моему, Васильев, – сотрудник секретариата Сталина. Ни того, ни другого я прежде не знал.
Позднее меня наградили орденом Красного Знамени, который вручил мне глава государства М.И. Калинин. Вместе со мной в Кремле орден Красного Знамени получил и Зарубин, только что возвратившийся из нелегальной поездки в Западную Европу, почти в то же самое время, что и я. Мы встретились с ним тогда в первый раз. Позднее мы сблизились, и эта дружба продолжалась всю жизнь, хотя он был значительно старше меня.
Во время дружеского ужина в честь Зарубина и меня на квартире Слуцкого мне пришлось выпить – второй раз в жизни – стопку водки. Впервые это случилось в Одессе, когда мне было пятнадцать лет. Хотя я и был физически здоровым человеком, врачи определили, что мне противопоказаны алкогольные напитки крепостью выше двенадцати градусов. Однако Слуцкий и Шпигельглас приказали принять «норму» за боевой орден, и на следующий день я лежал пластом. Реакция организма была ужасной: нестерпимая головная боль и рвота.
Весь 1937‑й и часть 1938‑го года я неоднократно выезжал на Запад в качестве курьера. Крышей для меня служила должность радиста на грузовом судне. Встретившись с Коновальцем, я ужаснулся, услышав, что ОУН передала немцам дезинформацию о том, что ряд командиров Красной Армии из числа украинцев – Федько, Дубовой и др. (позднее все они были ликвидированы Сталиным) – выражали свои симпатии делу украинских националистов. Люди Коновальца выдумывали подобные истории, чтобы произвести впечатление на немцев и получить от них как можно больше денег. Позднее мне довелось прочесть в украинской эмигрантской прессе, что такие красные командиры как Дубовой, Федько и ряд других якобы делили свою лояльность между советской властью и украинским национализмом. Коновалец решился сообщить мне об этом, поскольку знал, что как организатор украинского подполья я смогу узнать правду.
Когда в 1937 году я сообщил об этом Шпигельгласу, он высказал предположение, что контакты Дубового и других командиров с украинскими националистами и немцами не были невозможными. Думаю, что Шпигельглас просто хотел прикрыть меня на случай, если бы я передал эту неприятную для нашего руководства информацию – ведь судьба этих командиров уже была предрешена.
В ноябре 1937 года, после празднования двадцатилетия Октябрьской революции, я был вызван вместе со Слуцким к Ежову, тогдашнему наркому внутренних дел. Я встретился с ним впервые, и меня буквально поразила его неказистая внешность. Вопросы, которые он задавал, касались самых элементарных для любого разведчика вещей и звучали некомпетентно. Чувствовалось, что он не знает самих основ работы с источниками информации. Более того, похоже, что его вообще не интересовали раздоры внутри организации украинских эмигрантов. Между тем Ежов был и народным комиссаром внутренних дел, и секретарем Центрального комитета партии. Я искренне считал, что просто не в состоянии оценить те интеллектуальные качества, которые позволили этому человеку занять столь высокие посты. Хотя к этому времени я и был уже весьма опытным профессионалом в разведслужбе, но в том, что касалось карьеры в высших эшелонах власти, оставался наивным человеком: ведь те руководители, с которыми я сталкивался до сих пор, такие как Косиор и Петровский, возглавлявшие компартию Украины, были высокоинтеллектуальными людьми с широким кругозором.
Выслушав мое сообщение относительно предстоящих встреч с украинскими националистами, Ежов внезапно предложил, чтобы я сопровождал его в ЦК. Я был просто поражен, когда наша машина въехала в Кремль, допуск в который имел весьма ограниченный круг лиц. Мое удивление еще больше возросло после того, как Ежов объявил, что нас примет лично товарищ Сталин. Это была моя первая встреча с вождем. Мне было тридцать, но я так и не научился сдерживать свои эмоции. Я был вне себя от радости и едва верил тому, что руководитель страны захотел встретиться с рядовым оперативным работником. После того как Сталин пожал мне руку, я никак не мог собраться, чтобы четко ответить на его вопросы. Улыбнувшись, Сталин заметил:
– Не волнуйтесь, молодой человек. Докладывайте основные факты. В нашем распоряжении только двадцать минут.
– Товарищ Сталин, – ответил я, – для рядового члена партии встреча с вами – величайшее событие в жизни. Я понимаю, что вызван сюда по делу. Через минуту я возьму себя в руки и смогу доложить основные факты вам и товарищу Ежову.
Сталин, кивнув, спросил меня об отношениях между политическими фигурами в украинском эмигрантском движении. Я вкратце описал бесплодные дискуссии между украинскими националистическими политиками по вопросу о том, кому из них какую предстоит сыграть роль в будущем правительстве. Реальную угрозу, однако, представлял Коновалец, поскольку он активно готовился к участию в войне против нас вместе с немцами. Слабость его позиции заключалась в постоянном давлении на него и возглавляемую им организацию со стороны польских властей, которые хотели направить украинское национальное движение в Галиции против Советской Украины.
– Ваши предложения? – спросил Сталин.
Ежов хранил молчание. Я тоже. Потом, собравшись с духом, я сказал, что сейчас не готов ответить.
– Тогда через неделю, – заметил Сталин, – представьте свои предложения.
Аудиенция окончилась. Он пожал нам руки, и мы вышли из кабинета.
Вернувшись на Лубянку, Ежов тут же дал мне указание немедленно приступить к работе вместе со Шпигельгласом над нашими предложениями. На следующий день Слуцкий, как начальник Иностранного отдела, направил подготовленную записку Ежову. Это был план интенсивного внедрения в ОУН, прежде всего на территории Германии. Для этого было, в частности, предложено послать трех сотрудников украинского НКВД в качестве слушателей в нацистскую партийную школу. Нам казалось необходимым вместе с ними послать для подстраховки одного подлинного украинского националиста, желательно при этом не слишком сообразительного. Ежов не задал ни одного вопроса и только сказал, что товарищ Сталин дал указание посоветоваться с товарищами Косиором и Петровским, у которых могут быть свои соображения. Мне надлежало немедленно выехать в Киев, переговорить с ними и на следующий день вернуться в Москву.
Наша беседа проходила в кабинете Косиора, где присутствовал и Петровский. Оба они проявили интерес к предложенной нами двойной игре. Однако больше всего их заботило предполагавшееся тогда провозглашение независимой Карпатской Украинской республики. Ровно через неделю после моего возвращения в Москву Ежов в одиннадцать вечера вновь привел меня в кабинет к Сталину. На этот раз там находился Петровский, что меня не удивило. Всего за пять минут я изложил план оперативных мероприятий против ОУН, подчеркнув, что главная цель – проникновение в абвер через украинские каналы, поскольку абвер является нашим главным противником в предстоящей войне.
Сталин попросил Петровского высказаться. Тот торжественно объявил, что на Украине Коновалец заочно приговорен к смертной казни за тягчайшие преступления против украинского пролетариата: он отдал приказ и лично руководил казнью революционных рабочих киевского «Арсенала» в январе 1918 года.
Сталин, перебив его, сказал:
– Это не акт мести, хотя Коновалец и является агентом германского фашизма. Наша цель – обезглавить движение украинского фашизма накануне войны и заставить этих бандитов уничтожать друг друга в борьбе за власть. – Тут же он обратился ко мне с вопросом: – А каковы вкусы, слабости и привязанности Коновальца? Постарайтесь их использовать.
– Коновалец очень любит шоколадные конфеты, – ответил я, добавив, что, куда бы мы с ним ни ездили, он везде первым делом покупал шикарную коробку конфет.
– Обдумайте это, – предложил Сталин.
За все время беседы Ежов не проронил ни слова. Прощаясь, Сталин спросил меня, правильно ли я понимаю политическое значение поручаемого мне боевого задания.
– Да, – ответил я и заверил его, что отдам жизнь, если потребуется, для выполнения задания партии.
– Желаю успеха, – сказал Сталин, пожимая мне руку.
Мне было приказано ликвидировать Коновальца.
После моей встречи со Сталиным Слуцкий и Шпигельглас разработали несколько вариантов операции.
Первый из них предполагал, что я застрелю Коновальца в упор. Правда, его всегда сопровождал помощник Барановский, кодовая кличка которого «Пан инженер». Найти момент, когда я останусь с Коновальцем один на один, почти не представлялось возможным.
Второй вариант заключался в том, чтобы передать ему «ценный подарок» с вмонтированным взрывным устройством. Этот вариант казался наиболее приемлемым: если часовой механизм сработает как положено, я успею уйти.
Сотрудник отдела оперативно‑технических средств Тимашков получил задание изготовить взрывное устройство, внешне выглядевшее как коробка шоколадных конфет, расписанная в традиционном украинском стиле. Вся проблема заключалась в том, что мне предстояло незаметно нажать на переключатель, чтобы запустить часовой механизм. Мне этот вариант не слишком нравился, так как яркая коробка сразу привлекла бы внимание Коновальца. Кроме того, он мог передать эту коробку постоянно сопровождавшему его Барановскому.
Используя свое прикрытие – я был зачислен радистом на грузовое судно «Шилка», – я встречался с Коновальцем в Антверпене, Роттердаме и Гавре, куда он приезжал по фальшивому литовскому паспорту на имя господина Новака. Литовские власти в 30‑е годы регулярно снабжали функционеров ОУН фальшивыми загранпаспортами.
Игра, продолжавшаяся более двух лет, вот‑вот должна была завершиться. Шла весна 1938 года, и война казалась неизбежной. Мы знали: во время войны Коновалец возглавит ОУН и будет на стороне Германии.
По пути, отправляясь на встречу с Коновальцем, я проверил работу сети наших нелегалов в Норвегии, в задачу которых входила подготовка диверсий на морских судах Германии и Японии, базировавшихся в Европе и используемых для поставок оружия и сырья режиму Франко в Испании. Возглавлял эту сеть Эрнст Волльвебер, известный мне в то время под кодовым именем «Антон». Под его началом находилась, в частности, группа поляков, которые обладали опытом работы на шахтах со взрывчаткой. Эти люди ранее эмигрировали во Францию и Бельгию из‑за безработицы в Польше, где мы и привлекли их к сотрудничеству для участия в диверсиях на случай войны. Мне было приказано провести проверку польских подрывников. Волльвебер почти не говорил по‑польски, однако мой западно‑украинский диалект был вполне достаточен для общения с нашими людьми. С группой из пяти польских агентов мы встретились в норвежском порту Берген. Я заслушал отчет об операции на польском грузовом судне «Стефан Баторий», следовавшем в Испанию с партией стратегических материалов для Франко. До места своего назначения оно так и не дошло, затонув в Северном море после возникшего в его трюме пожара в результате взрыва подложенной нашими людьми бомбы.
Волльвебер произвел на меня сильное впечатление. Немецкий коммунист, он служил в Германии на флоте, возглавлял восстание моряков против кайзера в 1918 году. Военный трибунал приговорил его к смертной казни, но ему удалось бежать сначала в Голландию, а затем в Скандинавию. Позднее он был арестован шведскими властями, и гестапо тотчас потребовало его выдачи. Однако он получил советское гражданство, так что его высылка из Швеции в оккупированную немцами Норвегию не состоялась. Уже после Пакта Молотова‑Риббентропа, в 1939 году, он приезжал в Москву и получил приказание продолжать подготовку диверсий в неизбежной войне с Гитлером. Организация Волльвебера сыграла важную роль в норвежском Сопротивлении. Волльвебер и его люди, вернувшиеся в Москву в 1941–1944 годах, помогали нам в вербовке после начала войны немецких военнопленных для операций нашей разведки.
После окончания войны Волльвебер некоторое время возглавлял министерство госбезопасности ГДР. В 1938 году в связи с конфликтом, который возник у него с Хрущевым, Ульбрихт сместил Волльвебера с занимаемого поста. А произошло следующее. Волльвебер рассказал Серову, тогдашнему председателю КГБ, о разногласиях среди руководства ГДР, считая их проявлением прозападных настроений, противоречивших линии международного коммунистического движения. Серов сообщил об этом разговоре Хрущеву. А тот на обеде, сопровождавшемся обильной выпивкой, сказал Ульбрихту:
– Почему вы держите министра госбезопасности, который сообщает нам об идеологических разногласиях внутри вашей партии? Это же продолжение традиции Берии и Меркулова, с которыми Волльвебер встречался в сороковых годах, когда приезжал в Москву.
Ульбрихт понял, что следует делать, и немедленно уволил Волльвебера за «антипартийное поведение». Он умер, будучи в опале, в 60‑е годы.
В конце концов взрывное устройство в виде коробки конфет было изготовлено, причем часовой механизм не надо было приводить в действие особым переключателем. Взрыв должен был произойти ровно через полчаса после изменения положения коробки из вертикального в горизонтальное. Мне надлежало держать коробку в первом положении в большом внутреннем кармане своего пиджака. Предполагалось, что я передам этот «подарок» Коновальцу и покину помещение до того, как мина сработает.
Шпигельглас сопроводил меня в кабинет Ежова, который лично захотел принять меня перед отъездом. Когда мы вышли от него, Шпигельглас сказал:
– Тебе надлежит в случае провала операции и угрозы захвата противником действовать как настоящему мужчине, чтобы ни при каких условиях не попасть в руки полиции.
Фактически это был приказ умереть. Имелось в виду, что я должен буду воспользоваться пистолетом «Вальтер», который он мне дал.
Шпигельглас провел со мной более восьми часов, обсуждая различные варианты моего ухода с места акции. Он снабдил меня сезонным железнодорожным билетом, действительным на два месяца на всей территории Западной Европы, а также вручил фальшивый чехословацкий паспорт и три тысячи американских долларов, что по тем временам было большими деньгами. По его совету я должен был обязательно изменить свою внешность после «ухода»: купить шляпу, плащ в ближайшем магазине.
Перед отплытием из Мурманска я прочел в «Правде», что Слуцкий скоропостижно скончался от сердечного приступа. Это была для меня большая потеря. Я глубоко уважал его как опытного руководителя разведки. В чисто человеческом плане он неизменно проявлял внимание ко мне и к Эмме. Этот человек имел большие заслуги. Именно ему в свое время удалось похитить в Швеции технический секрет производства шарикоподшипников. Для нашей промышленности это имело важнейшее значение. Слуцкого наградил и орденом Красного Знамени. Вместе с Никольским (позднее известным как Орлов), начальником отделения экономической разведки, в 1930‑м или 1931 году они встречались со шведским спичечным королем Иваром Крюгером. Шантажируя его тем, что мы наводним западные рынки нашими дешевыми спичками, они потребовали для советского правительства отступную сумму в триста тысяч американских долларов. Прием сработал, деньги были получены.
Я самым внимательным образом изучил все возможные маршруты побега в тех городах, где могла произойти наша встреча с Коновальцем. Для каждого из них у меня имелся детально разработанный план. Однако перед последней поездкой на встречу с Коновальцем возникли неожиданные проблемы. В ответ на мой звонок из Норвегии он вдруг предложил, чтобы мы встретились в Киле (Германия), или я прилетел бы к нему в Италию на немецком самолете, который он за мной пришлет. Я ответил, что не располагаю временем: хотя капитан судна и являлся членом украинской организации, но мне нельзя на сей раз отлучаться во время стоянок больше чем на пять часов. Тогда мы договорились, что встретимся в Роттердаме, в ресторане «Атланта», находившемся неподалеку от центрального почтамта, всего в десяти минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. Прежде чем сойти на берег в Роттердаме, я сказал капитану, который получил инструкции выполнять все мои распоряжения, что если не вернусь на судно к четырем часам дня, ему надлежит отплыть без меня. Тимашков, изготовитель взрывного устройства, сопровождал меня в этой поездке и за десять минут до моего ухода с судна зарядил его. Сам он остался на борту судна. (Позже Тимашков стал начальником отдела оперативной техники, именно он сконструировал магнитные мины: одной из них был убит немецкий гауляйтер Белоруссии Вильгельм Кубе. Это произошло в 1943 году, а после окончания второй мировой войны он служил советником у греческих партизан во время гражданской войны.)
23 мая 1938 года после прошедшего дождя погода была теплой и солнечной. Время без десяти двенадцать. Прогуливаясь по переулку возле ресторана «Атланта», я увидел сидящего за столиком у окна Коновальца, ожидавшего моего прихода. На сей раз он был один. Я вошел в ресторан, подсел к нему, и после непродолжительного разговора мы условились снова встретиться в центре Роттердама в 17.00. Я вручил ему подарок, коробку шоколадных конфет, и сказал, что мне сейчас надо возвращаться на судно. Уходя, я положил коробку на столик рядом с ним. Мы пожали друг другу руки, и я вышел, сдерживая свое инстинктивное желание тут же броситься бежать.
Помню, как, выйдя из ресторана, свернул направо на боковую улочку, по обе стороны которой располагались многочисленные магазины. В первом же из них, торговавшем мужской одеждой, я купил шляпу и светлый плащ. Выходя из магазина, я услышал звук, напоминавший хлопок лопнувшей шины. Люди вокруг меня побежали в сторону ресторана. Я поспешил на вокзал, сел на первый же поезд, отправлявшийся в Париж, где утром в метро меня должен был встретить человек, лично мне знакомый. Чтобы меня не запомнила поездная бригада, я сошел на остановке в часе езды от Роттердама. Там, возле бельгийской границы, я заказал обед в местном ресторане, но был не в состоянии притронуться к еде из‑за страшной головной боли. Границу я пересек на такси – пограничники не обратили на мой чешский паспорт ни малейшего внимания. На том же такси я доехал до Брюсселя, где обнаружил, что ближайший поезд на Париж только что ушел. Следующий, к счастью, отходил довольно скоро, и к вечеру я был уже в Париже. Все прошло без сучка и задоринки. В Париже меня, помню, обманули в пункте обмена валюты на вокзале, когда я разменивал сто долларов. Я решил, что мне не следует останавливаться в отеле, чтобы не проходить регистрацию: голландские штемпели в моем паспорте, поставленные при пересечении границы, могли заинтересовать полицию. Служба контрразведки, вероятно, станет проверять всех, кто въехал во Францию из Голландии.
Ночь я провел, гуляя по бульварам, окружавшим центр Парижа. Чтобы убить время, пошел в кино. Рано утром, после многочасовых хождений, зашел в парикмахерскую побриться и помыть голову. Затем поспешил к условленному месту встречи, чтобы быть на станции метро к десяти утра. Когда я вышел на платформу, то сразу же увидел сотрудника нашей разведки Агаянца, работавшего третьим секретарем советского посольства в Париже. Он уже уходил, но, заметив меня, тут же вернулся и сделал знак следовать за ним. Мы взяли такси до Булонского леса, где позавтракали, и я передал ему свой пистолет и маленькую записку, содержание которой надо было отправить в Москву шифром. В записке говорилось: «Подарок вручен. Посылка сейчас в Париже, а шина автомобиля, на котором я путешествовал, лопнула, пока я ходил по магазинам». Агаянц, не имевший никакого представления о моем задании, проводил меня на явочную квартиру в пригороде Парижа, где я оставался в течение двух недель.
В газетах не было ни строчки об инциденте в Роттердаме. Однако эмигрантские русские газеты вовсю писали о будущей судьбе Ежова: по их мнению, он обречен как очередная жертва кампании чисток. Читая это, я не мог не смеяться про себя: «До чего же глупы все эти статьи. Ведь всего два месяца назад этот человек желал мне успеха в выполнении задания, и к тому же я сам видел, что товарищ Станин полностью ему доверяет».
Из Парижа я по подложным польским документам отправился машиной и поездом в Барселону. Местные газеты сообщали о странном происшествии в Роттердаме, где украинский националистический лидер Коновалец, путешествовавший по фальшивому паспорту, погиб при взрыве на улице. В газетных сообщениях выдвигались три версии: либо его убили большевики, либо соперничающая группировка украинцев, либо, наконец, его убрали поляки – в отместку за гибель генерала Перацкого.
Судьбе было угодно, чтобы Барановский, прибывший через час после взрыва в Роттердам из Германии на встречу с Коновальцем, был арестован голландской полицией, которая подозревала его в совершении этой акции, но когда его доставили в госпиталь и показали тело убитого, он воскликнул: «Мой фюрер!» – и этого, вкупе с железнодорожным билетом, оказалось достаточно, чтобы убедить полицию в его полной невиновности.
На следующий день после взрыва голландская полиция в сопровождении Барановского произвела проверку экипажей всех советских судов, находившихся в роттердамском порту. Они искали человека, запечатленного на фото, которое было в их распоряжении. Это была та самая фотография, сделанная уличным фотографом в Берлине. Барановскому было известно, что Коновалец собирался встретиться с курьером‑радистом с советского судна, появлявшимся в Западной Европе. Однако он вовсе не был уверен, что это именно я. Голландская полиция знала о телефонном звонке Коновальцу из Норвегии и, естественно, подозревала, что звонил его агент. Правда, никто не знал наверняка, с кем именно Коновалец встречался в тот роковой день. Когда произошел взрыв на улице, рядом с ним никого не было. Его личность оставалась не выясненной полицией до позднего вечера, тогда как мое судно «Шилка» давно уже покинуло роттердамскую гавань.
В Испании я оставался в течение трех недель как польский доброволец в составе руководимой НКВД интернациональной партизанской части при республиканской армии.
Глава 2
События в Испании
Во время пребывания в Барселоне я впервые встретился с Рамоном Меркадером дель Рио, молоденьким лейтенантом, только что возвратившимся после выполнения партизанского задания в тылу франкистов. Обаятельный молодой человек – в ту пору ему исполнилось всего двадцать лет. Его старший брат, как мне рассказали, геройски погиб в бою: обвязав себя гранатами, он бросился под немецкий танк, прорвавшийся к позициям республиканцев. Их мать Каридад также пользовалась большим уважением в партизанском подполье республиканцев, показывая чудеса храбрости в боевых операциях. Тогда я и не подозревал, какое будущее уготовано Меркадеру: ведь ему было суждено ликвидировать Троцкого, причем операцией этой должен был руководить именно я.
В течение 1936–1939 годов в Испании шли, в сущности, не одна, а две войны, обе не на жизнь, а на смерть. В одной войне схлестнулись националистические силы, руководимые Франко, которому помогал Гитлер, и силы испанских республиканцев, помощь которым оказывал Советский Союз. Вторая, совершенно отдельная война шла внутри республиканского лагеря. С одной стороны, Сталин в Советском Союзе, а с другой – Троцкий, находившийся в изгнании: оба хотели предстать перед миром в качестве спасителей и гарантов дела республиканцев, чтобы тем самым стать в авангарде мирового коммунистического движения.
В Испанию мы направляли как своих молодых, неопытных оперативников, так и опытных инструкторов‑профессионалов. Эта страна сделалась своего рода полигоном, где опробовались и отрабатывались наши будущие военные и разведывательные операции. Многие из последующих ходов советской разведки опирались на установленные в Испании контакты и на те выводы, которые мы сумели сделать из своего испанского опыта. Да, республиканцы в Испании потерпели поражение, но люди, работавшие на Советский Союз, стали нашими постоянными союзниками в борьбе с фашизмом. Когда гражданская война в этой стране завершилась, стало ясно: в мире не остается больше места для Троцкого.
В Испании же произошла и моя новая встреча с Эйтингоном, одним из видных руководителей советской разведки в 20‑50‑е годы. С ним я познакомился еще пять лет назад, когда он возглавлял 1‑е отделение (нелегальная разведка) Иностранного отдела. В Испании Эйтингон, майор госбезопасности, отвечал за ведение партизанских операций в тылу франкистов и внедрение агентуры в верхушку фашистского движения. Его псевдоним в Испании был «Генерал Котов», а в Центре он проходил под именами «Том» и «Пьер». Именно Эйтингон, выполняя инструкции Центра, организовал в 1938 году мое возвращение в Москву. Он сопровождал меня до Гавра и посадил на борт советского судна. До сих пор помню, как он выглядел: посмотришь на него и подумаешь, что это обычный французский уличный торговец – без галстука, в неизменном кепи, которое он носил даже в жару.
Наум Исаакович Эйтингон родился 6 декабря 1899 года в Белоруссии, в городе Шклов, неподалеку от Гомеля, откуда была родом моя жена. На Лубянке и среди друзей его звали Леонид Александрович, так как в 20‑х годах евреи‑чекисты брали себе русские имена, чтобы не привлекать излишнего внимания к своей национальности как осведомителей и информаторов из кругов дворянства и бывшего офицерства, так и коллег, с которыми они работали.
Семья Эйтингонов принадлежала к самым бедным слоям общества, однако в Европе у них были весьма состоятельные родственники.
Эйтингон вступил в ряды партии эсеров в 1917 году. Годом позже в возрасте девятнадцати лет он пошел в Красную Армию и вскоре был направлен на работу в ЧК. В 1919 году его назначили заместителем председателя ЧК Гомельской области. Он вышел из партии эсеров и присоединился к большевикам в 1920 году. Карьера Эйтингона началась тогда, когда он принял активное участие в подавлении восстания белогвардейских офицеров в Гомеле, во время которого им удалось ненадолго захватить город.
Дзержинский заметил молодого чекиста и послал его руководить ЧК в Башкирии для подавления бандитизма. Там в бою с местными бандитами он был ранен в ногу и частенько жаловался мне впоследствии на боли в ноге. В 1921 году его направили в Москву в военную академию, где он учился вместе с будущими военными военачальниками. Помню, он показывал мне фотографии, запечатлевшие его с Чуйковым, впоследствии маршалом, защитником Сталинграда.
По завершении учебы в военной академии Эйтингона направили на работу в Иностранный отдел ОГПУ. Европейская родня отказалась выполнить его просьбу прислать необходимые рекомендации, бумаги и деньги для поездки в Западную Европу. А это могло быть его легальным прикрытием для оперативной работы. В результате Эйтингона послали в Китай в качестве резидента ОГПУ: сначала в Шанхай (там он работал совместно с сетью Разведупра Красной Армии, включавшей также как одного из агентов Рихарда Зорге), а затем в Пекин и Харбин. Эйтингону удалось добиться освобождения группы советских военных советников, захваченных китайскими националистами в Маньчжурии. Столь же успешно провел он и другую операцию, сорвав попытку агентов Чан Кайши захватить советское консульство в Шанхае. После этого его отозвали в Москву. На короткое время в 1930 году Эйтингон становится заместителем Серебрянского, начальника Особой группы при председателе ОГПУ. Этот самостоятельный и независимый от Иностранного отдела разведывательный Центр был создан Менжинским, преемником Дзержинского, в 1926 году как параллельная разведывательная служба для глубокого внедрения агентуры на объекты военно‑стратегического характера и подготовки диверсионных операций в Западной Европе и Японии в случае войны. С этой целью Эйтингон ездил из Китая в США (Калифорнию) для организации там агентурной сети. В 1932 году Эйтингона перевели в Иностранный отдел, руководимый Артузовым, а позднее Слуцким, в качестве начальника отделения, координировавшего работу нелегальных резидентур. Наряду с этим он отвечал также за изготовление поддельных паспортов для тайных операций за рубежом.
Когда мы впервые встретились с ним в Москве в 1933 году, я был новым инспектором в отделе кадров. В ту пору мы не были особенно близки, поскольку он занимал более высокое положение, чем я. В его лице я видел опытного руководителя разведки, уважаемого за успехи в работе и профессиональное мастерство, поэтому ему была поручена работа с нелегалами – святая святых в нашем деле. В те годы этой работе придавалось важнейшее значение, поскольку резидентур под дипломатическим прикрытием было у нас относительно немного. Мы стремились к тому, чтобы наши агенты в случае провала не могли навести западные спецслужбы на советские полпредства за рубежом.
Красивое лицо Эйтингона и его живые карие глаза так и светились умом. Взгляд пронзительный, волосы, густые и черные как смоль, шрам на подбородке, оставшийся после автомобильной аварии (большинство людей принимало его за след боевого ранения), – все это придавало ему вид бывалого человека. Он буквально очаровывал людей, наизусть цитируя стихи Пушкина, но главным его оружием были ирония и юмор. Пил он мало – рюмки коньяка хватало ему на целый вечер. Я сразу же обратил внимание на то, что этот человек нисколько не похож на высокопоставленного спесивого бюрократа. Полное отсутствие интереса к деньгам и комфорту в быту у Эйтингона было просто поразительным. У него никогда не было никаких сбережений, и даже скромная обстановка в квартире была казенной.
Помню, я как‑то раз принес ему личное дело молодого чекиста, служившего возле польской границы, с просьбой по возможности перевести его на работу в качестве одного из сотрудников отделения, которым Эйтингон руководил. В деле находилась записка заместителя начальника отдела украинского ГПУ, рекомендовавшего его для службы в Польше недалеко от того места, где тот жил и работал. Эйтингону не хотелось посылать этого молодого человека в Польшу, рядом с границей, где того могли узнать. И он прокомментировал это так: «Если этого парня, не имеющего никакого опыта, поймают при обычной проверке, то чья голова тогда полетит? Если я стану слушать подобные рекомендации, надо будет завести специальную корзину для собирания голов».
Я решил, что вопрос закрыт и ему не хочется, чтобы его беспокоили по поводу устройства этого человека. Но неожиданно Эйтингон сам позвонил Минскеру, возглавлявшему отделение по Дальнему Востоку, и предложил ему взять на работу этого сотрудника.
Следующая наша встреча, оперативная, была уже в Испании, откуда он нелегально переправлял меня во Францию в 1938 году после ликвидации Коновальца. Эйтингона послали в Испанию двумя годами раньше в качестве заместителя резидента, отвечавшего за партизанские операции, включая диверсии на железных дорогах и аэродромах. После того как Никольский, наш резидент в Испании (под именем Александр Орлов), в июле 1938 года исчез, Эйтингон стал резидентом. Я не мог не оценить искусства, с которым он адаптировался к местным условиям.
После того как в 1939 году в гражданской войне в Испании победил Франко, Эйтингон перебрался во Францию, где несколько месяцев реорганизовывал и восстанавливал все то, что осталось от его агентурной сети, и поддерживал связь с Гайем Берджесом – одним из членов кембриджской группы, проходившим под кодовым именем «Девушка». Затем Берджес быт передан на связь Горскому – резиденту НКВД в Англии. Примерно в то же время Эйтингону удалось привлечь к сотрудничеству с советской разведкой племянника главы испанской фашистской партии Примо де Ривейры, друга Гитлера. До 1942 года он был важным источником информации о планах Франко и Гитлера. В 1938 году Центр был буквально взбешен бегством нашего резидента в Испании Орлова. Вскоре мы узнали, что он сбежал, боясь ареста. Однако Эйтингон предложил, несмотря на измену Орлова, продолжать контакты с членами кембриджской группы, поскольку Орлов, проживая в Соединенных Штатах, не мог выдать своих связей с этими людьми без риска подвергнуть себя судебному преследованию. В 1934–1933 годах Орлов жил в Англии по фальшивому американскому паспорту, поэтому если бы американская контрразведка проверила кембриджскую группу, то Орлов мог не получить американское гражданство и был бы депортирован из США. Более того, всплыли бы нежелательные для него факты: террористические операции под его руководством и с его участием против троцкистов и агентов НКВД, подозреваемых в двойной игре в Испании.
В 1941 году Эйтингон был направлен в Турцию и пробыл там почти весь 1942 год под именем Леонида Наумова. Там он готовил покушение на Франца фон Папена, тогдашнего германского посла в Турции. По слухам, фон Папен должен был возглавить правительство Германии в случае отстранения Гитлера от власти генералами вермахта. Это открывало путь к сепаратному миру между Германией, Англией и США. Попытка покушения оказалась неудачной – наш агент‑болгарин нервничал, и бомба взорвалась раньше времени у него в руках. В результате сам он погиб, а фон Папен отделался лишь легкими царапинами.
В последующие годы моя жена и Эйтингон, как выяснилось, оказались настроенными куда более реалистично в оценке наших порядков, чем я. Я помню, Леонид часто говорил, к примеру, что партия больше не является отрядом единомышленников, преданных социалистическим идеям и принципам справедливости, а стала всего лишь машиной для управления страной. Сначала его шутки в адрес руководства страны расстраивали меня, но затем я привык к ним и стал понимать, насколько он прав, полагая, что наши лидеры ставили свои собственные корыстные интересы выше интересов народа и советского государства. Жена, однако, всегда одергивала Эйтингона, едва он начинал жаловаться на раздутые привилегии кремлевского руководства. «С одной стороны, – говорила она, – я согласна с тобой. Слишком много людей пользуются ими, и в большинстве ни за что, и уж конечно, не за свой тяжелый труд. Не забывай, однако, что и ты, и твоя семья получали льготы и так же, как и мы, не думали отказываться от них».
В последние годы своей жизни Эйтингон был женат на Пузыревой, единственной женщине – сотруднице КГБ, награжденной британским орденом.
Эйтингон вторично был арестован вместе со мной на волне, последовавшей за отстранением Берии от власти в 1953 году, и освобожден только в 1964‑м. Эйтингон скончался в 1981 году, не будучи реабилитированным – официально он считался просто выпущенным на свободу преступником. Лишь в апреле 1992 года семья получила свидетельство о его посмертной реабилитации.
Леонид был по‑настоящему одаренной личностью и, не стань он разведчиком, наверняка преуспел бы на государственной службе или сделал бы научную карьеру. До сих пор в памяти живет шутка: «При нашей системе есть лишь одна, впрочем, тоже не гарантированная, возможность не закончить свои дни в тюрьме. Надо не быть евреем или генералом госбезопасности».
В 1992 году дочь Эйтингона Светлана позвонила мне по телефону и попросила принять свою дальнюю родственницу из Англии, которая приехала в Москву собирать материалы для книги об Эйтингонах. Во время нашей встречи в мае 1992 года я узнал от нее, что ветви «клана» Эйтингонов можно найти в Белоруссии, Москве, Нью‑Йорке и Лейпциге. Однако родственники, которые переехали из Европы в Америку и пользовались особыми льготами по торговле меховыми изделиями из Советского Союза, не играли никакой роли в профессиональной карьере Эйтингона, и он не поддерживал контактов с ними даже после освобождения из Владимирской тюрьмы.
Сообщения, появившиеся ранее на Западе, в которых Эйтингону приписывалась важная роль в проведении операции похищения в 1937 году в Париже генерала Миллера, руководителя РОВСа (Российский Общевоинский Союз), не соответствуют действительности. Похищен он был при участии эмигрировавшего в Париж генерала Скоблина (кодовая кличка «Фермер»), действовавшего под непосредственным руководством Шпигельгласа. Скоблину удалось заманить Миллера на явочную квартиру НКВД, где якобы должна была состояться его встреча с офицерами германской разведки. Там он и был задержан. В связи с исчезновением Миллера французские власти заявили решительный протест советскому послу во Франции, настаивая на том, что тот был на самом деле похищен и доставлен на борт советского судна. Они даже угрожали послать свой эсминец для перехвата в море советского судна. Наш посол Суриц категорически отверг все обвинения, предупредив французов, что они понесут ответственность, если мирное советское судно будет остановлено и обыскано ими в международных водах. В любом случае, по словам посла, генерала Миллера там все равно не найдут. В результате советское судно не было задержано и благополучно проделало свой путь от Гавра до Ленинграда. Миллер был доставлен в Москву, где его допрашивали, он отказался подписать обращение к белой эмиграции о прекращении борьбы с советской властью, был судим и расстрелян в 1939 году на Лубянке. Его похищение наделало в то время много шума. То, что генерала удалось обезвредить, привело к развалу всей организации бывших царских офицеров, сорвав планы их сотрудничества с немцами в войне против нас.
Скоблин бежал из Парижа в Испанию на самолете, заказанном для него Орловым (когда Орлов в 1938 году бежал, он сохранил золотое кольцо Скоблина в качестве доказательства своей причастности к этому делу). Сам Скоблин погиб во время воздушного налета на Барселону в период гражданской войны в Испании. Его женой была известная русская певица Надежда Плевицкая, поддерживавшая связь с НКВД. Она не подозревала, что Шпигельглас руководил операцией по захвату Миллера, и считала его другом своего мужа. Она только знала, что Шпигельглас («Дуглас») был связан с советскими представителями и поддерживал их материально. Ее арестовали во Франции за соучастие в похищении Миллера и приговорили к двадцати годам каторжных работ. Она умерла в тюрьме в 1944 году. Если бы Скоблин проводил эту операцию, как пишут некоторые «знатоки» истории нашей разведки, с ведома немцев, то Плевицкая была бы освобождена ими, или, во всяком случае, немцы обязательно попытались бы ее использовать, чтобы выйти на связи нашей разведки во Франции.
Но возвратимся к событиям 1938 года. Получив мое послание из Парижа об успешном проведении операции по ликвидации Коновальца, Шпигельглас вызвал к себе мою жену и сказал: «Андрей (моя кодовая кличка) находится в безопасности. Он видел, как люди бросились к месту происшествия, и ему стало все ясно. Ведь в Западной Европе никто не побежит ради того, чтобы посмотреть на лопнувшую поблизости автомобильную шину».
В июле 1938 года судно, на котором я находился, пришвартовалось в ленинградском порту. Я тут же выехал ночным поездом в Москву. На вокзале меня встречали Пассов, только что назначенный вместо Слуцкого, Шпигельглас и моя жена. Меня поздравляли и обнимали. Надо ли говорить, как я был счастлив возвратиться в Москву к прежней жизни. Я считал ликвидацию Коновальца оправданной со всех точек зрения и гордился тем, что при взрыве не пострадали невинные люди. Ни у абвера, ни у организации украинских националистов не было улик, чтобы раскрыть истинные причины гибели Коновальца. Конечно, они могли подозревать курьера или связника, прибывшего на встречу в Роттердам, но в их руках не было никаких доказательств.
Было еще важное обстоятельство, убеждавшее меня, что дело выполнено правильно. Те националистические лидеры, с которыми я сталкивался в Берлине и Варшаве, принадлежали к так называемым «прозападным» украинцам, они уже плохо владели родным языком, мешая украинские слова с немецкими, и мне часто приходилось поправлять их. Эти люди, как я искренне считал, были обречены самой историей. Полностью отрезанные от реальной жизни на Украине, они не понимали сущности и силы советской системы. Не знали они и о подъеме украинской литературы и искусства. Образование свое они получили в основном в Вене или Праге. Украинская культура и язык в польской Галиции в то время безжалостно подавлялись местными властями. Регулярно следя за периодикой, они, тем не менее, не могли объяснить разницы между колхозами и совхозами или понять взаимоотношения различных государственных и общественных организаций, отвечавших за социальную политику на Украине. Они утверждали, что их взгляды имеют поддержку среди сельского населения и потребкооперации, не зная, что в действительности потребкооперация на селе уже давно стала неотъемлемым атрибутом колхозного строя.
На следующий день рано утром я был вызван к Берии, новому начальнику Главного управления государственной безопасности НКВД, первому заместителю Ежова. До этого о Берии я знал только, что он возглавлял ГПУ Грузии в 20‑х годах, а затем стал секретарем ЦК Коммунистической партии Грузии. Пассов, сменивший Слуцкого на посту начальника Иностранного отдела, отвел меня в кабинет Берии рядом с приемной Ежова. Моя первая встреча с Берией продолжалась, кажется, около четырех часов. Все это время Пассов хранил молчание. Берия задавал мне вопрос за вопросом, желая знать обо всех деталях операции против Коновальца и об ОУН с начала ее деятельности.
Спустя час Берия распорядился, чтобы Пассов принес папку с литерным делом «Ставка», где были зафиксированы все детали этой операции. Из вопросов Берии мне стало ясно, что это высококомпетентный в вопросах разведывательной работы и диверсий человек. Позднее я понял: Берия задавал свои вопросы для того, чтобы лучше понять, каким образом я смог вписаться в западную жизнь.
Особенное впечатление на Берию произвела весьма простая на первый взгляд процедура приобретения железнодорожных сезонных билетов, позволивших мне беспрепятственно путешествовать по всей Западной Европе. Помню, как он интересовался техникой продажи железнодорожных билетов для пассажиров на внутренних линиях и на зарубежных маршрутах. В Голландии, Бельгии и Франции пассажиры, ехавшие в другие страны, подходили к кассиру по одному – и только после звонка дежурного. Мы предположили, что это делалось с определенной целью, а именно: позволить кассиру лучше запомнить тех, кто приобретал билеты. Далее Берия поинтересовался, обратил ли я внимание на количество выходов, включая и запасной, на явочной квартире, которая находилась в пригороде Парижа. Его немало удивило, что я этого не сделал, поскольку слишком устал. Из этого я заключил, что Берия обладал опытом работы в подполье, приобретенным в закавказском ЧК.
Одет он был, помнится, в весьма скромный костюм. Мне показалось странным, что он без галстука, а рукава рубашки, кстати, довольно хорошего качества, закатаны. Это обстоятельство заставило меня почувствовать некоторую неловкость, так как на мне был прекрасно сшитый костюм: во время своего краткого пребывания в Париже я заказал три модных костюма, пальто, а также несколько рубашек и галстуков. Портной снял мерку, а за вещами зашел Агаянц и отослал их в Москву дипломатической почтой.
Берия проявил большой интерес к диверсионному партизанскому отряду, базировавшемуся в Барселоне. Он лично знал Василевского, одного из партизанских командиров – в свое время тот служил под его началом в контрразведке грузинского ГПУ. Берия хорошо говорил по‑русски с небольшим грузинским акцентом и по отношению ко мне вел себя предельно вежливо. Однако ему не удалось остаться невозмутимым на протяжении всей нашей беседы. Так, Берия пришел в сильное возбуждение, когда я рассказывал, какие приводил аргументы Коновальцу, чтобы отговорить его от проведения ОУН террористических актов против представителей советской власти на Украине. Я возражал ему, ссылаясь на то, что это может привести к гибели все украинское националистическое подполье, поскольку НКВД быстро нападет на след террористов. Коновалец же полагал, что подобные акты могут совершаться изолированными группами. Это, настаивал он, придаст им ореол героизма в глазах местного населения, послужит стимулом для начала широкой антисоветской кампании, в которую вмешаются Германия и Япония.
Будучи близоруким, Берия носил пенсне, что делало его похожим на скромного совслужащего. Вероятно, подумал я, он специально выбрал для себя этот образ: в Москве его никто не знает, и люди, естественно, при встрече не фиксируют свое внимание на столь ординарной внешности, что дает ему возможность, посещая явочные квартиры для бесед с агентами, оставаться неузнанным. Нужно помнить, что в те годы некоторые из явочных квартир в Москве, содержавшихся НКВД, находились в коммуналках. Позднее я узнал: первое, что сделал Берия, став заместителем Ежова, это подключил на себя связи с наиболее ценной агентурой, ранее находившейся в контакте с руководителями ведущих отделов и управлений НКВД, которые подверглись репрессиям.
Я получил пятидневный отпуск, чтобы навестить мать, которая все еще жила в Мелитополе, а затем родителей жены в Харькове. Предполагалось, что, возвратясь в Москву, я получу должность помощника начальника Иностранного отдела. Шпигельглас и Пассов были в восторге от моей встречи с Берией и, провожая меня на Киевском вокзале, заверили, что по возвращении в Москву на меня будет также возложено непосредственное руководство разведывательно‑диверсионной работой в Испании.
Во время поездки жена рассказала мне о трагических событиях, которые произошли в стране и в органах безопасности. Ежов провел жесточайшие репрессии: арестовал весь руководящий состав контрразведки НКВД в 1937‑м, в 1938 году репрессии докатились и до Иностранного отдела. Жертвами стали многие наши друзья, которым мы полностью доверяли и в чьей преданности не сомневались. Мы думали тогда, что это стало возможным из‑за преступной некомпетентности Ежова, которая становилась очевидной даже рядовым оперативным работникам.
Здесь мне хотелось бы привести факт, который при всей его важности не упоминается в книгах, посвященных истории советских спецслужб. До прихода Ежова в НКВД там не было подразделения, занимавшегося следствием, то есть следственной части. Оперработник при Дзержинском (а также и Менжинском), работая с агентами и осведомителями курируемого участка, должен был сам вести следствие, допросы, готовить обвинительные заключения. При Ежове и Берии была создана специальная следственная часть, которая буквально выбивала показания у арестованных о «преступной деятельности», не имевшие ничего общего с реальной действительностью. Оперативные работники, курировавшие конкретные объекты промышленности и госаппарата, имели более или менее ясные представления о кадрах этих учреждений и организаций. Пришедшие же по партпризыву, преимущественно молодые без жизненного опыта кадры следственной части, с самого начала оказались вовлеченными в порочный круг. Они оперировали признаниями, выбитыми у подследственных. Не зная азов оперативной работы, проверки реальных материалов, они оказались соучастниками преступной расправы с невинными людьми, учиненной по инициативе высшего и среднего звена руководства страны. Как результат, возникла целая волна арестов, вызванных воспаленным воображением следователей и выбитыми из подследственных «свидетельствами». Все мы надеялись, что с назначением Берии в декабре 1938 года наркомом внутренних дел, ввиду его высокого профессионализма и в связи с известным постановлением ЦК, допущенные перегибы будут выправлены. Понятно, что эта надежда была наивной, но мы искренне верили тогда в порядочность и безусловную честность наших непосредственных руководителей. Мы знали, к примеру, что Слуцкий и Шпигельглас отправляли из Москвы и устраивали на жительство жен и детей некоторых наших коллег, подвергшихся аресту, чтобы они, в свою очередь, не стали жертвами репрессий.
Из поездки я вернулся в Москву немало озадаченный слухами о творившихся на Украине жестокостях, о которых мы услышали от своих родственников. Я никак не мог заставить себя поверить, к примеру, что Хатаевич, ставший к тому времени секретарем ЦК компартии Украины, был врагом народа. Косиор, якобы состоявший в контакте с распущенной Коминтерном компартией Польши, был арестован в Москве. Подлинной причиной всех этих арестов, как я думал тогда, были действительно допущенные ими ошибки. В частности, Хатаевич во время массового голода дал согласие на продажу муки, составлявшей неприкосновенный запас на случай войны. За это в 1934 году он получил из Москвы выговор по партийной линии. Может быть, думал я, он совершил еще какую‑нибудь ошибку в этом же роде. Повторяю снова: увы, я был наивен.
В Москве Пассов и Шпигельглас сообщили, что меня ожидает новое назначение… должность помощника начальника Иностранного отдела. Это назначение, однако, подлежало еще утверждению ЦК партии, поскольку речь шла о руководящей должности, входившей в номенклатуру. И хотя приказа о моем новом назначении не последовало, фактически с августа по ноябрь 1938 года я исполнял эти обязанности.
Начало моей новой работы нельзя было назвать удачным. Я быстро понял, что мой начальник Пассов не имел никакого опыта оперативной работы за границей. Для него вопросы вербовки агентов на Западе и контакты с ними были настоящей «терра инкогнита». Он полностью доверял любой информации, полученной от агентуры, и не имел представления о методах проверки донесений зарубежных источников. Опыт его оперативной работы в контрразведке и в области следственных действий против «врагов народа» не мог ему помочь. Я был просто в ужасе, узнав, что он подписал директиву, позволявшую каждому оперативному сотруднику закордонной резидентуры использовать свой собственный шифр и в обход резидента посылать сообщения непосредственно в Центр, если у него могли быть причины не доверять своему непосредственному начальнику. Лишь позднее стало понятным, почему такого рода документ появился на свет. На Пленуме ЦК партии в марте 1937 года от НКВД потребовали «укрепить кадры» Иностранного отдела. Преступность этого требования заключалась в том, что им прикрывалось желание руководства страны избавиться от ставшего неугодным старого руководства органов советской разведки.
В 1936 году испанские республиканцы согласились сдать на хранение большую часть испанского золотого запаса общей стоимостью более полумиллиарда долларов в Москву. Осенью 1938 года Агаянц прислал в Центр из Парижа телеграмму, в которой сообщал, что в Москву отослано далеко не все испанское золото, драгоценные металлы и камни. В телеграмме указывалось, что якобы часть этих запасов была разбазарена республиканским правительством при участии руководства резидентуры НКВД в Испании.
О телеграмме немедленно доложили Сталину и Молотову, которые приказали Берии провести проверку информации. Однако когда мы обратились к Эйтингону, резиденту в Испании, за разъяснением обстоятельств этого дела, он прислал в ответ возмущенную телеграмму, состоявшую почти из одних ругательств. «Я, – писал он, – не бухгалтер и не клерк. Пора Центру решить вопрос о доверии Долорес Ибаррури, Хосе Диасу, мне и другим испанским товарищам, каждый день рискующим жизнью в антифашистской войне во имя общего дела. Все запросы следует переадресовать к доверенным лицам руководства ЦК французской и испанской компартий Жаку Дюкло, Долорес Ибаррури и другим. При этом надо понять, что вывоз золота и ценностей проходил в условиях боевых действий».
Телеграмма Эйтингона произвела большое впечатление на Сталина и Берию. Последовал приказ: разобраться во взаимоотношениях сотрудников резидентуры НКВД во Франции и Испании.
Я получил также личное задание от Берии ознакомиться со всеми документами о передаче и приеме испанских ценностей в Гохран СССР. Но легче было это сказать, чем сделать, поскольку разрешение на работу с материалами Гохрана должен был подписать Молотов. Его помощник между тем отказывался подавать документ на подпись без визы Ежова, народного комиссара НКВД, – подписи одного Берии тогда было недостаточно. В то время я был совершенно незнаком со всеми этими бюрократическими правилами и передал документ Ежову через его секретариат. На следующее утро он все еще не был подписан. Берия отругал меня по телефону за медлительность, но я ответил, что не могу найти Ежова – его нет на Лубянке. Берия раздраженно бросил:
– Это не личное, а срочное государственное дело. Пошлите курьера к Ежову на дачу, он нездоров и находится там.
Его непочтительный тон в адрес Ежова, кандидата в члены Политбюро, несколько озадачил и удивил меня.
Вместе с курьером нас отвезли на дачу наркома в Озеры, недалеко от Москвы. Выглядел Ежов как‑то странно: мне показалось, что я даю документ на подпись либо смертельно больному человеку, либо человеку, пьянствовавшему всю ночь напролет. Он завизировал бумагу, не задав ни одного вопроса и никак не высказав своего отношения к этому делу. Я тут же отправился в Кремль, чтобы передать документ в секретариат правительства. Оттуда я поехал в Гохран в сопровождении двух ревизоров, один из которых, Верен зон, был главным бухгалтером ЧК – НКВД еще с 1918 года. До революции он занимал должность ревизора в Российской страховой компании, помещение которой занял Дзержинский.
Ревизоры работали в Гохране в течение двух недель, проверяя всю имевшуюся документацию. Никаких следов недостачи ими обнаружено не было. Ни золото, ни драгоценности в 1936–1938 годах для оперативных целей резидентами НКВД в Испании и во Франции не использовались. Именно тогда я узнал, что документ о передаче золота подписали премьер‑министр Испанской республики Франциско Ларго Кабальеро и заместитель народного комиссара по иностранным делам Крестинский, расстрелянный позже как враг народа вместе с Бухариным после показательного процесса в 1938 году.
Золото вывезли из Испании на советском грузовом судне, доставившем сокровища из Картахены, испанской военно‑морской базы, в Одессу, а затем поместили в подвалы Госбанка. В то время его общая стоимость оценивалась в 318 миллионов долларов. Другие ценности, предназначавшиеся для оперативных нужд испанского правительства республиканцев с целью финансирования тайных операций, были нелегально вывезены из Испании во Францию, а оттуда доставлены в Москву – в качестве дипломатического груза.
Испанское золото в значительной мере покрыло наши расходы на военную и материальную помощь республиканцам в их войне с Франко и поддерживавших его Гитлером и Муссолини, а также для поддержки испанской эмиграции. Эти средства пригодились и для финансирования разведывательных операций накануне войны в Западной Европе в 1939 году.
Однако вопрос о золоте после разоблачений Орлова в 1953–1954 годах получил новое развитие. Испанское правительство Франко неоднократно поднимало вопрос о возмещении вывезенных ценностей. О судьбе золота меня и Эйтингона допрашивали работники разведки КГБ в 1950–1960 годах, когда мы сидели в тюрьме. В итоге, как мне сообщили, «наверху» в 1960‑егоды было принято решение – компенсировать испанским властям утраченный в 1937 году золотой запас поставкой нефти в Испанию по клиринговым ценам.
В июле 1938 года, накануне побега Орлова, нашего резидента в Испании, циркулировали слухи о том, что он вскоре заменит Пассова на посту руководителя разведки НКВД. Однако арест его зятя, Кацнельсона, заместителя наркома внутренних дел Украины, репрессированного в 1937 или 1938 году, испугал Орлова.
Настоящая фамилия Орлова‑Никольского – Фельдбин, он же «Швед» или «Лева» в материалах оперативной переписки. На Западе, впрочем, он стал известен как Александр Орлов. Я встречался с ним и на Западе, и в Центре, но мимолетно. Тем не менее, считаю важным остановиться на этой фигуре подробнее, так как именно его разоблачения в 50‑х и 60‑х годах в значительной мере способствовали пониманию характера репрессий 37‑го года в Советском Союзе. Кстати, вопреки его утверждению, Орлов никогда не был генералом НКВД. На самом деле он имел звание майора госбезопасности, специальное звание, приравненное в 1945 году к рангу полковника. В начале 30‑х годов Орлов возглавлял отделение экономической разведки Иностранного отдела ОГПУ, был участником конспиративных контактов и связей с западными бизнесменами и сыграл важную роль в вывозе новинок зарубежной техники из Германии и Швеции в Союз.
Вдобавок Орлов был еще и талантливым журналистом. Он не был в Москве, когда шли аресты и расправы в 1934–1937 годах, но его книжная версия этих событий была принята публикой как истинная. Некоторые из наших авторов даже используют эту версию еще и сегодня для описания зверств сталинского режима. Конечно, в том, что им написано, немало правды, но надо помнить: этот человек был не слишком осведомлен о реальных событиях.
Орлов отлично владел английским, немецким и французским языками. Он весьма успешно играл на немецком рынке ценных бумаг. Им написан толковый учебник для высшей спецшколы НКВД по привлечению к агентурному сотрудничеству иностранцев. Раиса Соболь, ближайшая подруга моей жены, ставшая известной писательницей Ириной Гуро, в 20‑х годах работала в экономическом отделе ГПУ под его началом и необычайно высоко его ценила. Из числа своих осведомителей Орлову удалось создать группу неофициальной аудиторской проверки, которая выявила истинные доходы нэпманов. Этой негласной ревизионной службой Орлова руководил лично Слуцкий, в то время начальник экономического отдела, который затем, став руководителем Иностранного отдела, перевел Орлова на службу в закордонную разведку. В 1934–1935 годах Орлов был нелегальным резидентом в Лондоне, ему удалось закрепить связи с известной теперь всему миру группой: Филби, Макклин, Берджес, Кэрнкросс, Блант и др.
В августе 1936 года он был послан в Испанию после трагического любовного романа с молодой сотрудницей НКВД Галиной Войтовой. Она застрелилась прямо перед зданием Лубянки, после того как Орлов покинул ее, отказавшись развестись со своей женой. Слуцкий, его близкий друг, немедленно выдвинул его на должность резидента в Испании перед самым назначением Ежова наркомом внутренних дел в сентябре 1936 года. Орлову поручались ответственейшие секретные задания, одним из которых была успешная доставка золота Испанской республики в Москву. За эту дерзкую операцию он был повышен в звании. Газета «Правда» сообщала о том, что старший майор госбезопасности Никольский награждается орденом Ленина за выполнение важного правительственного задания. В том же номере газеты сообщалось, что майор госбезопасности Наумов (в действительности – Эйтингон) награждается орденом Красного Знамени, а капитан госбезопасности Василевский – орденом Красной Звезды.
Орлова весьма уважал также и Шпигельглас. Он часто посещал Испанию и рассказывал мне о том, что находившийся там Орлов прекрасно справлялся с заданиями по вербовке важной агентуры.
Кстати, Орлов сыграл видную роль в ликвидации руководителя испанских троцкистов Андрея Нина. Нин за участие в мятеже троцкистов в Барселоне был арестован республиканскими властями, а потом похищен Орловым из тюрьмы и убит неподалеку от Барселоны. Затем Орлов написал антитроцкистский памфлет, распространив его от имени Андрея Нина, и создал принятую официальными властями версию о содействии немецких спецслужб побегу Нина из‑под стражи. Эта акция нанесла серьезный урон престижу троцкистского движения в Испании. Об успешных дезинформационных действиях Орлова и ликвидации троцкистов в Испании Ежов непосредственно докладывал Сталину.
В июле 1938 года Шпигельглас, как намечалось заранее, должен был встретиться с Орловым на борту советского судна в бельгийских территориальных водах для получения регулярного отчета. Шпигельглас подозревал, что у французской и бельгийской спецслужб имеются основания задержать его, так как годом раньше арестовали некоторых его агентов, оказавшихся замешанными в похищении белогвардейского генерала Миллера. По этой причине Шпигельглас боялся сойти на берег. Орлов же боялся совсем другого: он подозревал, что свидание на судне подстроено, чтобы захватить его и арестовать. На встречу со Шпигельгласом он так и не явился.
Орлов скрылся, и лишь в ноябре нам стало известно, что он объявился в Америке. До того, как это произошло, я подписал так называемую «ориентировку» по его розыску, которую надлежало передать по нашим каналам во все резидентуры. В этом документе содержалось полное описание Орлова и его привычек, а также описание жены и дочери, которых в последний раз видели вместе с ним во Франции. В ориентировке указывалась причина возможного исчезновения Орлова и его семьи – похищение их одной из спецслужб: британской, германской или французской. В особенности я подчеркивал тот факт, что Орлов был известен французским и британским властям как эксперт советской делегации, участвовавший, притом дважды, в работе Международного комитета за невмешательство в гражданскую войну в Испании. Другой причиной могла быть его измена: из сейфа резидентуры в Барселоне исчезло шестьдесят тысяч долларов, предназначавшихся для оперативных целей. Его исчезновение беспокоило нас еще и потому, что Орлов был хорошо осведомлен о нашей агентурной сети в Англии, Франции, Германии и, конечно, в Испании.
В ноябре 1938 года меня вызвал Берия и, давая указания, неожиданно распорядился прекратить дальнейший розыск Орлова. Возобновить поиски я должен был лишь по его прямому указанию. Орлов, оказывается, направил из Америки письмо лично Сталину и Ежову, в котором свое бегство объяснял тем, что опасался неизбежного ареста на борту советского судна.
В письме также говорилось, что в случае попыток выяснить его местопребывание или установить за ним слежку он даст указание своему адвокату обнародовать документы, помещенные им в сейф в швейцарском банке. В них содержалась информация о фальсификации материалов, переданных Международному комитету за невмешательство в гражданскую войну в Испании. Орлов также угрожал рассказать всю историю, связанную с вывозом испанского золота, его тайной доставкой в Москву со ссылкой на соответствующие документы. Это разоблачение поставило бы в неловкое положение как советское правительство, так и многочисленных испанских беженцев, поскольку советская военная поддержка республиканцев в гражданской войне считалась официально бескорыстной. Плата, полученная нами в виде золота и драгоценностей, была окружена тайной. Орлов просил Сталина не преследовать его пожилую мать, оставшуюся в Москве, и если его условия будут приняты, он не раскроет известную ему зарубежную агентуру и секреты НКВД, которые он знает.
Я не верю, что причина, по которой Орлов не выдал кембриджскую группу или обстоятельства похищения генерала Миллера, заключалась в его лояльности по отношению к советской власти. Речь шла просто о выживании.
В августе 1938 года я впервые узнал о похищениях и ликвидации троцкистов и перебежчиков, проводившихся О ГПУ– НКВД в Европе в 30‑х годах. В этой связи заслуживает некоторых уточнений дело Рейсса (настоящая фамилия Порецкий), разведчика‑нелегала, засланного в Западную Европу. Им были получены большие суммы денег, за которые он не смог отчитаться, и Рейсс опасался, что может стать жертвой репрессий. Он взял деньги, предназначавшиеся для оперативных целей, и скрылся. Деньги он положил в один из американских банков. Перед своим побегом в 1937 году Рейсс написал письмо в советское полпредство во Франции, в котором осуждал Сталина. Это письмо появилось затем в одном из троцкистских изданий и стало для него роковым, хотя из досье Рейсса было видно, что он никогда не симпатизировал ни самому Троцкому, ни какой‑либо из групп, которые его поддерживали. Тем не менее, после появления в троцкистской печати этого письма Рейссу заочно был вынесен смертный приговор.
Рейсс вел довольно беспорядочный образ жизни, и агентурная сеть Шпигельгласа в Париже весьма скоро засекла его. Ликвидация была выполнена двумя агентами: болгарином (нашим нелегалом) Афанасьевым и его шурином Правдиным в Швейцарии. Они подсели к нему за столик в маленьком ресторанчике в пригороде Лозанны. Рейсс с удовольствием выпивал с двумя болгарами, прикинувшимися бизнесменами. Афанасьев и Правдин имитировали ссору с Рейссом, вытолкнули его из ресторана и, запихнув в свою машину, увезли. В трех километрах от этого места они расстреляли Рейсса, оставив труп на обочине дороги.
Я принял Афанасьева и Правдина на явочной квартире в Москве, куда они вернулись после выполнения задания. Вместе с ними был и Шпигельглас, который их курировал. Афанасьев и Правдин были награждены орденами. По специальному правительственному постановлению мать Правдина, проживавшая в Париже, получила пожизненную пенсию. Афанасьев стал офицером разведки и прослужил до 1953 года, а Правдин поступил на работу в Издательство иностранной литературы в Москве, где работал до своей смерти в 1970 году. По‑моему, следует уточнить: слухи о том, что Сергей Эфрон, муж поэтессы Марины Цветаевой, был одним из тех, кто навел НКВД на Рейсса, является чистым вымыслом. Эфрон, работавший на НКВД в Париже, не располагал никакими сведениями о местонахождении Рейсса.
Другой эпизод, также требующий комментариев, касается Атабекова. В 20‑х годах Атабеков был резидентом ОГПУ в Стамбуле. Он стал перебежчиком из‑за своей близости к Блюмкину, которого обвинили в сочувствии взглядам Троцкого. Полагают, что сыграла свою роль и его любовь к дочери британского разведчика в Стамбуле. Испытывая отчаянную нужду в деньгах, Атабеков написал и опубликовал на Западе две книги. Он также был замешан в темных махинациях с кавказскими эмигрантами, которым обещал контрабандой переправлять спрятанные ими семейные сокровища из Советского Союза.
Сообщалось, что Атабеков пропал в Пиренеях на границе с Испанией. На самом деле его ликвидировали в Париже, заманив на явочную квартиру, где он должен был якобы договориться о тайном вывозе бриллиантов, жемчуга и драгоценных металлов, принадлежащих богатой армянской семье. Армянин, которого он встретил в Антверпене, был подсадной уткой. Он‑то и заманил Агабекова на явочную квартиру, сыграв на его национальных чувствах. Там на квартире его уже ждали боевик, бывший офицер турецкой армии, и молодой нелегал Коротков, в 40‑е годы ставший начальником нелегальной разведки МГБ СССР. Турок убил Агабекова ножом, после чего его тело запихнули в чемодан, который выкинули в реку. Труп так никогда и не был обнаружен.
Турок и Коротков провели еще одну террористическую операцию в 1938 году. Эйл Таубман, молодой агент с кодовым именем «Юнец», выходец из Литвы, сумел войти в доверие к Рудольфу Клементу, возглавлявшему троцкистскую организацию в Европе и являвшемуся секретарем так называемого IV Интернационала. В течение полутора лет Таубман работал помощником Клемента. Как‑то вечером Таубман предложил Клементу поужинать с его друзьями и привел его на квартиру на бульваре Сен‑Мишель, где уже находились турок и Коротков. Турок заколол Клемента, тело положили в чемодан, затем бросили в Сену. Оно было найдено и опознано французской полицией, но к этому времени Таубман, Коротков и турок находились уже далеко от Парижа.
В Москве их ждали награды, а я должен был позаботиться об их будущей работе. Турок стал «хозяином» явочной квартиры в Москве. Таубман сменил фамилию на «Семенов» и был послан на учебу в Институт химического машиностроения. Позднее он перешел на службу в органы госбезопасности.
Следующий эпизод связан с судьбой одного из перебежчиков в 30‑х годах, Кривицкого. Офицер военной разведки Кривицкий, бежавший в 1937 году и объявившийся в Америке в 1939‑м, выпустил книгу под названием «Я был агентом Сталина». В феврале 1941 года его нашли мертвым в одной из гостиниц Вашингтона. Предполагалось, что он был убит НКВД, хотя официально сообщалось, что это самоубийство. Существовала, правда, ориентировка о розыске Кривицкого, но такова была обычная практика по всем делам перебежчиков.
В Разведупре Красной Армии и НКВД, конечно, не жалели о его смерти, но она, насколько мне известно, не была делом наших рук. Мы полагали, что он застрелился в результате нервного срыва, не справившись с депрессией.
Глава 3
Годы репрессий
Когда погибает перебежчик или кто‑либо из политических деятелей, тут же начинают выдвигать самые разные версии ухода человека из жизни. Наиболее естественная причина смерти или логически объяснимый мотив убийства зачастую остаются погребенными под напластованиями лжи из‑за недомолвок и взаимного сведения счетов.
Классическим примером в этом отношении является смерть Кирова, ленинградского партийного руководителя, убитого в 1934 году.
Киров был убит Николаевым. Жена Николаева, Мильда Драуле, работала официанткой при секретариате Кирова в Смольном. Естественно, охрана пропускала Николаева в Смольный по партбилету. Кстати говоря, по партбилету можно было войти в любую партийную инстанцию, кроме ЦК ВКП(б). В Смольном, как и в других обкомах, не было системы спецпропусков для членов партии, и Николаеву требовалось только предъявить свой партбилет, чтобы попасть туда, куда был запрещен вход посторонним.
От своей жены, которая в 1933–1935 годах работала в НКВД в секретном политическом отделе, занимавшемся вопросами идеологии и культуры (ее группа, в частности, курировала Большой театр и Ленинградский театр оперы и балета, впоследствии театр им. С.М. Кирова), я узнал, что Сергей Миронович очень любил женщин, и у него было много любовниц как в Большом театре, так и в Ленинградском. (После убийства Кирова отдел НКВД подробно выяснял интимные отношения Сергея Мироновича с артистками.) Мильда Драуле прислуживала на некоторых кировских вечеринках. Эта молодая привлекательная женщина также была одной из его «подружек». Ее муж Николаев отличался неуживчивым характером, вступал в споры с начальством и в результате был исключен из партии. Через свою жену он обратился к Кирову за помощью, и тот содействовал его восстановлению в партии и устройству на работу в райком. Мильда собиралась подать на развод, и ревнивый супруг убил «соперника». Это убийство было максимально использовано Сталиным для ликвидации своих противников и развязывания кампании террора. Так называемый заговор троцкистов, жертвой которого якобы пал Киров, с самого начала был сфабрикован самим Сталиным. Сталин, а за ним Хрущев и Горбачев, исходя из своих собственных интересов и желая отвлечь внимание от очевидных провалов руководства страной, пытались сохранить репутацию Кирова как рыцаря без страха и упрека. Коммунистическая партия, требовавшая от своих членов безупречного поведения в личной жизни, не могла объявить во всеуслышание, что один из ее столпов, руководитель ленинградской партийной организации, в действительности запутался в связях с замужними женщинами.
Официальные версии убийства, опубликованные в прессе, представляют собой вымысел от начала до конца. Сталинская версия заключалась в том, что Николаеву помогали руководители ленинградского НКВД Медведь и Запорожец по приказу Троцкого и Зиновьева. Для Сталина смерть Кирова создавала удобный миф о тайном заговоре, что позволило ему обрушиться с репрессиями на своих врагов и возможных соперников. Хрущевская же версия такова: Кирова убил Николаев с помощью Медведя и Запорожца по приказу Сталина. Но документы показывают, что Запорожец, считавшийся ключевой фигурой среди заговорщиков и якобы связанный с Николаевым по линии НКВД, в то время сломал ногу и находился на лечении в Крыму. Возникает вопрос: мог ли один из руководителей, готовивших заговор, отсутствовать так долго в самый решающий период трагических событий?
Хрущев, подчеркивая тот факт, что многие партийные руководители упрашивали Кирова выставить свою кандидатуру на пост Генерального секретаря на XVII съезде партии, обвинял Сталина в том, что, узнав о существующей оппозиции, решил ликвидировать Кирова. Для Хрущева подобная версия давала возможность выставить еще одно обвинение в длинном списке преступлении Сталина. Документов и свидетельств, подтверждающих причастность Сталина или аппарата НКВД к убийству Кирова, не существует. Киров не был альтернативой Сталину. Он был одним из непреклонных сталинцев, игравших активную роль в борьбе с партийной оппозицией, беспощадных к оппозиционерам и ничем в этом отношении не отличавшимся от других соратников Сталина.
Версия Хрущева была позднее одобрена и принята Горбачевым как часть антисталинской кампании. Скрывая истинные факты, руководители пытались спасти репутацию коммунистической партии, искали фигуры, популярные в партии, которые якобы противостояли вождю. Создавался миф о здоровом ядре в ЦК во главе с Кировым в противовес Сталину и его единомышленникам.
Вся семья Николаева, Мильда Драуле и ее мать, были расстреляны через два или три месяца после покушения. Мильда и ее семья, невинные жертвы произвола, не были реабилитированы до 30 декабря 1990 года, когда их дело всплыло на страницах советской прессы.
Высшие чины НКВД, особенно те, кто был осведомлен о личной жизни Кирова, знали: причина его убийства – ревность обманутого мужа. Но никто из них не осмеливался даже заговорить об этом, так как версию о заговоре против партии выдвинул сам Сталин, и оспаривать ее было крайне опасно.
До убийства Кирова Сталина нередко можно было встретить на Арбате в сопровождении Власика – начальника личной охраны и двух телохранителей. Он часто заходил к поэту Демьяну Бедному, иногда посещал своих знакомых, живших в коммунальных квартирах. Сотрудники НКВД и ветераны, имевшие значок «Почетный чекист», на котором изображены щит и меч, и удостоверение к нему, могли беспрепятственно пройти на Лубянку; они имели право прохода всюду, кроме тюрем. Вся эта система была немедленно изменена: убийство Кирова явилось предлогом для ужесточения контроля, который никогда уже больше не ослабевал.
Спекуляции по поводу смерти Кирова продолжались и в 60‑х годах. Я помню анонимные письма, утверждавшие, что действительный убийца сумел скрыться. Дмитрий Ефимов, министр госбезопасности Литвы в 40‑х годах, после войны рассказывал мне, что получил приказ искать убийцу Кирова, якобы скрывающегося в небольшом литовском городке. Его сотрудникам удалось найти автора анонимного письма, послужившего сигналом к поискам. Им оказался алкоголик. Однако расследование этого анонимного сигнала проводилось под непосредственным наблюдением Комитета партийного контроля при ЦК КПСС.
Заключение Комиссии партконтроля об обстоятельствах смерти Кирова так и не было опубликовано. Только после того, как в июле 1990 года известная комиссия по репрессиям была распущена, прокуратура направила надзорный протест в Верховный Суд СССР по вопросу посмертной реабилитации членов семьи Николаева. Дело закрыли лишь 30 декабря 1990 года, когда все члены семьи Николаева были официально реабилитированы Верховным Судом СССР. Постановление суда отмечало, что никакого заговора с целью убийства Кирова не существовало, и все «соучастники» Николаева являлись просто знакомыми Кирова или свидетелями его эксцессов.
Но даже тогда, при этой системе так называемого правового государства, ни Медведь, ни Запорожец реабилитированы не были, и с них не сняты обвинения в государственной измене, включая заговор с целью убийства Кирова и сотрудничество с немецкой и латышской разведкой. В чем же причина? Она в том, что прокуратура попросту боялась поднимать этот вопрос, поскольку Медведь и Запорожец считаются виновными в репрессиях, совершенных в ранний период сталинских чисток.
Среди историков партии давно бытовало мнение, что роман Мильды Драуле с Кировым закончился смертельным исходом из‑за ревности ее мужа, Николаева, известного своей неуравновешенностью и скандальным характером. Если бы обнародовали это мнение, то на всеобщее обозрение была бы выставлена неприглядная картина личной жизни Кирова, и тем самым нарушено святое правило партии – никогда не приоткрывать завесы над личной жизнью членов Политбюро и не копаться в их грязном белье.
4 ноября 1990 года газета «Правда» опубликовала новые материалы КГБ и прокуратуры по расследованию дела Кирова, где утверждалось, что его убийство носило сугубо личный характер, хотя не раскрывались подробности и мотивы преступления. «Правда» даже не упомянула имени Мильды Драуле. В публикации содержалось обвинение в адрес Яковлева, оставившего пост председателя партийной комиссии по расследованию сталинских репрессий, который якобы тормозил реабилитацию семьи Николаева и невинных людей, обвинявшихся в том, что они принимали участие в заговоре.
Возмущенный Яковлев ответил через ту же газету («Правда» от 28 января 1991 года), что он до сих пор верит в существование заговора с целью убийства Кирова и нескольких версий, как это убийство замышлялось. При этом Яковлев не упомянул ни о Мильде Драуле, ни о якобы имевшей место попытке выдвинуть Кирова взамен Сталина Генеральным секретарем на XVII съезде партии.
В книге «Сталин: триумф и трагедия» Дмитрий Волкогонов ссылается на слухи о романе Мильды Драуле с Кировым, но отвергает их как клеветнические. Материалы, показывающие особые отношения между Мильдой Драуле и Кировым, о которых я узнал от своей жены и генерала Райхмана, в то время начальника контрразведки в Ленинграде, содержались в оперативных донесениях осведомителей НКВД из ленинградского балета. Балерины из числа любовниц Кирова, считавшие Драуле своей соперницей и не проявившие достаточной сдержанности в своих высказываниях на этот счет, были посажены в лагеря за «клевету и антисоветскую агитацию».
…Имя Кирова и память о нем были священны. В глазах народа Киров был идеалом твердого большевика, верного сталинца, и, конечно же, только враги могли убить такого человека. Я тогда ни на минуту не сомневался в необходимости охранять престиж правящей партии и не открывать подлинных фактов, касавшихся убийства Кирова. Мы, чекисты, неофициально назывались людьми, взявшими на себя роль чернорабочих революции, но все же при этом испытывали самые противоречивые чувства. В тс дни я искренне верил – продолжаю верить и сейчас, – что Зиновьев, Каменев, Троцкий и Бухарин были подлинными врагами Сталина. В рамках той тоталитарной системы, частью которой они являлись, борьба со Сталиным означала противостояние партийно‑государственной системе советского государства. Рассматривая их как наших врагов, я не мог испытывать к ним никакого сочувствия. Вот почему мне казалось, что даже если обвинения, выдвинутые против них, и преувеличены, это, в сущности, мелочи. Будучи коммунистом‑идеалистом, я слишком поздно осознал всю важность такого рода «мелочей» и с сожалением вижу, что был не прав.
Сознательно или бессознательно, но мы позволили втянуть себя в работу колоссального механизма репрессий, и каждый из нас обязан покаяться за страдания невинных. Масштабы этих репрессий ужасают меня. Давая сегодня историческую оценку тому времени, времени массовых репрессий – а они затронули армию, крестьянство и служащих, – я думаю, их можно уподобить расправам, проводившимся в царствование Ивана Грозного и Петра Первого. Недаром Сталина называют Иваном Грозным XX века. Трагично, что наша страна имеет столь жестокие традиции.
Сталин манипулировал делом Кирова в своих собственных интересах, и «заговор» против Кирова был им искусно раздут. Он сфабриковал «грандиозный заговор» не только против Кирова, но и против самого себя. Убийство Кирова он умело использовал для того, чтобы убрать тех, кого подозревал как своих потенциальных соперников или нелояльных оппонентов, чего он просто не мог перенести. Сначала в число «заговорщиков» попали знакомые Николаева, затем – семья Драуле, после чего настала очередь Зиновьева и Каменева, первоначально обвиненных в моральной ответственности за это убийство, а потом в его непосредственной организации. Коллег и знакомых Николаева причислили к зиновьевской оппозиции. Затем Сталин решил отделаться от Ягоды и тех должностных лиц, которые знали правду. Они тоже оказались притянутыми к заговору и были уничтожены. Позднее Ягоду сделали главным организатором убийства Кирова и, как рассказывал мне Райхман, Сталин, боявшийся разглашения личных мотивов «теракта» Николаева, даже распорядился установить негласный надзор за вдовой Кирова до самой ее кончины.
В подобной обстановке сказать правду о Кирове было немыслимо. Никто в верхних эшелонах власти не мог помешать Сталину использовать это убийство в своих целях. Впоследствии дело Кирова замалчивалось в угоду политическим соображениям или использовалось для того, чтобы отвлечь внимание общественности от ухудшавшегося экономического и политического положения. Каждое новое расследование, подчиненное требованиям политической конъюнктуры, только плодило ложь, еще больше затрудняя для будущих поколений возможность реконструировать действительные события.
Я убежден: убийство Кирова было актом личной мести, но обнародовать этот факт означало нанести вред партии, являвшейся инструментом власти и примером высокой морали для советских людей. До сегодняшнего дня истину продолжают скрывать, и Киров остается символом святости для приверженцев старого режима.
В 1938 году атмосфера была буквально пронизана страхом, в ней чувствовалось что‑то зловещее. Шпигельглас, заместитель начальника закордонной разведки НКВД, с каждым днем становился все угрюмее. Он оставил привычку проводить воскресные дни со мной и другими друзьями по службе. В сентябре секретарь Ежова, тогдашнего главы НКВД, застрелился в лодке, катаясь по Москве‑реке. Это для нас явилось полной неожиданностью. Вскоре появилось озадачившее всех распоряжение, гласившее: ордера на арест без подписи Берии, первого заместителя Ежова, недействительны. Ходили слухи, что Берия уменьшительно‑ласково называл Ежова «мой дорогой Ежик» и имел обыкновение похлопывать его по спине, однако его дружеское поведение было чисто показным. На Лубянке люди казались сдержанными и уклонялись от любых разговоров. В НКВД работала специальная проверочная комиссия из ЦК.
Мне ясно вспоминаются события, которые вскоре последовали. Наступил ноябрь, канун октябрьских торжеств. И вот в 4 часа утра меня разбудил настойчивый телефонный звонок: звонил Козлов, начальник секретариата Иностранного отдела. Голос звучал официально, но в нем угадывалось необычайное волнение.
– Павел Анатольевич, – услышал я, – вас срочно вызывает к себе первый заместитель начальника Управления госбезопасности товарищ Меркулов. Машина уже ждет вас. Приезжайте как можно скорее. Только что арестованы Шпигельглас и Пассов.
Жена крайне встревожилась. Я решил, что настала моя очередь.
На Лубянке меня встретил сам Козлов и проводил в кабинет Меркулова. Тот приветствовал меня в своей обычной вежливой, спокойной манере и предложил пройти к Лаврентию Павловичу. Нервы мои были напряжены до предела. Я представил, как меня будут допрашивать о моих связях со Шпигельгласом. Но как ни поразительно, никакого допроса Берия учинять мне не стал. Весьма официальным тоном он объявил, что Пассов и Шпигельглас арестованы за обман партии, и что мне надлежит немедленно приступить к исполнению обязанностей начальника Иностранного, то есть отдела закордонной разведки. Я должен буду докладывать непосредственно ему по всем наиболее срочным вопросам. На это я ответил, что кабинет Пассова опечатан, и войти туда я не могу.
– Снимите печати немедленно, а на будущее запомните: не морочьте мне голову такой ерундой. Вы не школьник, чтобы задавать детские вопросы.
Через десять минут я уже разбирал документы в сейфе Пассова. Некоторые были просто поразительны. Например, справка на Хейфеца, тогдашнего резидента в Италии. В ней говорилось о его связях с элементами, симпатизирующими идеологическим уклонам в Коминтерне, где тот одно время работал. Указывалось также на подозрительный характер его контактов с бывшими выпускниками Политехнического института в Йене (Германия) в 1926 году. До сих пор помню резолюцию Ежова на справке: «Отозвать в Москву. Арестовать немедленно».
Следующий документ – представление в ЦК ВКП(б) и Президиум Верховного Совета о награждении меня, Судоплатова Павла Анатольевича, орденом Красного Знамени за выполнение важного правительственного задания за рубежом в мае 1938 года, подписанное Ежовым. Тут же находился и неподписанный приказ о моем назначении помощником начальника Иностранного отдела. Я отнес эти документы Меркулову. Улыбнувшись, он, к моему немалому удивлению, разорвал их прямо у меня на глазах и выкинул в корзину для бумаг, предназначенных к уничтожению. Я молчал, но в душе было чувство обиды – ведь меня представляли к награде за то, что я действительно, рискуя жизнью, выполнил опасное задание. В тот момент я не понимал, насколько мне повезло: если бы был подписан приказ о моем назначении, то я автоматически согласно Постановлению ЦК ВКП(б) подлежал бы аресту как руководящий оперативный работник аппарата НКВД, которому было выражено политическое недоверие.
Позднее в кабинете, где я работал, зазвонил телефон. Это был Киселев, помощник Маленкова в Центральном комитете. Он возмущенно принялся выговаривать мне за задержку в передаче средств из специальных фондов, предназначавшихся для финансирования тайных операций Коминтерна в Западной Европе. Еще больше он был взбешен тем, что на заседании Испанской комиссии в Центральном комитете не было представителя от НКВД. Я постарался объяснить ему, что не знаю ни о каких фондах и не в курсе того, кто именно занимается их передачей. «А на совещании в ЦК, – сказал я, – от НКВД никто не присутствовал потому, что Пассов и его заместитель только что арестованы как враги народа». К этому я добавил, что приступил к исполнению своих обязанностей всего два часа назад. Киселев швырнул трубку.
За три недели своего пребывания в качестве исполняющего обязанности начальника отдела я смог узнать структуру и организацию проведения разведывательных операций за рубежом. В рамках НКВД существовали два подразделения, занимавшиеся разведкой за рубежом. Это Иностранный отдел, которым руководили сначала Трилиссер, потом Артузов, Слуцкий и Пассов. Задача отдела – собирать для Центра разведданные, добытые как по легальным (через наших сотрудников, имевших дипломатическое прикрытие или работавших в торговых представительствах за рубежом), так и по нелегальным каналам. Особо важными были сведения о деятельности правительств и частных корпораций, тайно финансирующих подрывную деятельность русских эмигрантов и белогвардейских офицеров в странах Европы и в Китае, направленную против Советского Союза. Иностранный отдел был разбит на отделения по географическому принципу, а также включал подразделения, занимавшиеся сбором научно‑технических и экономических разведданных. Эти отделения обобщали материалы, поступавшие от наших резидентур за границей – как легальных, так и нелегальных. Приоритет нелегальных каналов был вполне естествен, поскольку за рубежом тогда было не так уж много советских дипломатических и торговых миссий. Вот почему нелегальные каналы для получения интересовавших нас разведданных были столь важны.
В то же время существовала и другая разведывательная служба – Особая группа при наркоме внутренних дел, непосредственно находящаяся в его подчинении и глубоко законспирированная. В ее задачу входило создание резервной сети нелегалов для проведения диверсионных операций в тылах противника в Западной Европе, на Ближнем Востоке, Китае и США в случае войны. Учитывая характер работы, Особая группа не имела своих сотрудников в дипломатических и торговых миссиях за рубежом. Ее аппарат состоял из двадцати оперработников, отвечавших за координирование деятельности закордонной агентуры. Все остальные сотрудники работали за рубежом в качестве нелегалов. В то время, о котором я веду речь, число таких нелегалов составляло около шестидесяти человек. Вскоре мне стало ясно, что руководство НКВД могло по своему выбору использовать силы и средства Иностранного отдела и Особой группы для проведения особо важных операций, в том числе диверсий и ликвидации противников СССР за рубежом.
Особая группа иногда именовалась «Группа Яши», потому что более десяти с лишним лет возглавлялась Яковом Серебрянским. Именно его люди организовали в 1930 году похищение главы белогвардейского РОВСа в Париже – генерала Кутепова. До революции Серебрянский был членом партии эсеров. Он принимал личное участие в ликвидации чинов охранки, организовавших еврейские погромы в Могилеве (Белоруссия). «Группа Яши» создала мощную агентурную сеть в 20– 30‑х годах во Франции, Германии, Палестине, США и Скандинавии. Агентов они вербовали из коминтерновского подполья, тех, кто не участвовал в пропагандистских мероприятиях, и чье членство в национальных компартиях держалось в секрете. В ноябре 1938 года Серебрянский в числе руководителей НКВД оказался под арестом – его приговорили к смертной казни, но не расстреляли. В 1941 году, после того как началась война, он был освобожден и по моей инициативе стал начальником отделения, занимавшегося вербовкой агентуры по глубинному оседанию в странах Западной Европы и США.
В 1946 году министром госбезопасности был назначен Абакумов, и Серебрянскому пришлось выйти в отставку, так как в 1938 году именно Абакумов вел его дело и, применяя зверские пытки, выбил ложные показания. Естественно, Серебрянский не мог оставаться на работе с приходом нового министра. Он вышел в отставку в звании полковника и получал пенсию. После смерти Сталина его вернули на службу и назначили одним из моих заместителей в связи с планом расширения разведывательно‑диверсионных операций. Это было при Берии, в апреле 1933 года, а в октябре того же года он был арестован вместе с женой во второй раз – теперь ему ставилось в вину участие в так называемом бериевском заговоре с целью убийства членов Президиума Центрального комитета партии. Скончался он в тюрьме в 1936 году во время очередного допроса и был посмертно реабилитирован в 1971‑м при Андропове, узнавшем о судьбе Серебрянского во время подготовки первого учебника по истории советской разведки, которую начали писать по его указанию.
Лишь в 1963 году я узнал, что действительно стояло за кардинальными перестановками и чисткой в рядах НКВД в последние месяцы 1938 года. Полную правду об этих событиях, которая так никогда и не была обнародована, рассказали мне Мамулов и Людвигов, возглавлявшие секретариат Берии, – вместе со мной они сидели во Владимирской тюрьме. Вот как была запущена фальшивка, открывшая дорогу кампании против Ежова и работавших с ним людей. Подстрекаемые Берией, два начальника областных управлений НКВД из Ярославля и Казахстана обратились с письмом к Сталину в октябре 1938 года, клеветнически утверждая, будто в беседах с ними Ежов намекал на предстоящие аресты членов советского руководства в канун октябрьских торжеств. Акция по компрометации Ежова была успешно проведена. Через несколько недель Ежов был обвинен в заговоре с целью свержения законного правительства. Политбюро приняло специальную резолюцию, в которой высшие должностные лица НКВД объявлялись «политически неблагонадежными». Это привело к массовым арестам всего руководящего состава органов безопасности, и мне действительно повезло, что приказ Ежова о моем повышении остался неподписанным в сейфе у Пассова.
В декабре 1938 года Берия официально взял в свои руки бразды правления в НКВД, а Деканозов стал новым начальником Иностранного отдела. У него был опыт работы в Азербайджанском ГПУ при Берии в качестве снабженца. Позднее в Грузии Деканозов был народным комиссаром пищевой промышленности, где и прославился своей неумеренной любовью к роскоши. Сдавая дела, я, как исполнявший обязанности начальника отдела, объяснил ему некоторые особенности нашей агентурной работы в Западной Европе, США и Китае. Но Деканозов, не дослушав меня до конца, распорядился, чтобы я проследил за вещами бежавшего Орлова, которые были отправлены из Барселоны в Москву. Мне надлежало доставить их в его кабинет – он хотел лично ознакомиться с ними.
На следующий день Берия представил Деканозова сотрудникам разведслужбы. Официальным и суровым тоном Берия сообщил о создании специальной комиссии во главе с Деканозовым по проверке всех оперативных работников разведки. Комиссия должна была выяснить, как разоблачаются изменники и авантюристы, обманывающие Центральный комитет партии. Берия объявил о новых назначениях Гаранина, Фитина, Леоненко и Лягина. Он также подчеркнул, что все остающиеся сотрудники будут тщательно проверены. Новые руководители пришли в разведку по партийному набору. Центральный комитет наводнил ряды НКВД партийными активистами и выпускниками Военной академии им. Фрунзе. Что касается меня, то я был понижен до заместителя начальника испанского отделения. Подобным же образом поступили и с другими ветеранами разведслужбы, которые также были понижены в должности до помощников начальников отделений.
Берия в беседе с каждым сотрудником, присутствовавшим на встрече, пытался выведать, не является ли он двойным агентом, и говорил, что под подозрением сейчас находятся все. Моя жена была одной из четырех женщин – сотрудников разведслужбы. Нагло смерив ее взглядом, Берия спросил, кто она такая: немка или украинка. «Еврейка», – к удивлению Берии, ответила она. С того самого дня жена постоянно предупреждала меня, чтобы я опасался Берии. Предполагая, что наша квартира может прослушиваться, она придумала для него кодовую кличку, чтобы мы не упоминали его имени в своих разговорах дома. Она называла его князем Шадиманом по имени героя романа Антоновской «Великий Моурави», который пал в борьбе за власть между грузинскими феодалами. Дальновидность моей жены в отношении судьбы Берии и ее постоянные советы держаться подальше от него и его окружения оказались пророческими.
После представления нового руководства у Берии последовало партсобрание – это был следующий этап кампании. На нем мой сослуживец, которого я знал по Харькову, Гукасов, армянин, неожиданно предложил партийному бюро рассмотреть мои подозрительные связи. Он сказал, что меня перевел в Москву враг народа Балицкий. Он обвинил меня также в том, что я поддерживал дружеские отношения с другими недавно разоблаченными врагами народа – Шпигельгласом, Раисой Соболь и ее мужем, Ревзиным, Яриковым, заместителем нашего резидента в Китае, известным своими саркастическими остротами о выполнении пятилеток (мне вспоминается одна из них: «В четвертом завершающем блат является решающим»).
Партийное бюро создало комиссию по моему делу. Один из моих близких знакомых, Гессельберг, начальник фотолаборатории (он отвечал за благонадежность фотокорреспондентов, которые снимали Сталина), задавал глупейшие вопросы и утверждал, что я защищаюсь как «типичный троцкистский двурушник».
Я не держу зла ни на Гукасова, ни на Гессельберга.
…Три года спустя Гукасов, будучи советским консулом в Париже, проснулся, когда гестаповцы штурмом брали здание, где он находился. Наш шифровальщик Марина Сироткина начала сжигать кодовые книги, а когда один из гестаповцев сорвал со стены портрет Сталина, Гукасов использовал это как предлог, чтобы начать драку. Его жестоко избили, но за это время все шифры были уничтожены. Гукасова немцы депортировали в Турцию для обмена на сотрудников германской дипломатической миссии в Москве. Позднее Гукасову поручили руководить отделом по разработке экспатриантов и эмигрантов. Он скончался в Москве в 1956 году.
…Гессельберг подготовил проект решения партбюро под диктовку Деканозова. В нем предлагалось исключить меня из рядов коммунистической партии за связь с врагами народа и неразоблачение Шпигельгласа. Характерно, что в этом документе Слуцкий, хотя он умер в феврале года и был похоронен со всеми полагающимися почестями, также фигурировал как враг народа.
Партбюро приняло это решение при одном воздержавшемся. Фитин, недавно назначенный на должность заместителя начальника Иностранного отдела, воздержался, потому что, по его словам, я был ему абсолютно неизвестен. Его честность и порядочность, весьма необычные в тех обстоятельствах, не повредили его карьере. В 1939 году он стал начальником Иностранного отдела закордонной разведки и умер естественной смертью в 1971 году.
Партбюро в декабре 1938 года приняло решение исключить меня из партии. Это решение должно было утвердить общее партийное собрание разведслужбы, назначенное на январь 1939 года, а пока я приходил на работу и сидел у себя в кабинете за столом, ничего не делая. Новые сотрудники не решались общаться со мной, боясь скомпрометировать себя. Помню, начальник отделения Гаранин, беседуя со своим заместителем в моем присутствии, переходил на шепот, опасаясь, что я могу подслушать. Чтобы чем‑нибудь заняться, я решил пополнить свои знания и стал изучать дела из архива, ожидая решения своей участи.
Я чувствовал себя подавленным. Жена также сильно тревожилась, понимая, что над нами нависла серьезная угроза. Мы были уверены, что на нас уже есть компромат, сфабрикованный и выбитый во время следствия у наших друзей. Но я все‑таки надеялся, что, поскольку был лично известен руководству НКВД как преданный делу работник, мой арест не будет санкционирован. В те годы я жил еще иллюзией, что по отношению к члену партии несправедливость может быть допущена лишь из‑за некомпетентности или в силу простой ошибки, особенно если решение его участи зависело от человека, стоящего достаточно высоко в партийной иерархии и пользующегося к тому же полной поддержкой Сталина.
Зная, что в отношении меня совершается страшная несправедливость, я думал обратиться в Комиссию партконтроля Центрального комитета с просьбой разобраться в моем деле, но жена считала, что надо подготовить письмо на имя Сталина, которое она сама отправит, а если нас обоих арестуют, отправит моя мать.
Когда арестовывали наших друзей, все мы думали, что произошла ошибка. Но с приходом Деканозова впервые поняли, что это не ошибки. Нет, то была целенаправленная политика. На руководящие должности назначались некомпетентные люди, которым можно было отдавать любые приказания. Впервые мы боялись за свою жизнь, оказавшись под угрозой уничтожения нас нашей же собственной системой. Именно тогда я начал размышлять над природой системы, которая приносит в жертву людей, служащих ей верой и правдой.
Еще один из моих друзей, Петр Зубов, тоже стал жертвой и попал в ту же мясорубку. В 1937 году он был назначен резидентом в Праге. Впервые за время своей службы в разведке он работал под дипломатическим прикрытием. Зубов встретился с президентом Эдуардом Бенешем и по указанию Сталина передал последнему десять тысяч долларов, поскольку Бенеш не мог воспользоваться своими деньгами для организации отъезда из Чехословакии в Великобританию близких и нужных ему людей. Расписка в получении денег была дана Зубову секретарем чехословацкого президента. Сам Бенеш бежал в Англию в 1938 году. Зубов отлично справился с заданием. Британские и французские власти не имели ни малейшего представления о наших связях с лицами, выехавшими из Чехословакии. Спустя полгода после того, как Бенеш покинул Прагу, Зубова отозвали в Москву и арестовали по личному приказу Сталина.
Причина ареста заключалась в том, что Бенеш – через Зубова – предложил Сталину, чтобы Советский Союз субсидировал в 1938 году переворот, направленный против правительства Стоядиновича в Югославии, для того, чтобы установить там военный режим и ослабить таким образом давление на Чехословакию. Бенеш просил сумму в двести тысяч долларов наличными для сербских офицеров, которые должны были устроить переворот. Получив эту сумму из Центра, Зубов выехал в Белград, чтобы на месте ознакомиться с положением. Когда он убедился, что офицеры, о которых шла речь, были всего лишь кучкой ненадежных авантюристов, и ни на какой успешный заговор рассчитывать не приходилось, он был потрясен и отказался выплатить им аванс. Вернувшись в Прагу с деньгами, он доложил в Центр о сложившейся ситуации. Сталин пришел в ярость: Зубов посмел не выполнить приказ. На зубовской телеграмме с объяснением его действий Сталин собственноручно написал: «Арестовать немедленно». (Я видел эту телеграмму в 1941 году, когда мне показали дело Зубова.)
Встреча с Зубовым в коридоре 7‑го этажа на Лубянке в первый же день его возвращения из Чехословакии обрадовала меня: партбюро со дня на день должно было поставить на собрании вопрос о моем исключении из партии, и я надеялся на его поддержку, так как он пользовался большим авторитетом в Иностранном отделе. Мы условились повидаться на следующий день, но он не пришел. Я решил, что он просто избегает контактов со мной, но Эмма встретила его жену на улице и узнала об его аресте. Я понятия не имел, в чем именно его обвиняют: то были времена, когда можно было только внимательно присматриваться к происходящему и стараться не терять надежды.
И тут произошло неожиданное. Собрание, назначенное на январь, которое должно было утвердить мое исключение из рядов партии, отложили. Вскоре Ежов, отстраненный от обязанностей народного комиссара еще в декабре минувшего года, был арестован. Делом Ежова, как я узнал позже, лично занимались Берия и один из его заместителей, Богдан Кобулов. Много лет спустя Кобулов рассказал мне, что Ежова арестовали в кабинете Маленкова в Центральном комитете. Когда его вели на расстрел, он пел «Интернационал».
Я по‑прежнему считаю Ежова ответственным за многие тяжкие преступления – больше того, он был еще и профессионально некомпетентным руководителем. Уверен: преступления Сталина приобрели столь безумный размах из‑за того, в частности, что Ежов оказался совершенно непригодным к разведывательной и контрразведывательной работе.
Чтобы понять природу ежовщины, необходимо учитывать политические традиции, характерные для нашей страны. Все политические кампании в условиях диктатуры неизменно приобретают безумные масштабы, и Сталин виноват не только в преступлениях, совершавшихся по его указанию, но и в том, что позволил своим подчиненным от его имени уничтожать тех, кто оказывался неугоден местному партийному начальству на районном и областном уровнях. Руководители партии и НКВД получили возможность решать даже самые обычные споры, возникавшие чуть ли не каждый день, путем ликвидации своих оппонентов.
Конечно, в те дни я еще не знал всего, но чтобы иметь основания опасаться за свою жизнь, моих знаний было достаточно. Исходя из логики событий, я ожидал, что меня арестуют в конце января или в крайнем случае начале февраля 1939 года. Каждый день я являлся на работу и ничего не делал – сидел и ждал ареста. В один из мартовских дней меня вызвали в кабинет Берии, и неожиданно для себя я услышал упрек, что последние два месяца я бездельничаю. «Я выполняю приказ, полученный от начальника отделения» – сказал я. Берия не посчитал нужным как‑либо прокомментировать мои слова и приказал сопровождать его на важную, по его словам, встречу. Я полагал, что речь идет о встрече с одним из агентов, которого он лично курировал, на конспиративной квартире. В сентябре 1938 года я дважды сопровождал его на подобные мероприятия. Между тем машина доставила нас в Кремль, куда мы въехали через Спасские ворота. Шофер остановил машину в тупике возле Ивановской площади. Тут я внезапно осознал, что меня примет Сталин.
Глава 4
Ликвидация Троцкого
Вход в здание Кремля, где работал Сталин, был мне знаком по прошлым встречам с ним. Мы поднялись по лестнице на второй этаж и пошли по длинному безлюдному коридору, устланному красным ковром, мимо кабинетов с высокими дверями, какие бывают в музеях. Нас с Берией пропустил тот же офицер охраны, который дежурил и тогда, когда меня приводил сюда Ежов. Сейчас он приветствовал уже не Ежова, а Берию: «Здравия желаю, товарищ Берия!».
Берия открыл дверь, и мы вошли в приемную таких огромных размеров, что стоявшие там три письменных стола выглядели совсем крошечными. В приемной находились трое: двое в кителях того же покроя, что и у Сталина, и один в военной форме. Берию приветствовал невысокий, казавшийся с виду коренастым человек в зеленом кителе, голос которого звучал тихо и бесстрастно. (Уже потом я узнал, что это был Поскребышев, начальник секретариата Сталина.) Мне показалось, что в этой комнате было правилом полное отсутствие внешних проявлений каких бы то ни было эмоций. И действительно, таков был неписаный и раз навсегда утвержденный Сталиным и Молотовым порядок в этом здании.
Поскребышев ввел нас в кабинет Сталина и затем бесшумно закрыл за нами дверь.
В этот момент я испытывал те же чувства, что и в прежние встречи со Сталиным: волнение, смешанное с напряженным ожиданием, и охватывающий всего тебя восторг. Мне казалось, что биение моего сердца могут услышать окружающие.
При нашем появлении Сталин поднялся из‑за стола. Стоя посередине кабинета, мы обменялись рукопожатиями, и он жестом пригласил нас сесть за длинный стол, покрытый зеленым сукном. Рабочий стол самого Сталина находился совсем рядом в углу кабинета. Краем глаза я успел заметить, что все папки на его столе разложены в идеальном порядке, над письменным столом – портрет Ленина, а на другой стене – Маркса и Энгельса. Все в кабинете выглядело также, как в прошлый раз, когда я здесь был. Но сам Сталин казался другим: внимательным, спокойным и сосредоточенным. Слушая собеседника, он словно обдумывал каждое сказанное ему слово, похоже, имевшее для него особое значение. И собеседнику просто не могло прийти в голову, что этот человек мог быть неискренним.
Было ли так на самом деле? Не уверен. Но Берию Сталин действительно выслушал с большим вниманием.
– Товарищ Сталин, – обратился тот к нему, – по указанию партии мы разоблачили бывшее руководство закордонной разведки НКВД и сорвали их вероломную попытку обмануть правительство. Мы вносим предложение назначить товарища Судоплатова заместителем начальника разведки НКВД, с тем, чтобы помочь молодым партийным кадрам, мобилизованным на работу в органах, справиться с выполнением заданий правительства.
Сталин нахмурился. Он по‑прежнему продолжал держать трубку в руке, не раскуривая ее. Затем чиркнул спичкой (жест, знакомый всем, кто смотрел хоть один журнал кинохроники) и пододвинул к себе пепельницу. Он ни словом не обмолвился о моем назначении, но попросил Берию вкратце рассказать о главных направлениях разведывательных операций за рубежом. Пока Берия говорил, Сталин встал из‑за стола и начал мерить шагами кабинет, он двигался медленно и совершенно неслышно в своих мягких кавказских сапогах.
Хотя Сталин ходил, не останавливаясь, мне казалось, он не ослабил свое внимание, наоборот, стал более сосредоточен. Его замечания отличались некоторой жесткостью, которую он и не думал скрывать. Подобная резкость по отношению к людям, приглашенным на прием, была самой, пожалуй, типичной чертой в его поведении, составляя неотъемлемую часть личности Сталина – такую же, как оспины на его лице, придававшие ему суровый вид.
По словам Берии, закордонная разведка в современных условиях должна изменить главные направления своей работы. Ее основной задачей должна стать не борьба с эмиграцией, а подготовка резидентур к войне в Европе и на Дальнем Востоке. Гораздо большую роль, считал он, будут играть наши агенты влияния, то есть люди из деловых правительственных кругов Запада и Японии, которые имеют выход на руководство этих стран и могут быть использованы для достижения наших целей во внешней политике. Таких людей следовало искать среди деятелей либерального движения, терпимо относящихся к коммунистам. Между тем, по мнению Берии, левое движение находилось в состоянии серьезного разброда из‑за попыток троцкистов подчинить его себе. Тем самым Троцкий и его сторонники бросали серьезный вызов Советскому Союзу. Они стремились лишить СССР позиции лидера мирового коммунистического движения. Берия предложил нанести решительный удар по центру троцкистского движения за рубежом и назначить меня ответственным за проведение этих операций. В заключение он сказал, что именно с этой целью и выдвигалась моя кандидатура на должность заместителя начальника Иностранного отдела, которым руководил тогда Деканозов. Моя задача состояла в том, чтобы, используя все возможности НКВД, ликвидировать Троцкого.
Возникла пауза. Разговор продолжил Сталин.
– В троцкистском движении нет важных политических фигур, кроме самого Троцкого. Если с Троцким будет покончено, угроза Коминтерну будет устранена.
Он снова занял свое место напротив нас и начал неторопливо высказывать неудовлетворенность тем, как ведутся разведывательные операции. По его мнению, в них отсутствовала должная активность. Он подчеркнул, что устранение Троцкого в 1937 году поручалось Шпигельгласу, однако тот провалил это важное правительственное задание.
Затем Сталин посуровел и, чеканя слова, словно отдавая приказ, проговорил:
– Троцкий должен быть устранен в течение года, прежде чем разразится неминуемая война. Без устранения Троцкого, как показывает испанский опыт, мы не можем быть уверены, в случае нападения империалистов на Советский Союз, в поддержке наших союзников по международному коммунистическому движению. Им будет очень трудно выполнить свой интернациональный долг по дестабилизации тылов противника, развернуть партизанскую войну.
– У нас нет исторического опыта построения мощной индустриальной и военной державы одновременно с укреплением диктатуры пролетариата, – продолжил Сталин, и после оценки международной обстановки и предстоящей войны в Европе он перешел к вопросу, непосредственно касавшемуся меня. Мне надлежало возглавить группу боевиков для проведения операции по ликвидации Троцкого, находившегося в это время в изгнании в Мексике. Сталин явно предпочитал обтекаемые слова вроде «акция» (вместо «ликвидация»), заметив при этом, что в случае успеха акции «партия никогда не забудет тех, кто в ней участвовал, и позаботится не только о них самих, но и обо всех членах их семей».
Когда я попытался возразить, что не вполне подхожу для выполнения этого задания в Мексике, поскольку совершенно не владею испанским языком, Сталин никак не прореагировал.
Я попросил разрешения привлечь к делу ветеранов диверсионных операций в гражданской войне в Испании.
– Это ваша обязанность и партийный долг – находить и отбирать подходящих и надежных людей, чтобы справиться с поручением партии. Вам будет оказана любая помощь и поддержка. Докладывайте непосредственно товарищу Берии и никому больше, но помните: вся ответственность за выполнение этой акции лежит на вас. Вы лично обязаны провести всю подготовительную работу и лично отправить специальную группу из Европы в Мексику. ЦК санкционирует подставлять всю отчетность по операции исключительно в рукописном виде.
Аудиенция закончилась, мы попрощались и вышли из кабинета. После встречи со Сталиным я был немедленно назначен заместителем начальника разведки. Мне был выделен кабинет на седьмом этаже главного здания Лубянки под номером 755 – когда‑то его занимал Шпигельглас.
Жена была обеспокоена моим быстрым повышением по службе в 1938 году. Она предпочитала, чтобы я оставался на незаметной должности, и была права, так как травля меня началась именно из‑за этого, хотя назначение носило сугубо временный характер. Я был не врагом народа, а врагом завистливых коллег – таков был заурядный мотив для травли в годы чисток.
Новое назначение не оставляло времени на длительные раздумья о кампании против меня, которая чуть было не стоила мне жизни. Головокружительная скорость, с которой развивались события, увлекла меня за собой. Партийное собрание так и не рассмотрело мое персональное дело. Через два дня после беседы в Кремле мне сообщили, что партбюро пересмотрело свое решение об исключении меня из партии и вместо этого вынесло выговор с занесением в учетную карточку за потерю бдительности и неразоблачение вражеских действий бывшего руководства Иностранного отдела.
На следующий день, как только я пришел в свой новый кабинет, мне позвонил из дома Эйтингон, недавно вернувшийся из Франции.
– Павлуша, я уже десять дней как в Москве, ничего не делаю. Оперативный отдел установил за мной постоянную слежку. Уверен, мой телефон прослушивается. Ты ведь знаешь, как я работал. Пожалуйста, доложи своему начальству: если они хотят арестовать меня, пусть сразу это и делают, а не устраивают детские игры.
Я ответил Эйтингону, что первый день на руководящей должности и ни о каких планах насчет его ареста мне неизвестно. Тут же я предложил ему прийти ко мне, затем позвонил Меркулову и доложил о состоявшемся разговоре. Тот, засмеявшись, сказал:
– Эти идиоты берут Эйтингона и его группу под наружное наблюдение, а не понимают, что имеют дело с профессионалами.
Через десять минут по прямому проводу мне позвонил Берия и предложил: поскольку Эйтингон – подходящая кандидатура для известного мне дела, к концу дня он ждет нас обоих с предложениями.
Когда появился Эйтингон, я рассказал о замысле операции в Мексике. Ему отводилась в ней ведущая роль. Он согласился без малейших колебаний. Эйтингон был идеальной фигурой для того, чтобы возглавить специальную нелегальную резидентуру в США и Мексике. Подобраться к Троцкому можно было только через нашу агентуру, осевшую в Мексике после окончания войны в Испании. Никто лучше его не знал этих людей. Работая вместе, мы стали близкими друзьями. Приказ о ликвидации Троцкого не удивил ни его, ни меня: уже больше десяти лет ОГПУ – НКВД вели против Троцкого и его организации настоящую войну.
Вынужденный покинуть Советский Союз в 1929 году, Троцкий сменил несколько стран (Турцию, Норвегию и Францию), прежде чем обосновался в 1937 году в Мексике. Еще до своей высылки он, по существу, проиграл Сталину в борьбе за власть и, находясь в изгнании, прилагал немалые усилия для того, чтобы расколоть, а затем возглавить мировое коммунистическое движение, вызывая брожение в рядах коммунистов, ослабляя нашу позицию в Западной Европе и в особенности в Германии в начале 30‑х годов.
По предложению Эйтингона операция против Троцкого была названа «Утка». В этом кодовом названии слово «утка», естественно, употреблялось в значении «дезинформация»: когда говорят, что «полетели утки», имеется в виду публикация ложных сведений в прессе.
Леонид знал нашу агентурную сеть в Соединенных Штатах и Западной Европе, так что был в состоянии реально представить, на кого из агентов мы можем с уверенностью положиться. К сожалению, Марию де Лас Эрас, нашего лучшего агента «Патрию», которую мы сумели внедрить в секретариат Троцкого еще во время его пребывания в Норвегии, и которая была с ним в Мексике, необходимо было немедленно отозвать. Ее планировал использовать Шпигельглас в 1937–1938 годах, но бегство Орлова, хорошо ее знавшего, разрушило этот план. Мы не могли рисковать и оказались правы. Не исключено, что вынужденный временный отказ от боевой операции в Мексике обусловил трагическую участь Шпигельгласа. Он слишком много знал и перестал быть нужным.
Судьба Марии де Лас Эрас оказалась легендарной. Во время Великой Отечественной войны ее забросили на парашюте в тыл к немцам, где она сражалась в партизанском отряде Героя Советского Союза Медведева. После войны она активно работала в агентурной сети КГБ в Латинской Америке, выполняла обязанности радиста. В общей сложности Мария де Лас Эрас была нелегалом более двух десятков лет. В СССР она возвратилась только в 70‑х в звании полковника, а умерла в 1988 году.
Через два месяца после своего бегства в Америку Орлов написал анонимное письмо Троцкому, предупреждая о том, что разрабатываются планы покушения на него, и осуществлять эту акцию будут люди из его окружения, приехавшие из Испании. В то время мы не знали о письме Орлова с этим предостережением, но вполне допускали, что Орлов может пойти на подобную акцию.
Мой первоначальный план состоял в том, чтобы использовать завербованную Эйтингоном агентуру среди троцкистов в Западной Европе и в особенности в Испании. Эйтингон, например, лично завербовал лидеров испанских троцкистов братьев Руанов. У него на связи находились симпатизировавшие Троцкому бывшие анархисты, министры республиканского правительства Испании Гаодосио Оливеро и Фредерико Амундсени. Однако Эйтингон настоял на том, чтобы использовать тех агентов в Западной Европе, Латинской Америке и США, которые никогда не участвовали ни в каких операциях против Троцкого и его сторонников. В соответствии с его планом необходимо было создать две самостоятельные группы. Первая группа – «Конь» под началом Давида Альфаро Сикейроса, мексиканского художника, лично известного Сталину, ветерана гражданской войны в Испании. Он переехал в Мексику и стал одним из организаторов мексиканской компартии. Вторая – так называемая группа «Мать» под руководством Каридад Меркадер. Среди ее богатых предков был вице‑губернатор Кубы, а ее прадед являлся испанским послом в России. Каридад ушла от своего мужа, испанского железнодорожного магната, к анархистам и бежала в Париж с четырьмя детьми в начале 30‑х годов. На жизнь ей приходилось зарабатывать вязанием. Когда в 1936 году в Испании началась гражданская война, она вернулась в Барселону, вступила в ряды анархистов и была тяжело ранена в живот во время воздушного налета. Старший сын Каридад погиб (он бросился, обвязавшись гранатами, под танк), а средний, Рамон, воевал в партизанском отряде. Младший сын Луис приехал в Москву в 1939 году вместе с другими детьми испанских республиканцев, бежавших от Франко, дочь оставалась в Париже. Поскольку Рамон был абсолютно неизвестен среди троцкистов, Эйтингон, в то время все еще находившийся в Испании, решил послать его летом 1938 года из Барселоны в Париж под видом молодого бизнесмена, искателя приключений и прожигателя жизни, который время от времени материально поддерживал бы политических экстремистов из‑за своего враждебного отношения к любым властям.
К 1938 году Рамон и его мать Каридад, оба жившие в Париже, приняли на себя обязательства по сотрудничеству с советской разведкой. В сентябре Рамон по наводке братьев Руанов познакомился с Сильвией Агелоф, находившейся тогда в Париже, и супругами Розмерами, дружившими с семьей Троцкого. Следуя инструкциям Эйтингона, он воздерживался от любой политической деятельности. Его роль заключалась в том, чтобы иногда помогать друзьям и тем, кому он симпатизировал, деньгами, но не вмешиваться в политику. Он не интересовался делами этих людей и отвергал предложения присоединиться к их движению.
Был у нас и еще один важный агент под кодовой кличкой «Гарри» – англичанин Моррисон, не известный ни Орлову, ни Шпигельгласу. «Гарри» работал по линии Особой группы Серебрянского и сыграл ключевую роль в похищении в декабре 1937 года архивов Троцкого в Европе. (По моей подсказке этот архив был затребован Дмитрием Волкогоновым и использован им в его книге «Троцкий», 1992.) «Гарри» также имел прочные связи в седьмом округе управления полиции Парижа. Это помогло ему раздобыть для нас подлинные печати и бланки французской полиции и жандармерии для подделки паспортов и видов на жительство, позволявших нашим агентам оседать во Франции.
Эйтингон считал, что его агенты должны действовать совершенно независимо от наших местных резидентур в США и Мексике. Я с ним согласился, но предупредил, что мы не сможем перебазировать всех нужных людей из Западной Европы в Америку, полагаясь лишь на обычные источники финансирования. По нашим прикидкам, для перебазирования и оснащения групп необходимо было иметь не менее трехсот тысяч долларов. Для создания надежного прикрытия Эйтингон предложил использовать в операции свои личные семейные связи в США. Мы изложили наши соображения Берии, подчеркнув, что в окружении Троцкого у нас нет никого, кто имел бы на него прямой выход. Мы не исключали, что его резиденцию нам придется брать штурмом. Раздосадованный отзывом агента «Патрии» из окружения Троцкого, согласившись на использование личных связей Эйтингона, Берия неожиданно предложил нам использовать связи Орлова, для чего мы должны обратиться к нему от его имени. Орлов был известен Берии еще по Грузии, где командовал пограничным отрядом в 1921 году. Эйтингон решительно возражал, и не только по личным мотивам: в Испании у него с Орловым были натянутые отношения. Он считал, что Орлов, будучи профессионалом, участвовавшим в ликвидациях перебежчиков, наверняка не поверит нам, независимо от чьего имени мы к нему обратимся. Более того, заметив слежку или любые попытки выйти на него, он может поставить под удар всех наших людей. Скрепя сердце Берия вынужден был с нами согласиться. В результате переданный мне Берией приказ инстанции гласил: оставить Орлова в покое и не искать никаких связей с ним.
Берия был весьма озабочен тем, как использовать свои старые личные связи в оперативных делах. По линии жены Нины у Берии были два знаменитых родственника Гегечкори: один – убежденный большевик, его именем назвали район в Грузии, другой, живший в изгнании в Париже, – министр иностранных дел в меньшевистском правительстве Грузии. (Позднее это явилось основанием для обвинения, сфабрикованного против Берии, в том, что он через свою родню связан с империалистическими разведками.) Наша резидентура во Франции была буквально завалена его директивами по разработке грузинской эмиграции, в особенности меньшевиков, правительство которых в изгнании находилось в Париже.
Мне помнится, какие‑то грузинские князья долго морочили нам голову слухами о невероятных сокровищах, якобы спрятанных в тайниках по всей нашей стране.
Из тогдашнего разговора с нами Берия, однако, понял, что нам действительно понадобится новая агентурная сеть, которая исключила бы возможность предательства. Он сказал, чтобы мы начали действовать, не беспокоясь о финансовой стороне дела. После того как будет сформирована группа, он хотел добавить в нее нескольких агентов, известных ему лично.
Берия распорядился, чтобы я отправился вместе с Эйтингоном в Париж для оценки группы, направляемой в Мексику. В июне 1939 года Георг Миллер, австрийский эмигрант, занимавший пост начальника отделения «паспортной техники», снабдил нас фальшивыми документами. Когда мы уезжали из Москвы, Эйтингон как ребенок радовался тому, что одна из его сестер, хроническая брюзга, не пришла на вокзал проводить его. В их семье существовало суеверное убеждение, что любое дело, которое она благословляла своим присутствием, заранее обречено на провал. Из Москвы мы отправились в Одессу, а оттуда морем в Афины, где сменили документы и на другом судне отплыли в Марсель.
До Парижа добрались поездом. Там я встретился с Рамоном и Каридад Меркадер, а затем, отдельно, с членами группы Сикейроса. Эти две группы не общались и не знали о существовании друг друга. Я нашел, что они достаточно надежны, и узнал, что еще важнее, – они участвовали в диверсионных операциях за линией фронта у Франко. Этот опыт наверняка должен был помочь им в акции против Троцкого. Я предложил, чтобы Эйтингон в течение месяца оставался с Каридад и Рамоном, познакомил их с основами агентурной работы. Они не обладали знаниями в таких элементарных вещах как методы разработки источника, вербовка агентуры, обнаружение слежки или изменение внешности. Эти знания были им необходимы, чтобы избежать ловушек контрразведывательной службы небольшой группы троцкистов в Мексике, но задержка чуть не стала фатальной для Эйтингона.
Я вернулся в Москву в конце или середине июля, а в августе 1939 года Каридад и Рамон отплыли из Гавра в Нью‑Йорк. Эйтингон должен был вскоре последовать за ними, но к тому времени польский паспорт, по которому он прибыл в Париж, стал опасным документом. После немецкого вторжения в Польшу, положившего начало второй мировой войне, его собирались мобилизовать во французскую армию как польского беженца или же интернировать в качестве подозрительного иностранца. В это же время были введены новые, более жесткие ограничения на зарубежные поездки для поляков, так что Эйтингону пришлось уйти в подполье.
Я возвратился в Москву, проклиная себя за задержку, вызванную подготовкой агентов, но, к сожалению, у нас не было другого выхода. Мы проинструктировали нашего резидента в Париже Василевского (кодовое имя «Тарасов»), работавшего генеральным консулом, сделать все возможное, чтобы обеспечить «Тома» (так Эйтингон проходил по оперативной переписке) соответствующими документами для поездки в Америку. Василевскому потребовался почти месяц, чтобы выполнить это задание. Пока суд да дело, он поместил Эйтингона в психиатрическую больницу, главным врачом которой был русский эмигрант. По моему указанию Василевский использовал связи Моррисона, чтобы раздобыть «Тому» поддельный французский вид на жительство. Теперь «Том» стал сирийским евреем, страдающим психическим расстройством. Естественно, он был непригоден к военной службе, а документ давал ему возможность находиться во Франции и мог быть использован для получения заграничного паспорта. Василевский был уверен, что паспорт подлинный (французский чиновник получил соответствующую взятку), но все же оставалась проблема получения американской визы.
Наша единственная связь с американским консульством осуществлялась через респектабельного бизнесмена из Швейцарии – в действительности это был наш нелегал Штейнберг. Однако тут возникла дополнительная трудность. Он отказался возвращаться в Москву, куда его отзывали в 1938 году. В письме он заявлял о своей преданности, но говорил, что боится чистки в НКВД. Василевский послал для встречи с ним в Лозанне офицера‑связника, нашего нелегала Тахчианова. Его подстраховывал другой нелегал, Алахвердов. Во время встречи Штейнберг готов был застрелить связника, боясь, что это убийца. В конце концов он согласился устроить визу для сирийского еврея: он не узнал Эйтингона на фотографии в паспорте – тот отрастил усы и изменил прическу. Через неделю Штейнберг достал визу, и наш посланец вернулся с ней в Париж.
Эйтингон прибыл в Нью‑Йорк в октябре 1939 года и основал в Бруклине импортно‑экспортную фирму, которую мы использовали как свой центр связи. И самое важное, эта фирма предоставила «крышу» Рамону Меркадеру, обосновавшемуся в Мексике с поддельным канадским паспортом на имя Фрэнка Джексона. Теперь он мог совершать частые поездки в Нью‑Йорк для встреч с Эйтингоном, который снабжал его деньгами.
Постепенно в Мексике нашлось прикрытие и для группы Сикейроса. У нас было два нелегала‑радиста, но, к несчастью, радиосвязь была неэффективной из‑за плохого качества оборудования. Эйтингоном были разработаны варианты проникновения на виллу Троцкого в Койякане, пригороде Мехико. Владелец виллы, мексиканский живописец Диего Ривера, сдал ее Троцкому. Группа Сикейроса планировала взять здание штурмом, в то время как главной целью Рамона, не имевшего понятия о существовании группы Сикейроса, было использование своего любовного романа с Сильвией Агелоф для того, чтобы подружиться с окружением Троцкого.
Рамон был похож на нынешнюю звезду французского кино Алена Делона. Сильвия не устояла перед присущим ему своеобразным магнетизмом еще в Париже. Она ездила с Рамоном в Нью‑Йорк, но он старался держать ее подальше от Эйтингона. Случалось, Эйтингон наблюдал за Рамоном и Сильвией в ресторане, но ни разу не был ей представлен.
В троцкистских кругах Рамон держался независимо, не предпринимая никаких попыток завоевать их доверие «выражением симпатии к общему делу». Он продолжал разыгрывать из себя бизнесмена, «поддерживающего Троцкого в силу эксцентричности своего характера», а не как преданный последователь.
Группа Сикейроса имела план комнат виллы Троцкого, тайно переправленный Марией де Лас Эрас до того, как ее отозвали в Москву. Она дала характеристику телохранителей Троцкого, а также детальный анализ деятельности его небольшого секретариата. Эта весьма важная информация была отправлена мною Эйтингону.
В конце 1939 года Берия предложил усилить сеть наших нелегалов в Мексике. Он привел меня на явочную квартиру и познакомил с Григулевичем (кодовое имя «Юзик»), приехавшим в Москву после работы нелегалом в Западной Европе. Он был известен в троцкистских кругах своей политической нейтральностью. Никто не подозревал его в попытке внедриться в их организацию. Его присутствие в Латинской Америке было вполне естественным, поскольку отец Григулевича владел в Аргентине большой аптекой.
Григулевич прибыл в Мексику в январе 1940 года и по указанию Эйтингона создал третью, резервную сеть нелегалов для проведения операций в Мексике и Калифорнии. Он сотрудничал с группой Сикейроса. Григулевичу удалось подружиться с одним из телохранителей Троцкого, Шелдоном Хартом. Когда Харт 23 мая 1940 года находился на дежурстве, в предрассветные часы в ворота виллы постучал Григулевич. Харт допустил непростительную ошибку – он приоткрыл ворота, и группа Сикейроса ворвалась в резиденцию Троцкого. Они изрешетили автоматными очередями комнату, где находился Троцкий. Но, поскольку они стреляли через закрытую дверь и результаты обстрела не были проверены, Троцкий, спрятавшийся под кроватью, остался жив.
Харт был ликвидирован, поскольку знал Григулевича и мог нас выдать. Инцидент закончился арестом лишь Сикейроса, что дало хорошее прикрытие для продолжения действий Григулевича и Меркадера, все еще не знавших о существовании друг друга.
Покушение сорвалось из‑за того, что группа захвата не была профессионально подготовлена для конкретной акции. Эйтингон по соображениям конспирации не принимал участия в этом нападении. Он бы наверняка скорректировал действия нападавших. В группе Сикейроса не было никого, кто бы имел опыт обысков и проверок помещений или домов. Членами его группы были крестьяне и шахтеры с элементарной подготовкой ведения партизанской войны и диверсий.
Эйтингон передал по радио кодированное сообщение о провале операции. Сообщение поступило к нам с некоторым опозданием, потому что оно шло через советское судно, находившееся в Нью‑Йоркской гавани, оттуда шифрограмма по радио ушла в Париж к Василевскому. Он передал ее в Москву, но не придал сообщению особого значения, поскольку не знал шифра. В результате Берия и Сталин узнали о неудавшемся покушении из сообщения ТАСС. Не помню точной даты, очевидно, это было майским воскресеньем 1940 года. Меня вызвали на дачу к Берии – за мной прислали его машину. На даче были гости: Серов, тогдашний нарком внутренних дел Украины, и Круглов, заместитель Берии по кадрам. Когда я вошел, они обедали.
Берия, судя по всему, не хотел обсуждать наше дело в их присутствии. Он жестом отослал меня в сад, где росли субтропические растения, посаженные им в надежде, что они сумеют выжить в суровом московском климате. Садом занимались его жена Нина, агроном по образованию, и сын Сергей. Берия представил меня им и прошел со мной в дальний угол сада. Он был взбешен. Глядя на меня в упор, он начал спрашивать о составе одобренной мною в Париже группы и о плане уничтожения Троцкого. Я ответил, что профессиональный уровень группы Сикейроса низок, но это люди, преданные нашему делу и готовые пожертвовать ради него своими жизнями. Я ожидаю подробного отчета из Мексики по радиоканалам через день‑два. После нашего разговора мы вернулись в столовую, и Берия приказал мне немедля возвращаться на работу и информировать его сразу же, как только я узнаю о дальнейших событиях.
Через два дня я получил из Парижа краткий отчет Эйтингона и доложил Берии. Эйтингон сообщал, что он готов, при одобрении Центра, приступить к осуществлению альтернативного плана – использовать для ликвидации Троцкого основного из наших агентов‑«аутсайдеров» – Меркадера. Для выполнения этого плана необходимо было отказаться от использования Меркадера как нашего агента в окружении Троцкого и не внедрять новых: арест агента, пытавшегося убить Троцкого, мог означать провал всей агентурной сети, связанной непосредственно с Троцким и его окружением. Я почувствовал, что подобное решение ни я, ни Эйтингон не могли принять самостоятельно. Оно могло быть принято только Берией и Сталиным. Внедрение агентов в троцкистские группы за рубежом являлось одним из важных приоритетов в работе советской разведки в 1930–1940 годах. Как можно было иначе получить информацию о том, что будет происходить в троцкистских кругах после убийства Троцкого?
Будут ли троцкисты обладать силой и представлять угрозу для СССР без своего лидера? Сталин регулярно читал сообщения, приходившие от нашего агента, который сумел проникнуть в штат троцкистской газеты, издававшейся в Нью‑Йорке. От него мы получали информацию о планах и целях их движения и строили соответственно свою деятельность по борьбе с троцкизмом. Нередко Сталин имел возможность читать троцкистские статьи и документы еще до того, как они публиковались на Западе.
Ныне в угоду политической конъюнктуре деятельность Троцкого и его сторонников за границей в 1930–1940 годах сводят лишь к пропагандистской работе. Но это не так. Троцкисты действовали активно: организовали, используя поддержку лиц, связанных с абвером, мятеж против республиканского правительства в Барселоне в 1937 году. Из троцкистских кругов в спецслужбы Франции и Германии шли «наводящие» материалы о действиях компартий в поддержку Советского Союза. О связях с абвером лидеров троцкистского мятежа в Барселоне в 1937 году сообщил нам Шульце‑Бойзен, ставший позднее одним из руководителей нашей подпольной группы «Красная капелла». Впоследствии, после ареста, гестапо обвинило его в передаче нам данной информации, и этот факт фигурировал в смертном приговоре гитлеровского суда по его делу.
О других примерах использования абвером связей троцкистов для розыска скрывавшихся в 1941 году в подполье руководителей компартии Франции докладывал наш резидент в Париже Василевский, назначенный в 1940 году уполномоченным исполкома Коминтерна.
Я изложил все это Берии. Сначала он никак не прореагировал. Я вернулся к себе в кабинет и стал ждать…
Ждать мне пришлось недолго. Всего через два часа я был вызван на третий этаж к Берии.
– Идемте со мной, – бросил он мне.
На этот раз мы поехали к Сталину на ближнюю дачу, находившуюся в получасе езды к западу от Москвы. Первая часть встречи была весьма недолгой. Я доложил о неудачной попытке Сикейроса ликвидировать Троцкого, объяснив, что альтернативный план означает угрозу потерять антитроцкистскую сеть в Соединенных Штатах и Латинской Америке после уничтожения Троцкого.
Сталин задал всего один вопрос:
– В какой мере агентурная сеть в Соединенных Штатах и Мексике, которой руководит Овакимян, задействована в операции против Троцкого?
Я ответил, что операция Эйтингона, которому даны специальные полномочия самостоятельно вербовать и привлекать людей без санкции Центра, совершенно независима от Овакимяна, чья разведывательная деятельность под прикрытием нашей фирмы «АМТОРГ» осуществляется вне связи с акцией против Троцкого.
Сталин подтвердил свое прежнее решение, заметив:
– Акция против Троцкого будет означать крушение всего троцкистского движения. И нам не надо будет тратить деньги на то, чтобы бороться с ними и их попытками подорвать Коминтерн и наши связи с левыми кругами за рубежом. Приступите к выполнению альтернативного плана, несмотря на провал Сикейроса, и пошлите телеграмму Эйтингону с выражением нашего полного доверия.
Я подготовил текст телеграммы и добавил в конце: «Павел шлет наилучшие пожелания».
«Павел» было кодовым именем Берии.
Когда в 1953 году меня арестовали, следователи, просматривая материалы операции «Утка» в моих рабочих документах, хранившихся в сейфе, спросили, кто скрывался под именем «Павел». Я не счел нужным подчеркивать, что Эйтингона высоко ценил Берия, который к этому времени был арестован и расстрелян, и сказал, что это мое имя, добавленное для подтверждения подлинности посылаемого сообщения.
Время было уже позднее, одиннадцать вечера, и Сталин предложил Берии и мне остаться на ужин. Помню, еда была самая простая. Сталин, подшучивая над тем, что я не пью, предложил мне попробовать грузинского вина пополам с шипучей водой «Лагидзе». Эта вода ежедневно доставлялась ему самолетом из Грузии. Вопреки тому, что пишут об этом сейчас, Стадии вовсе не был в ярости из‑за неудачного покушения на Троцкого. Если он и был сердит, то хорошо маскировал это. Внешне он выглядел спокойным и готовым довести до конца операцию по уничтожению своего противника, поставив на карту судьбу всей агентурной сети в окружении Троцкого.
Позже Эйнтгон рассказал мне, что Рамон Меркадер сам вызвался выполнить задание, используя знания, полученные им в ходе партизанской войны в Испании. Во время этой войны он научился не только стрелять, но и освоил технику рукопашного боя. Учитывая, что наши люди в то время не имели в своем распоряжении специальной техники, Меркадер был готов застрелить, заколоть или убить врага, нанеся удар тяжелым предметом. Каридад дала сыну свое «благословение». Когда Эйтингон и она встретились с Рамоном, чтобы проанализировать систему охраны на вилле Троцкого и выбрать орудие убийства, то пришли к выводу, что лучше всего использовать нож или малый ледоруб альпиниста: во‑первых, их легче скрыть от охранников, а во‑вторых, эти орудия убийства бесшумны, так что никто из домашнего окружения не успеет прибежать на помощь. Физически Рамон был достаточно силен.
Важно было также выдвинуть подходящий мотив убийства, с тем чтобы скомпрометировать Троцкого и таким образом дискредитировать его движение. Убийство должно было выглядеть как акт личной мести Троцкому, который якобы отговаривал Сильвию Агелоф выйти замуж за Меркадера. Если бы Меркадера схватили, ему надлежало заявить, что троцкисты намеревались использовать пожертвованные им средства в личных целях, а вовсе не на нужды движения, и сообщить, что Троцкий пытался уговорить его войти в международную террористическую организацию, ставившую своей целью убийство Сталина и других советских руководителей.
Зимним вечером, в начале 1969 года, я встретился с Рамоном Меркадером на квартире Эйтингона, потом мы пошли обедать в ресторан Дома литераторов в Москве. С момента нашей последней встречи минуло почти три десятилетия. И только теперь Рамон смог рассказать мне во всех подробностях о том, что произошло 20 августа 1940 года.
На встрече со своей матерью и Эйтингоном на явочной квартире в Мехико последний, по словам Рамона, предложил следующее: в то время как Меркадер будет находиться на вилле Троцкого, сам Эйтингон, Каридад и группа из пяти боевиков предпримут попытку ворваться на виллу. Начнется перестрелка с охранниками, во время которой Меркадер сможет ликвидировать Троцкого.
– Я, – сказал мне Меркадер, – не согласился с этим планом и убедил его, что один приведу смертный приговор в исполнение.
Вопреки тому, что писалось о самом убийстве, Рамон не закрыл глаза перед тем как ударить Троцкого по голове небольшим острым ледорубом, который был спрятан у него под плащом. Троцкий сидел за письменным столом и читал статью Меркадера, написанную в его защиту. Когда Меркадер готовился нанести удар, Троцкий, поглощенный чтением статьи, слегка повернул голову, и это изменило направление удара, ослабив его силу. Вот почему Троцкий не был убит сразу и закричал, призывая на помощь. Рамон растерялся и не смог заколоть Троцкого, хотя имел при себе нож.
– Представьте, ведь я прошел партизанскую войну и заколол ножом часового на мосту во время гражданской войны в Испании, но крик Троцкого меня буквально парализовал, – объяснил Рамон.
Когда в комнату вбежала жена Троцкого с охранниками, Меркадера сбили с ног, и он не смог воспользоваться пистолетом. Однако в этом, как оказалось, не было необходимости. Троцкий умер на следующий день в больнице.
– Меня сбил с ног рукояткой пистолета один из охранников Троцкого. Потом мой адвокат использовал этот эпизод для доказательства того, что я не был профессиональным убийцей. Я же придерживался версии, что мною руководила любовь к Сильвии, и что троцкисты растрачивали средства, которые я жертвовал на их движение, и пытались вовлечь меня в террористическую деятельность, – сказал мне Меркадер. – Я не отходил от согласованной версии: мои действия вызваны чисто личными мотивами.
По нашему первоначальному плану предполагалось, что Троцкий будет убит без шума, и Рамон сумеет незаметно уйти – ведь Меркадер регулярно посещал виллу, и охрана хорошо его знала. Эйтингон и Каридад, ждавшие Рамона в машине неподалеку от виллы, вынуждены были скрыться, когда в доме начался явный переполох. Сперва они бежали на Кубу, где Каридад, используя свои семейные связи, сумела уйти в подполье. Григулевич бежал из Мехико в Калифорнию – там его мало кто знал.
Первое сообщение пришло к нам в Москву по каналам ТАСС. Затем, неделей позже, кодированное радиосообщение с Кубы прислал Эйтингон, снова через Париж. Мне было официально объявлено, что людьми Эйтингона и их работой наверху довольны, но участники операции будут награждены только после возвращения в Москву. Что касается меня, то я был слишком занят в этот момент нашими делами в Латвии, чтобы дальше думать о деле Троцкого. Берия спросил меня, удалось ли Каридад, Эйтингону и Григулевичу спастись и надежно спрятаться. Я ответил, что у них хорошее укрытие, неизвестное Меркадеру. Арестовали Меркадера как Фрэнка Джексона, канадского бизнесмена, и его подлинное имя власти не знали в течение шести лет.
Рамон также напомнил мне, что я дал ему и его матери на встрече в Париже совет: если кого‑нибудь из вас схватят, начинайте в тюрьме голодовку, но при этом постарайтесь не возбудить у своих тюремщиков ненужных подозрений. Сперва ешьте с каждым разом все меньше и меньше, готовясь к полному отказу от пищи. В конце концов они начнут искусственное кормление, и период следствия растянется на неопределенно долгое время, а страсти поостынут. Это то, что вам будет нужно.
Меркадер продолжал голодовку два или три месяца, во время следствия утверждал, что он один из обозленных сторонников Троцкого. Его дважды в день избивали сотрудники мексиканских спецслужб – и так продолжалось все шесть лет, пока не удалось раскрыть его истинное имя. К тому же его все это время держали в камере, где не было окна.
Берия объявил мне о решении не жалеть никаких средств для защиты Меркадера. Адвокаты должны были доказать, что убийство совершено на почве склок и внутреннего разброда в троцкистском движении. Эйтингон и Каридад получили приказ оставаться в подполье. Полгода они провели на Кубе, а затем морем отправились в Нью‑Йорк, где Эйтингон использовал свои знакомства в еврейской общине для того, чтобы раздобыть новые документы и паспорта. Вместе с Каридад он пересек Америку и приехал в Лос‑Анджелес, а потом в Сан‑Франциско. Эйтингон воспользовался возможностью возобновить контакты с двумя агентами, которых он и Серебрянский заслали в Калифорнию в начале 30‑х годов, и те взяли на себя обязанности связных с нелегальной агентурной сетью, которая добывала американские ядерные секреты с 1942 по 1943 год. В феврале 1941 года Эйтингон и Каридад на пароходе отплыли в Китай. В мае 1941 года, перед самым началом Великой Отечественной войны, они возвратились в Москву из Шанхая по Транссибирской магистрали.
Личность Меркадера спецслужбам удалось установить лишь после того, как в 1946 году на Запад перебежал один из видных деятелей Испанской компартии, находившийся до своего побега в Москве. Кстати, этот человек приходился дальним родственником Фиделю Кастро. За утечку информации часть вины несет Каридад. Во время войны мать Рамона эвакуировали из Москвы в Ташкент, где она жила с 1941 по 1943 год. Именно там она рассказала своему знакомому о том, что Троцкого убил Рамон. Каридад была убеждена, что сказанное он будет держать в секрете.
После окончания второй мировой войны Каридад неоднократно пробовала добиться освобождения Рамона, предлагала даже найти для него жену, но Сталин выступил против этого плана, поскольку личность Рамона все еще привлекала к себе большое внимание. Каридад ездила в Мексику, затем в Париж, предпринимала все меры для досрочного освобождения сына.
Когда в Мексику из испанских полицейских архивов доставили досье Меркадера, личность его была установлена, отпираться стало бессмысленно. Перед лицом неопровержимых улик Фрэнк Джексон признал, что на самом деле является Рамоном Меркадером и происходит из богатой испанской семьи. Но он так и не признался, что убил Троцкого по приказу советской разведки. Во всех своих открытых заявлениях Меркадер неизменно подчеркивал личный мотив этого убийства.
Условия содержания Рамона в тюрьме после разглашения перебежчиком его настоящего имени сразу улучшились, и ему даже разрешали время от времени совершать вылазки в Мехико, где он мог обедать в ресторане вместе со своим тюремщиком. Женщина, присматривавшая за Рамоном в тюрьме, влюбилась в него и теперь навещала еженедельно. Позднее он женился на ней и привез ее с собой в Москву, когда был освобожден из тюрьмы 20 августа 1960 года. В тюрьме он отсидел двадцать лет.
До 1960 года Рамон никогда не бывал в Москве. Здесь жила в 1939–1942 годах его невеста, которая умерла от туберкулеза.
В Москве Меркадер был принят председателем КГБ Шелепиным, вручившим ему Звезду Героя Советского Союза. Однако когда некоторое время спустя Меркадер попросил о встрече с новым председателем КГБ Семичастным, ему было отказано. По специальному решению ЦК партии и по личному ходатайству Долорес Ибаррури (Пасионарии) Меркадера приняли на работу старшим научным сотрудником Института марксизма‑ленинизма в Москве. Кроме того, им с женой предоставили государственную дачу в Кратове, под Москвой. Меркадер получал деньги от ЦК и от КГБ. В сумме это равнялось пенсии генерал‑майора в отставке. Однако его отношения с КГБ оставались довольно напряженными в течение всех 60‑х годов: он не переставал требовать сначала от Шелепина, а затем от Семичастного, чтобы Эйтингон и я были немедленно освобождены из тюрьмы. Он поднимал этот вопрос и перед Долорес Ибаррури, и перед Сусловым. Старейший член Политбюро Суслов не был тронут этим заступничеством, более того, в гневном раздражении по поводу того, что Меркадер позволил себе обратиться лично к нему, заявил Меркадеру: «Мы решили для себя судьбу этих людей раз и навсегда. Не суйте нос не в свои дела».
Сначала Меркадер жил в гостинице «Ленинградская» возле Ленинградского вокзала, а затем получил четырехкомнатную квартиру без всякой обстановки недалеко от станции метро «Сокол». Из тех, кто когда‑то был связан с Меркадером по работе, единственным не подвергшимся репрессиям оставался Василевский, хотя его и исключили из партии. Он вступился за Меркадера – и тому для его новой квартиры была предоставлена мебель. Жена Меркадера Рокелья Мендоса работала диктором в испанской редакции Московского радио. В 1963 году они усыновили двоих детей: мальчика Артура двенадцати лет и девочку Лауру шести месяцев. Их родители были друзьями Меркадера. Отец, участник гражданской войны в Испании, бежал после поражения республиканцев в Москву, а позднее, вернувшись на родину в качестве агента‑нелегала, был схвачен франкистами и расстрелян. Мать умерла в Москве во время родов.
Меркадер был профессиональным революционером и гордился своей ролью в борьбе за коммунистические идеалы. Он не раскаивался в том, что убил Троцкого, и в разговоре со мной сказал:
– Если бы пришлось заново прожить сороковые годы, я сделал бы все, что сделал, но только не в сегодняшнем мире. Никому не дано выбирать время, в котором живешь.
В середине 70‑х Меркадер уехал из Москвы на Кубу, где был советником у Кастро. Скончался он в 1978 году. Тело его было тайно доставлено в Москву. Вдова Меркадера пыталась связаться со мной, но в то время меня не было в Москве. На траурной церемонии присутствовал Эйтингон. Похоронили Меркадера на Кунцевском кладбище. Там он и покоится под именем Рамона Ивановича Лопеса, Героя Советского Союза.
Мне совершенно ясно, что сегодняшние моральные принципы несовместимы с жестокостью, характерной и для периода борьбы за власть, которая следует за революционным переворотом, и для гражданской войны. Сталин и Троцкий противостояли друг другу, прибегая к преступным методам для достижения своих целей, но разница заключается в том, что в изгнании Троцкий противостоял не только Сталину, но и Советскому Союзу как таковому. Эта конфронтация была войной на уничтожение. Сталин, да и мы не могли относиться к Троцкому в изгнании просто как к автору философских сочинений. Тот был активным врагом советского государства.
Жизнь показала, что ненависть Сталина и руководителей ВКП(б) к политическими перерожденцам и соперникам в борьбе за власть была оправданной. Решающий удар по КПСС и Советскому Союзу был нанесен именно группой бывших руководителей партии. При этом первоначальные узкокорыстные интересы борьбы за власть эти деятели маскировали заимствованными у Троцкого лозунгами «борьбы с бюрократизмом и господством партаппарата».
Сын Троцкого, Лев Седов, носивший фамилию матери, находился под нашим постоянным наблюдением. Он являлся главным организатором троцкистского движения в Европе после того, как в 1933 году приехал в Париж из Турции.
Мы располагали в Париже двумя независимыми друг от друга агентурными выходами на него. В одной ведущую роль играл Зборовский (подпольная кличка «Этьен», он же «Тюльпан»). О нем подробно написал Волкогонов. Другую возглавлял Серебрянский. Зборовский навел нас на след архивов Троцкого, а Серебрянский, использовав полученную информацию, захватил эти архивы, спрятанные в Париже, и тайно доставил их в Москву. Он сделал это с помощью своего агента «Гарри», находившегося в Париже, и агента, работавшего во французской полиции.
В книге «Троцкий» Волкогонов утверждает, будто архивы были вывезены Зборовским, тогда как на самом деле тот даже понятия не имел, как была использована добытая им информация. Волкогонов также пишет, что Зборовский помог убить Седова, находившегося в то время во французской больнице. Сын Троцкого, как известно, действительно скончался в феврале 1938 года при весьма загадочных обстоятельствах, после операции аппендицита.
Доподлинно известно лишь то, что Седов умер в Париже, но ни в его досье, ни в материалах по троцкистскому интернационалу я не нашел никаких свидетельств, что это было убийство. Если бы Седова убили, то кто‑то должен был бы получить правительственную награду или мог на нее претендовать. В то время, о котором идет речь, было много обвинений в адрес разведслужбы, которая якобы приписывала себе несуществующие лавры за устранение видных троцкистов, однако никаких подробностей или примеров при этом не приводилось. Принято считать, что Седов пал жертвой операции, проводившейся НКВД. Между тем Шпигельглас, докладывая Ежову о кончине Седова в Париже, упомянул лишь о естественной причине его смерти. Ежов, правда, комментировал сообщение словами: «Хорошая операция! Неплохо поработали, а?». Шпигельглас не собирался спорить с наркомом, который постарался приписать заслугу «убийства» Седова своему ведомству и лично доложил об этом Сталину. Это способствовало тому, что НКВД стали считать ответственным за смерть Седова.
Когда мы с Эйтингоном обсуждали у Берии план ликвидации Троцкого, об устранении его сына ни разу не упоминалось. Легко предположить, конечно, что Седов был убит, но лично я не склонен этому верить. И причина тут самая простая. Троцкий безоговорочно доверял сыну, поэтому за ним велось плотное наблюдение с нашей стороны, и это давало возможность получать информацию о планах троцкистов по засылке агентов и пропагандистских материалов в Советский Союз через Европу. Его уничтожение привело бы к потере нами контроля за информацией о троцкистских операциях в Европе.
После ликвидации Троцкого часть агентуры, завербованной Эйтингоном, и другие привлеченные к его сети лица, действовавшие в Соединенных Штатах и Мексике, присоединились к нелегалам, не задействованным в операции против Троцкого. Эта расширенная сеть агентуры впоследствии сыграла важную роль в выходе на круги ученых, работавших над американской атомной бомбой. Наши нелегалы с фальшивыми документами, не занимавшие никаких официальных должностей, обосновались в США еще в конце 20‑х и начале 30‑х годов. Их главной задачей было поступить на такую работу, где можно иметь доступ к научно‑технической информации и военно‑стратегическим перевозкам на случай войны с Японией.
В конце 20‑х – начале 30‑х годов Эйтингон и Серебрянский были посланы в Соединенные Штаты для вербовки китайских и японских эмигрантов, которые могли нам пригодиться в военных и диверсионных операциях против Японии. К этому времени японцы успели захватить центральные и северные районы Китая и Маньчжурию, и мы опасались предстоявшей войны с Японией. Одновременно Эйтингон внедрил двух агентов для длительного оседания – польских евреев, которых ему удалось привезти в США из Франции.
Эйтингон также должен был дать оценку потенциальным возможностям американских коммунистов в интересах нашей разведки. По его весьма дельному предложению, не следовало вербовать агентов из членов компартии, а имело смысл сконцентрировать внимание на тех, кто, не будучи в ее рядах, выражал сочувствие коммунистическим идеям.
Эйтингон действовал параллельно с Ахмеровым, который, несмотря на серьезные возражения Эйтингона, все‑таки женился на племяннице Эрла Браудера, основателя американской компартии. Операции в Соединенных Штатах и создание там сети нелегалов не входили в число важнейших целей Кремля, поскольку в то время получение разведывательных данных из Нового Совета не влияло на принимаемые Москвой решения. Эйтингон, однако, поручил нескольким своим агентам следить за американской политикой в отношении Китая. Ему, в частности, удалось найти журналистов из журнала «Амерэйша», которые впоследствии сформировали лобби, влиявшее на американскую линию дипломатии в Азии.
Одним из завербованных Эйтингоном агентов был весьма известный японский живописец Мияги, позднее вошедший в группу Рихарда Зорге в Японии. Эйтингон и мой хороший друг Иван Винаров (советник по разведке при Георгии Димитрове в 40‑х годах) вступили в контакт с Зорге в Шанхае в конце 20‑х годов. Информация Зорге рассматривалась как довольно ценная на протяжении всех 30‑х годов, правда, с оговоркой, что и немцы, и японцы считают его двойным агентом.
Наш агент «Друг» – генеральный консул Германии в Шанхае – часто встречался с Зорге в 1939–1941 годах. Он отмечал его широкую осведомленность об обстановке на Дальнем Востоке, не догадываясь о работе Зорге на Разведуправление Красной Армии, и подчеркивал прочные, солидные связи Зорге с немецкой военной разведкой.
В 1932 году Эйтингон покинул Калифорнию и возвратился в Советский Союз через Шанхай. Его назначили заместителем Серебрянского, но они не сработались, и Эйтингон перешел на руководящую работу в Иностранный отдел ОГПУ.
В период обострения международной обстановки в канун вступления в войну Америки разведывательную работу по линии НКВД на Восточном побережье США возглавлял Хейфец. Ранее он работал в Коминтерне. Его отец являлся одним из организаторов американской компартии. Хейфец лично знал многих видных американских коммунистов. Учитывая коминтерновский опыт, его направили в начале 30‑х годов на работу в разведку НКВД. Он организовал нелегальные группы в Германии и Италии в середине 30‑х годов, выступая в роли индийского студента, обучающегося в Европе. На самом деле Хейфец был евреем, но из‑за своей смуглой кожи выглядел как настоящий эмигрант из Азии, несмотря на голубые глаза. В Соединенных Штатах в левых кругах он был известен как господин Браун.
Находясь до этого в Италии, Хейфец познакомился с молодым Бруно Понтекорво, тогда студентом, учившимся в Риме. Хейфец рекомендовал Понтекорво связаться с Фредериком Жолио‑Кюри, выдающимся французским физиком, близким к руководству компартии Франции. В дальнейшем именно Понтекорво стал тем каналом, через который к нам поступали американские атомные секреты от Энрико Ферми.
Хейфецу повезло: в 30‑х годах он не был репрессирован. Его отозвали в Москву, и хотя в ноябре 1938 года Ежов дал указание об его аресте, оно не было выполнено. Вскоре Хейфеца направили в Соединенные Штаты, на Западное побережье, для активизации разведывательной работы.
Перед Хейфецом была поставлена задача установления прочных связей с агентурой «глубокого оседания», созданной Эйтингоном для использования в случае войны между Советским Союзом и Японией. Первоначальный план заключался в том, чтобы создать сеть нелегалов в американских портах по примеру Скандинавии для уничтожения судов со стратегическим сырьем и топливом для Японии. Не зная о японских намерениях атаковать Юго‑Восточную Азию или Перл‑Харбор, мы предполагали, что они сначала начнут военные действия против нас.
Помощнику Хейфеца в консульстве Сан‑Франциско Ляпину, инженеру, выпускнику Ленинградского судостроительного института, было дано специальное задание получить данные о технологических новинках на предприятиях Западного побережья. Основная задача, поставленная перед ним, – сбор материалов по американским военно‑морским судостроительным программам. Я помню одно из его донесений. В нем говорилось о большом интересе, который проявлялся американцами к программе строительства авианосцев. Лягину также удалось завербовать агента в Сан‑Франциско, давшего нам описание устройств, разрабатывавшихся для защиты судов от магнитных мин.
Чтобы не вызывать подозрений, Лягин воздерживался от любых контактов с американскими прокоммунистическими кругами. Однако в Сан‑Франциско он проработал недолго. Его отозвали в Москву и выдвинули на должность заместителя начальника закордонной разведки НКВД. Ему было всего тридцать два года. Во время немецкой оккупации он был послан нами в качестве резидента‑нелегала на немецкую военно‑морскую базу в Николаев на Черном море. Ему удалось провести ряд диверсий на базе. Гестапо в конце концов захватило его и радиста группы. Лягин отказался бежать из тюрьмы, так как не мог оставить арестованного вместе с ним раненого радиста. Они были расстреляны. В 1945 году ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Оставшемуся в Сан‑Франциско Хейфецу удалось, получив ориентировку от Эйтингона, выйти на внедренных ранее двух агентов «глубокого оседания». Оба они вели обычную, неприметную жизнь рядовых американцев: один – зубного врача, другой – владельца предприятия розничной торговли. Оба были еврейскими эмигрантами из Польши. Врач‑стоматолог, известный лично Серебрянскому, в свое время получил от нас деньги, чтобы окончить медицинский колледж во Франции и стать дипломированным специалистом. Оба этих человека были внедрены на случай, если бы их услуги понадобились нам, будь то через год или через десять лет. Потребность в них возникла в 1941–1942 годах, когда эти люди неожиданно оказались близки к коммунистически настроенным членам семьи Роберта Оппенгеймера – главного создателя американской атомной бомбы.
Глава 5
Пакт молотова – Риббентропа
В мае 1937 года была арестована группа Тухачевского из восьми человек, составлявших цвет советского военного командования, их обвинили в государственной измене, шпионаже и тайном военном заговоре с целью свержения правительства. Прошло всего две недели, и по приговору закрытого военного суда все они были расстреляны. Так начались массовые репрессии в армии, в результате которых пострадали тридцать пять тысяч командиров.
Самым известным из этой группы военачальников был маршал Михаил Николаевич Тухачевский, длительное время бывший заместителем наркома обороны и начальником Генерального штаба. Из публикуемых ныне архивных материалов известно, что обвинения против Тухачевского и других военных руководителей страны были сфабрикованы по указанию Сталина и Ворошилова.
В настоящее время существуют три версии, почему Сталин пошел на эту расправу. В соответствии с первой судьбу этих людей решила дезинформация германских и чехословацких спецслужб, убедившая подозрительного Сталина и его наркома обороны Ворошилова, что Тухачевский и ряд других военачальников поддерживали тайные контакты с немецкими военными кругами. Именно эту версию повторил Хрущев в своем выступлении с критикой Сталина на XXII съезде партии в 1961 году.
Но контакты с немцами следует рассматривать на фоне тесного германо‑советского военного сотрудничества в 1920–1930‑х годах. Длительный период военного сотрудничества Германии и Советского Союза был в 1933 году внезапно прерван Сталиным под явно сфабрикованным предлогом, что немцы тайно делятся с французами информацией о своих связях с нами. Между тем группа советских военных деятелей во главе с маршалом Тухачевским отмечала полезность этих контактов с немцами и надеялась использовать их технологические военные новинки у нас. Со стороны Германии также существовал известный интерес к продолжению связи с СССР, хотя и совсем по другим соображениям. Высокопоставленные военные, выходцы из Восточной Пруссии, были последователями основателя вермахта генерала Ганса фон Секта. После поражения в Первой мировой войне генерал фон Сект долгие годы занимался воссозданием немецкой военной машины и разработкой новой стратегической доктрины. Именно он выступал перед германским руководством за улучшение отношений с СССР, указывая, что главная цель германской политики в случае войны – не допустить военных действий на двух фронтах.
В соответствии со второй версией жертвами стали те военные, которые по своему интеллектуальному уровню значительно превосходили Ворошилова и имели собственное мнение по вопросам военного строительства. Тухачевский и его группа якобы не сошлись со Сталиным и Ворошиловым по вопросу стратега и военных реформ, а посему Сталин, опасаясь соперников, которые могут претендовать на власть, решил разделаться с ними.
Согласно третьей версии, военных ликвидировали из‑за давней вражды между Тухачевским и Сталиным, которые имели разные точки зрения на то, кто несет ответственность за ошибки, допущенные в войне с белополяками в 1920 году. Тухачевский считал, что Красная Армия потерпела поражение на подступах к Варшаве, потому что Сталин и Ворошилов якобы отказались перебросить в помощь Тухачевскому кавалерийские части.
Мой взгляд на эту трагедию отличается от всех известных версий. Помню, как в августе 1939 года приятно удивили меня сообщения из Германии, из которых явствовало, что немецкое военное руководство высоко оценивало потенциал Красной Армии. В одном из документов высшего германского командования, перехваченном нами, причиной гибели маршала Тухачевского назывались его непомерные амбиции и разногласия с маршалом Ворошиловым, беспрекословно разделявшим все взгляды Сталина.
Утверждая сводку материалов разведки для Сталина, Берия включил туда фразу из этого документа: «Устранение Тухачевского наглядно показывает, что Сталин полностью контролирует положение дел в Красной Армии», – возможно, для того, чтобы польстить вождю, подчеркнув тем самым его дальновидность в своевременном устранении Тухачевского.
Помнится мне также комментарий Берии и Абакумова, в годы войны начальника военной контрразведки СМЕРШ, отвечавшего и за политическую благонадежность вооруженных сил. И тот, и другой говорили о заносчивости Тухачевского и его окружения, которые смели думать, будто Сталин, по их предложению, снимет Ворошилова. По словам Берии, уже один этот факт ясно показывал, что военные, грубо нарушив установленный порядок, выдвинули предложения, выходившие за рамки их компетенции. Разве, говорил он, им не было известно, что только Политбюро и никто другой имеет право ставить вопрос о замене наркома обороны? Тут‑то и вспомнили, подчеркивал Абакумов, что Тухачевский и близкие к нему люди позволяли себе вызывать на дачи военные оркестры для частных концертов.
О том, что «наверху» следует вести себя строго по правилам, я узнал от маршала Шапошникова, сменившего Тухачевского. Шла война, в очень тяжелый период боев под Москвой, учитывая срочность донесений из немецких тылов, я пару раз докладывал материалы непосредственно ему, минуя обычные каналы. И он каждый раз вежливо указывал мне: «Голубчик, важные разведданные вам нужно обязательно отразить в первую очередь в докладах НКВД и политическому руководству страны. Сталин, Берия и одновременно нарком обороны должны быть полностью в курсе нашей совместной работы».
Еще одно обстоятельство, сыгравшее свою роль в судьбе Тухачевского: он был в плохих отношениях с Шапошниковым. В конце 20‑х годов Тухачевский, как мне говорили, вел интригу против Шапошникова с тем, чтобы занять его пост начальника генштаба. Кстати, Шапошников был одним из членов специального присутствия Верховного Суда, который вынес смертный приговор Тухачевскому. Он, Буденный и председатель суда Ульрих оказались единственными из всего его состава, кто избежал репрессий и умер естественной смертью.
Мне представляется, что Тухачевский и его группа в борьбе за влияние на Сталина попались на его удочку. Во время частых встреч со Сталиным Тухачевский критиковал Ворошилова, Сталин поощрял эту критику, называя ее «конструктивной», и любил обсуждать варианты новых назначений и смещений. Нравилось ему и рассматривать различные подходы к военным доктринам. Тухачевский позволял себе свободно обсуждать все это не только за закрытыми дверями, но и распространять слухи о якобы предстоящих изменениях и перестановках в руководстве Наркомата обороны. Словом, он и его коллеги зашли, по мнению Сталина, слишком далеко. После того как НКВД доложил правительству о ходивших по столице слухах, это стало беспокоить руководство страны. Даже те из историков, которые горят желанием разоблачить преступления Сталина, не могут не признать, что материалы дела Тухачевского содержат разного рода документальные свидетельства относительно планов перетасовок в военном руководстве страны.
В опубликованных архивах Красной Армии можно, например, прочесть письмо Ворошилову от 5 июня 1937 года за подписью начальника секретариата Наркомата обороны Смородинова. В нем содержится просьба направить в НКВД копии писем Тухачевского в адрес военного руководства. И хотя на документе нет никакой резолюции, ясно, что в ходе «расследования» Тухачевский решительно возражал против обвинений, ссылаясь при этом на документы, подтверждавшие, что по военным вопросам между ним, Ворошиловым и Сталиным не было никаких разногласий.
Тухачевский утверждал, что поддерживал контакты с немецкими военными представителями исключительно по заданиям правительства. Он всячески старался доказать, что всегда видел свой долг в беспрекословном выполнении приказов по всем вопросам военного строительства.
Версия Хрущева о том, что Сталин «заглотнул» немецкую дезинформацию, призванную уничтожить Тухачевского, базировалась на вымыслах советского перебежчика Кривицкого, автора книга «Я был агентом Сталина», вышедшей в 1939 году. Кривицкий работал на НКВД и военную разведку в Западной Европе и в своей книге писал, что НКВД получил тайную информацию о заговоре от чешского президента Эдуарда Бенеша и нашего крупного агента Скоблина (кодовое имя «Фермер»), бывшего белого генерала, участника гражданской войны. Кривицкий обвинил Скоблина в том, что тот передал Советам немецкую дезинформацию о тайных контактах Тухачевского с немецкими военными кругами. Позднее генерал Шелленберг, начальник гитлеровской внешней разведки, в своих мемуарах также писал, что немцы сфабриковали документы, в которых Тухачевский фигурировал как их агент. Перед войной, по его словам, документы были подкинуты чехам, и Бенеш передал полученную информацию Сталину.
Для меня это – миф. Подобные документы так и не были обнаружены в архивах КГБ или архивах самого Сталина.
Но если восстановить последовательность событий, то можно увидеть, что о Скоблине как об агенте гестапо впервые написала газета «Правда» в 1937 году. Статья была согласована с руководством разведки и опубликована, чтобы отвлечь внимание от обвинений в причастности советской разведки к похищению генерала Миллера.
Уголовное дело против Тухачевского целиком основывалось на его собственных признаниях, и какие бы то ни было ссылки на конкретные компрометирующие факты, полученные из‑за рубежа, начисто отсутствуют. Если бы такие документы существовали, то я как заместитель начальника разведки, курировавший накануне войны и немецкое направление, наверняка видел бы их или знал об их существовании. Единственным упоминанием о «немецком следе» в деле Скоблина является ссылка на его обманный маневр, с помощью которого удалось заманить генерала Миллера на явочную квартиру в Париже. Скоблин говорил Миллеру о «немецких контактах», которые важны для конспиративной работы белой эмиграции. Миллер встретился не с немцами, а с резидентом НКВД в Париже Кисловым (кодовое имя «Финн») и Шпигельгласом (кодовое имя «Дуглас»).
Кстати, вопреки версиям событий в популярных на Западе книгах Кристофера Эндрю и Гордлевского, Джона Джизяка и Кривицкого Скоблин не принимал участия в устранении предшественника Миллера генерала Кутепова. Эта операция в 1930 году была проведена разведывательной службой Серебрянского. Кутепов был задержан в центре Парижа тремя нашими агентами, переодетыми в форму сотрудников французской жандармерии. Они остановили Кутепова на улице под предлогом проверки документов и насильно посадили в машину. Кутепов, заподозрив неладное, оказал сопротивление. Во время борьбы с ним случился сердечный приступ, и он умер. Его похоронили в пригороде Парижа, во дворе дома одного из агентов советской разведки.
Итак, в действительности нет никаких данных о несанкционированных контактах Тухачевского с немцами. Зато в архивах много материалов, содержащих обзоры зарубежной прессы и отклики руководителей западных стран о заговоре Тухачевского.
В июле 1937 года советский полпред в Чехословакии Александровский сообщал в Москву о реакции президента Бенеша на казнь Тухачевского. Существуют самые противоречивые интерпретации замечаний Бенеша, который рисуется советскими историками человеком, «искренне и с самыми лучшими намерениями предавшим Тухачевского Сталину, не сознавая, что он передает Советам сфальсифицированные немцами материалы». Документы, однако, говорят совсем о другом.
По сообщению Александровского, Бенеш не верил, будто Тухачевский шпион и саботажник. По словам Бенеша, Тухачевский «мог рассчитывать на свержение Сталина, лишь опираясь на Ягоду – наркома внутренних дел СССР». Основываясь на информации чешского посла в Берлине, Бенеш отмечал: Тухачевский просто выступал за продолжение советско‑германского сотрудничества, которое было прервано с приходом Гитлера к власти. Ясно, что Бенеш не принимал всерьез обвинения Тухачевского в шпионаже, но чувствовал, что по той или иной причине маршал оказался в опале, и внес свою лепту в дискредитацию Тухачевского, поскольку нуждался в поддержке Сталина. Он, как и Берия, хотел показать свое полное одобрение решения Москвы ликвидировать Тухачевского. В дневнике Александровского приводится высказывание Бенеша, в котором он отзывается о Тухачевском как об авантюристе и ненадежном человеке. В общем и целом Бенеш поддержал расправу над Тухачевским, но не сыграл никакой роли в его отстранении и аресте.
Насколько я помню, в литерном деле «Хутор» есть ссылки на то, что Бенеш в апреле 1937 года, накануне снятия Тухачевского, намекнул полпреду Александровскому и нашему резиденту в Праге Петру Зубову, что не исключает возможности военного соглашения между Германией и Советским Союзом, вопреки их нынешним разногласиям, отчасти из‑за хороших связей между Красной Армией и вермахтом, установленных Тухачевским в 20‑х и 30‑х годах. Однако только 4 июля 1937 года, уже после казни Тухачевского, Бенеш рассказал Александровскому о «неких» контактах чешского посла в Берлине с немецкими военными представителями, которые якобы имели место в январе 1937 года. По его словам, Бенеш не сообщил нам о том, что чехи имеют информацию о наличии в Германии влиятельной группы среди военных, выступавших за продолжение тайных германо‑советских военных связей, установленных еще в 20‑е годы.
От своего посла в Берлине Бенеш получил доклад, содержавший смутные намеки немецких генералов об их конфиденциальных отношениях с руководством Красной Армии. Цель этой немецкой дезинформации заключалась в том, чтобы напугать чехов и заставить их поверить, что им нельзя рассчитывать на поддержку Красной Армии в их конфронтации с Германией по вопросу о судьбе Судет. Это было в июле 1937 года – за год до ультиматума Гитлера Бенешу с требованием, чтобы Судеты с их этническим немецким населением отошли к Германии. В своем дневнике посол записывает, что Бенеш извинился перед ним за то, что не поделился с советским руководством информацией о возможных тайных контактах верхушки вермахта со штабом Красной Армии.
Из материалов упомянутого выше дела становится ясна подлинная цель июльской встречи между полпредом Александровским, резидентом НКВД Зубовым и Бенешем.
Ныне содержание беседы Бенеша с Александровским отрицается. Замалчивается и другое важнейшее обстоятельство: Советский Союз и Чехословакия подписали в 1933 году секретное соглашение о сотрудничестве разведывательных служб. Для решения этого вопроса в Москве побывал начальник чешской разведки полковник Моравец. Сотрудничество советской и чешской разведки, обмен информацией первоначально координировались Разведупром Красной Армии, а с 1937 года – НКВД. В 1938 году Бенеш обратился к Сталину с просьбой поддержать его действия по свержению правительства Стоядиновича в Белграде, проводившего враждебную чешскому руководству политику.
По специальному указанию Сталина для поддержки переворота в Белграде в 1938 году на НКВД возлагалось финансирование сербских боевиков‑офицеров – организаторов этого переворота. Наш резидент Зубов, выехав в Белград для передачи денег заговорщикам, убедился, что подобранные чешской разведкой для этой акции люди – авантюристы, не опираются на реальную силу, и не выдал им 200 тысяч долларов. Эта несостоявшаяся операция проливает свет на неизвестные до сих пор связи Бенеша и Сталина. Целью Бенеша было получение полной поддержки чешской политики со стороны Сталина как на Балканах, так и в Европе в целом. Вот почему в отличие от англичан и французов он не выразил своего неодобрения по поводу казни маршала Тухачевского и волны репрессий среди советского военного командования.
Мне приходилось слышать, что все еще существуют особо секретные материалы дела Тухачевского, хранившиеся в архивах сталинского секретариата и содержащие информацию, полученную из‑за рубежа. Я думаю, что это просто обзоры материалов из иностранной прессы, сообщения корреспондентов ТАСС, дипломатов, глав торговых представительств, а также резидентур НКВД и ГРУ о том, как расправа с Тухачевским оценивалась за границей.
Это были материалы особой папки закрытой иностранной корреспонденции, в которой собирались отзывы зарубежного общественного мнения и комментарии советских послов и руководителей правительственных делегаций. В этом хранении есть немецкие, французские и английские записи бесед с высокопоставленными советскими представителями, полученные по разведывательным каналам. Они представляли ценность в силу того, что помогали понять мышление людей, с которыми ведутся переговоры.
Трагедия, однако, заключалась в том, что Сталин, а впоследствии Хрущев, Брежнев и Горбачев использовали закрытую иностранную корреспонденцию для компрометации своих соперников в период острой борьбы за власть. В обычное время обзорам иностранной прессы не придавалось сколько‑нибудь серьезного значения, но в период массовых репрессий стало правилом прибегать к этим материалам, дававшим оценку советским руководителям, чтобы инкриминировать им разного рода «отклонения» от линии партии. Причем это правило было даже закреплено специальным постановлением Центрального комитета.
В 1989 году Бориса Ельцина во время его первого визита в Соединенные Штаты обвинили, ссылаясь на зарубежную прессу, в пристрастии к спиртному. В 1990 году эти материалы сыграли свою роль в конфликте между Горбачевым и Шеварднадзе, экс‑министром иностранных дел. Использование вырезок из зарубежной прессы было прекращено лишь в ноябре 1991 года – перед самым концом «горбачевской эры». И сделал это Игнатенко, генеральный директор ТАСС, запретив направлять по линии ТАСС в правительство особые обзоры зарубежной прессы, содержавшие компромат на наших руководителей.
В 30‑х годах нам казалось: любой, кто выступает против правительства или партийного руководства, прежде всего против самого Сталина, а также его соратника наркома Ворошилова, – враг народа. Лишь много позже до меня дошел весь цинизм замечаний Берии и Абакумова по поводу Тухачевского. Высшее руководство прекрасно знало, что все обвинения против него выдуманы. Версию о мнимом заговоре они предпочли потому, что в противном случае им пришлось бы признать, что жертвами репрессий на самом деле становятся соперники в борьбе за власть. Подобное признание нанесло бы вред престижу правящей партии.
То, что в 1937 году считалось серьезным преступлением – я имею в виду обвинение в некомпетентности Ворошилова, которое позволял себе Тухачевский, – через двадцать лет, когда он был посмертно реабилитирован, уже не было таковым. Причем никто не объяснил подлинных причин совершенного преступления. В официальных сообщениях появились лишь весьма туманные ссылки на «имевшие место ошибки» в карательной политике, виновниками были названы лишь Ежов и его подручные.
В апреле 1938 года резидент НКВД в Финляндии Рыбкин был вызван в Кремль, где Сталин и другие члены Политбюро поручили ему совершенно секретное задание… Он получил директиву неофициально предложить финскому правительству тайное соглашение. Финнам гарантировалось экономическое сотрудничество с Советским Союзом с учетом их интересов в Скандинавии и Европе в обмен на подписание пакта о ненападении, экономическом и военном сотрудничестве в случае агрессии третьей стороны. Пакт сулил экономические выгоды для обеих сторон. Предложение Сталина включало также разделение сфер военного и экономического влияния в Балтийском регионе между Финляндией и Советским Союзом. По указанию Сталина Рыбкин также передал 100 тысяч долларов на создание партии мелких хозяев, которая выступала за нейтральную Финляндию.
Рыбкин во время беседы в Кремле выразил сомнение, что финны, тогда враждебно относившиеся к восточному соседу, согласятся на подписание такого договора, но Сталин подчеркнул, что это зондаж, поэтому предложения должны быть сделаны устно, без участия в переговорах нашего полпреда, то есть неофициально. Рыбкин поступил, как ему приказали, но предложение было отвергнуто. Однако оно инициировало раскол в финском руководстве, который мы позднее использовали, подписав сепаратный мирный договор с Финляндией в 1944 году. Кстати, это удалось сделать при посредничестве шведской семьи Валленбергов. Не увенчались успехом и наши попытки найти тайные подходы к Маннергейму через его бывшего сослуживца по царской армии – графа Игнатьева, перешедшего на службу в Красную Армию в 1920‑е годы.
Мне ничего не известно о подобного рода неофициальных предложениях немецкой стороне, однако полагаю, что президент Финляндии маршал Карл Густав Маннергейм проинформировал Гитлера о наших предложениях, так что фюрер, посылая своего министра иностранных дел Иоахима фон Риббентропа в Москву в августе 1939 года для переговоров о подписании пакта о ненападении, полагался не только на спонтанную реакцию Молотова и Сталина. Он был осведомлен о том, что мы готовы принять предложение подобного рода, поскольку сами уже пытались заключить аналогичный договор с соседней Финляндией.
Отказ Финляндии последовал в том же месяце 1938 года. Финнам было куда важнее оставаться союзниками Англии, Швеции и Германии. К тому же они не видели для себя никаких выгод в роли буферной зоны между Востоком и Западом. Позднее, однако, эта роль все же быта им навязана. За то, что Финляндия напала на Советский Союз вместе с немцами, она должна была заплатить дорогую цену. В результате финны получили куда менее выгодные для себя условия, чем те, которые первоначально предлагал Рыбкин в 1938 году.
В августе 1939 года объем разведывательной информации резко возрос. Мы получили достоверное сообщение о том, что французское и британское правительства не горят желанием оказать Советскому Союзу поддержку в случае войны с Германией. Это вполне совпадало с данными, полученными нами тремя или четырьмя годами раньше от кембриджской группы. По этим сведениям, британский кабинет министров, точнее, Невилл Чемберлен и сэр Джон Саймон рассматривали возможность тайного соглашения с Гитлером для оказания ему поддержки в военной конфронтации с Советским Союзом. Особого внимания заслуживала информация трех надежных источников из Германии: руководство вермахта решительно возражало против войны на два фронта.
Полученные директивы обязывали нас быстро рассмотреть возможные варианты сотрудничества со странами, готовыми подписать соглашения о противодействии развязыванию войны. Речь шла не только об Англии и Франции, с которыми велись консультации с начала 1938 года, но также и о Германии. В Германии за мирное урегулирование отношений с Советским Союзом выступали в среде влиятельных военных лишь выходцы из Восточной Пруссии.
Рассматривая в соответствии с полученными директивами альтернативные варианты (или соглашение с англичанами и французами, или мирное урегулирование с Германией), я не мог даже представить, что экономические переговоры завершатся пактом о сотрудничестве Берлина и Москвы. Когда меня информировали о предстоящем прибытии министра иностранных дел Германии в Москву 23 августа 1939 года – всего за несколько часов до того как это произошло, – я был удивлен. После прибытия Риббентропа и последовавшего через тринадцать часов подписания Пакта о ненападении (это событие произошло в Кремле в два часа ночи 24 августа), стало ясно: принятое решение не было внезапным. Стратегической целью советского руководства было любой ценой избежать войны на два фронта – на Дальнем Востоке и в Европе. Такая линия дипломатических отношений, не привязанных к идеологическим соображениям, установилась еще с 20‑х годов, когда Советский Союз осуществлял экономическое сотрудничество и поддерживал нормальные отношения с Италией после прихода к власти в 1922 году фашистского режима Бенито Муссолини. Кремлевское руководство было готово к компромиссам с любым режимом при условии, что это гарантировало стабильность Советскому Союзу. Для Сталина и его окружения воплощение в жизнь их геополитических устремлений преобразовать Советский Союз в мощнейшую державу мира всегда было приоритетом.
Страна получила возможность более или менее стабильно развиваться лишь после завершения коллективизации в 1934 году. До этого мы пережили последовательно гражданскую войну, голод, разруху. И лишь к середине 30‑х начала приносить свои плоды индустриализация. Растущая мощь государства была продемонстрирована в успешных военных действиях против Японии в Монголии и Маньчжурии. Хотя страна установила дипломатические отношения со всеми ведущими державами мира, нас, тем не менее, держали и в изоляции, что наглядно проявлялось, когда мировые державы не допускали нас к участию в решении кардинальных мировых вопросов, от которых зависели их интересы. Все соглашения по Европе и Азии принимались западными странами и Японией в ущерб интересам Советского Союза. Англо‑германское соглашение 1933 года, признававшее перевооружение немецких военно‑морских сил, и последующие соглашения между ведущими державами мира по оснащению современными видами оружия своих флотов даже не упоминали Советский Союз.
Французская и английская делегации, прибывшие в Москву летом 1939 года, чтобы прозондировать почву для создания возможного союза против Гитлера, состояли из второстепенных фигур. Таким образом, политика Сталина по отношению к Гитлеру основывалась на правильном соображении, что враждебность западного мира и Японии к советскому строю сделает изоляцию СССР от международного сообщества постоянным фактором.
Оглядываясь назад, нельзя не прийти к выводу, что все три будущих союзника по антигитлеровской коалиции – СССР, Британия и Франция – виноваты в том, что позволили Гитлеру развязать вторую мировую войну. Взаимные неприязнь и противоречия – вот что помешало достижению компромисса между Англией и Францией с одной стороны и Советским Союзом – с другой. Компромисса, который бы позволил сообща остановить агрессию Гитлера против Польши. Историки Второй мировой войны почему‑то упускают из виду, что англо‑франко‑советские переговоры в 1939 году были начаты фактически по инициативе президента США Франклина Д. Рузвельта. Дональд Маклин сообщал, что Рузвельт направил своего представителя британскому премьер‑министру Чемберлену с предостережением: господство Германии в Западной Европе было бы губительным для интересов как Америки, так и Британии. Рузвельт побуждал Чемберлена для сдерживания Гитлера вступить в переговоры с европейскими союзниками Великобритании, включая и Советский Союз. Наши источники сообщали, что британское правительство с явной неохотой отнеслось к американской инициативе, так что Рузвельту пришлось оказать на британцев нажим, чтобы заставить их все‑таки пойти на переговоры с Советами по выработке военных мер для противостояния Гитлеру.
Тем не менее, быстрота, с какой был подписан договор о ненападении с Гитлером, поразила меня: ведь всего за два дня до того, как он был подписан, я получил приказ искать возможные пути для мирного урегулирования наших отношений с Германией. Мы еще продолжали посылать наши стратегические предложения Сталину и Молотову, а договор уже был подписан: Сталин проводил переговоры сам в обстановке строжайшей секретности.
Я ничего не знал о протоколах пакта Молотова‑Риббентропа, но вообще такого рода секретные протоколы – самая обычная вещь в дипломатических отношениях, затрагивающих особо сложные вопросы. Накануне войны британское правительство подписало секретные протоколы с Польшей – в них речь шла об оказании военной помощи Польше в случае войны с Германией. В 1993 году, например, один немецкий еженедельник опубликовал секретные протоколы и запись конфиденциальных бесед между Горбачевым и канцлером Гельмутом Колем, состоявшихся накануне воссоединения Германии. И сейчас, читая секретные протоколы Пакта Молотова‑Риббентропа, я не нахожу в них ничего тайного. Директивы, основанные на подписанных соглашениях, были весьма четкими и определенными: о них знали не только руководители разведки, но и военное руководство и дипломаты. Фактически знаменитая карта раздела Польши, приложенная к протоколам 28 сентября 1939 года, появилась на страницах «Правды», конечно, без подписей Сталина и Риббентропа, и ее мог видеть весь свет. К тому времени, однако, Польша была оккупирована.
В октябре 1939 года, вместе с Фитиным, начальником разведки, и Меркуловым, заместителем Берии, я принимал участие в совещании у Молотова в его кремлевском кабинете. Там находились также начальник оперативного Упрощения Генштаба генерал‑майор Василевский (в 50‑е годы министр обороны), заместитель наркома иностранных дел Потемкин, зампред Госплана Борисов, начальник штаба ВМФ адмирал Исаков, начальник погранвойск генерал Масленников и начальник военной разведки, кажется, генерал‑майор Панфилов.
На повестке дня стоял один вопрос – защита стратегических интересов в Прибалтике. Молотов хотел услышать наши соображения. Советские войска уже находились там в соответствии с договорами, подписанными с правительствами Литвы, Латвии и Эстонии. Открывая совещание, Молотов заявил:
– Мы имеем соглашение с Германией о том, что Прибалтика рассматривается как регион наиболее важных интересов Советского Союза. Ясно, однако, – продолжал Молотов, – что хотя германские власти признают это в принципе, они никогда не согласятся ни на какие «кардинальные социальные преобразования», которые изменили бы статус этих государств, их вхождение в состав Советского Союза. Более того, советское руководство полагает, что наилучший способ защитить интересы СССР в Прибалтике и создать там надежную границу – это помочь рабочему движению свергнуть марионеточные режимы.
Из этого заявления стало ясно, каким именно образом мы толковали условия соглашения с Гитлером. Однако поздней осенью 1939 года появился новый стимул для активизации наших политических, экономических, военных и разведывательных операций в Прибалтике. От наших резидентур в Швеции и Берлине мы получили проверенную и надежную информацию о том, что немцы планируют направить высокопоставленные экономические делегации в Ригу и Таллинн для заключения долгосрочных соглашений. Таким образом Прибалтика оказалась бы под политическим и экономическим зонтиком Германии. Телеграммы из Берлина и Швеции были отправлены за двумя подписями – посла и резидента, что бывало крайне редко и означало: информация имеет важное политическое значение. Полученные в Москве, они с визами Молотова и Берии препровождались Фитину и мне по линии НКВД с приказом Берии немедленно представить по этому вопросу предложения. Телеграммы такого уровня, за подписью послов и резидентов, обычно направлялись нескольким членам правительства.
Фитин ознакомил с телеграммой Гукасова, начальника отделения по работе с националистическими и эмигрантскими организациями в районах, примыкающих к нашим границам. Кстати, именно Гукасов год назад потребовал от партбюро расследовать мое персональное дело. Сейчас, все еще с подозрением относясь к моей лояльности и, возможно, все еще держа на меня зло, он не передал мне указание Берии и самостоятельно подготовил предложения по противостоянию немецким спецслужбам в Латвии, Литве и Эстонии и в обход меня направил их Фитину. Его план заключался в том, чтобы использовать лишь агентурную сеть в трех республиках Прибалтики, состоявшую из русских и еврейских эмигрантов.
Разразился скандал.
Вызвав Фитина и меня и выслушав сообщение Фитина по записке Гукасова, Берия спросил мое мнение. Я честно ответил, что его у меня нет, я не получал никаких указаний и не в курсе германских намерений в Риге; в настоящее время я занимаюсь совершенно другими делами. Берия взорвался от ярости и велел срочно еще раз принести телеграммы. Тут он увидел, что на них нет моей подписи, а у нас было обязательное правило визировать любой секретный документ, проходящий через руки того или иного должностного лица в разведке и направленный для проработки. Гукасова тут же вызвали на ковер – и Берия пригрозил снести ему голову за невыполнение его приказа. Гукасов в ответ, понизив голос, в доверительном тоне (он был уроженец Тбилиси) сказал буквально следующее. Он действительно не показал мне телеграммы, так как получил информацию от начальника следственной части Сергиенко о наличии материалов, в которых говорится о моих подозрительных контактах с врагами народа – бывшим руководством разведки. Берия резко оборвал Гукасова: надо бросать идиотскую привычку лезть со своими предложениями и раз и навсегда зарубить себе на носу, что приказы должны выполняться беспрекословно и незамедлительно.
Европа сейчас в огне войны, и задачи разведки в нынешних условиях, – подчеркнул Берия, – стали совершенно иными.
И тут же процитировал Сталина, потребовавшего активного включения оперативных сотрудников разведорганов в политические зондажные операции с использованием любых конфликтов в правящих кругах иностранных государств.
– Это, – подытожил Берия, – ключ к успеху в свержении нынешних правительств марионеточных государств, провозгласивших свою так называемую независимость в 1918 году под защитой немецких штыков. – Из этой тирады мы сразу поняли, что он имеет в виду государства Прибалтики. – Немцы и раньше, и теперь, – продолжал Берия, – рассматривают их как свои провинции, считая колониями германской империи. Наша же задача состоит в том, чтобы сыграть на противоречиях между Англией и Швецией в данном регионе. – При этих словах он повернулся в мою сторону. – Обдумайте все как следует и немедленно вызовите в Москву Чичаева. Потом доложите ваши соображения с учетом необходимых материальных средств. Срок – три дня.
Самоуверенная, дерзкая постановка вопроса отражала то новое мышление, которое демонстрировали Сталин, Молотов и Берия после подписания пакта, который явно прибавил им веры в собственные возможности. В регионах, уже официально вошедших теперь в сферу наших интересов, мы начинали кардинально новую активную политику, с тем, чтобы повлиять на внутренний курс правительств этих государств.
Прибывший в Москву Чичаев, резидент НКВД в Риге, сообщил о резких расхождениях и натянутых отношениях внутри правительства Латвии – прежде всего между президентом Ульманисом и военным министром Балодисом. Этот конфликт подрывал стабильность существовавшего режима, уже находившегося под двойным давлением – нашим и немецким. Немцы, вполне естественно, опирались на своих преданных сторонников в экономических управленческих структурах и деловых кругах, в то время как мы рассчитывали на влияние среди левых групп, связанных как с компартией, так и с профсоюзами. Как бы там ни было, Латвия, как, впрочем, и другие государства Прибалтики, по существу являлась буферной зоной между нами и Германией. План создания широкой коалиции, когда в правительстве должны быть представлены как немецкие, так и советские интересы, также обсуждался на встрече в кремлевском кабинете Молотова. Узнав о таком варианте, президент Латой и Ульманис выступили резко против, между тем как министр иностранных дел Вильгельм Мунтере неожиданно одобрил эту идею. Обстановка в республике накалялась еще и потому, что там ширилось и поддерживаемое нами забастовочное движение. Углублялся и экономический кризис, вызванный начавшейся войной: традиционные торговые связи региона с Британией и Западной Европой оказались оборванными.
Чичаев и Ветров, советник нашего полпредства в Риге, пришли ко мне, и Ветров предложил сыграть на личных амбициях Мунтерса, чья репутация в Берлине была довольно устойчивой из‑за его частых встреч с Риббентропом. Что касается Ульманиса, то его правительство не пользовалось особой популярностью в результате ошибок в экономической области с одной стороны и примиренческой позиции, занятой им по отношению к шовинистически настроенным немецким бизнесменам в Риге, – с другой. Эти коммерсанты скупали все наиболее ценное, что было в республике, широко пользуясь теми преимуществами, которые открывались перед ними из‑за прекращения торговых связей Латвии с Западной Европой. Кстати, около семидесяти процентов всего латвийского экспорта шло в Германию – по существу по демпинговым ценам. Я информировал Берию и Молотова, что правительство Латвии опирается не столько на поддержку регулярных воинских формирований, сколько на вспомогательные полицейские части, составленные в основном из сыновей фермеров и мелких торговцев.
По нашему убеждению, министр иностранных дел Мунтерс был идеальной фигурой для того, чтобы возглавить правительство, приемлемое как для немецких, так и для советских интересов. Когда он обязал ведущие латвийские газеты опубликовать фотографию Молотова (в честь его 50‑летия), мы восприняли это как знак его готовности установить личные контакты с Молотовым. Наша реакция была незамедлительной: мне тут же выдали дипломатический паспорт на имя Матвеева, а Мунтерса информировали о том, что с ним хотел бы встретиться Матвеев, специальный советник Молотова, для того чтобы латвийский министр мог через него передать все то важное, что у него могло быть помимо протокола. Эти неофициальные послания будут затем вручены советскому руководству. Был июнь 1940 года – и действовать следовало срочно. Вот почему до Риги я добирался не поездом, а на борту скоростного советского бомбардировщика. В Риге я вместе с Ветровым нанес тайный визит Мунтерсу, выразив во время нашей встречи пожелание советского правительства как можно скорее произвести перестановки в составе кабинета министров республики, с тем, чтобы он, Мунтере, смог возглавить новое коалиционное правительство.
Мой визит был частью комплексной операции по захвату контроля над правительством Латвии. Руководил ею Меркулов, первый заместитель Берии, тайно прилетевший в Ригу еще до меня для координации плана действий на месте. Находясь в Риге под видом советника Молотова, я докладывал обо всем Меркулову, у которого был прямой выход по телефону на Молотова и Берию. Между тем правительству в Риге был предъявлен ультиматум. В результате президент Ульманис вынужден был уйти со своего поста, наши войска оккупировали Латвию и экс‑президента арестовали. Обстановка изменила правила игры. Немцы оказались слишком глубоко втянутыми в военные операции на Западе, чтобы интересоваться событиями, происходящими в Латвии. В связи с этим Молотов и Сталин решили поставить во главе прибалтийских государств не тех, кто устраивал бы обе стороны (как, например, тот же Мунтере), а надежных людей, близких к компартии. Правда, некоторые из первоначальных условий, предполагавших создание коалиционных правительств, все же сохранялись. Так, скажем, латвийским и эстонским генералам были присвоены звания, аналогичные званиям в Красной Армии, а Мунтерса хотя и арестовали, но сделали это не сразу.
Вместе с Ветровым я отправился в резиденцию Мунтерса, где нами были предприняты все меры, чтобы упаковать его имущество и без лишнего шума вывезти всех членов семьи в Москву. Оттуда их перевезли в Воронеж, где Мунтерса определили на должность профессора в Воронежский университет. Немецкую сторону мы официально уведомили, что по‑прежнему считаем Мунтерса политически значимой фигурой. Находясь под нашим контролем, он встречался в Москве за обедом с немецкими дипломатическими представителями, но судьба его уже была решена, и ему не удалось стать даже марионеточным главой правительства. В 1941 году, когда началась война с Германией, Мунтерса арестовали и приговорили к длительному сроку тюремного заключения за деятельность, враждебную советскому правительству. По странному стечению обстоятельств я встретился с Мунтерсом во Владимирской тюрьме в конце 1958‑го или начале 1959 года. Когда его выпустили, он остался жить во Владимире. Выйдя на пенсию, он публиковал статьи в «Известиях», доказывая неизбежность союза Латвии с СССР.
Судьба прибалтийских государств, которую первоначально определяли в Кремле и в Берлине, во многом похожа на судьбу восточноевропейских, предрешенную в свое время в Ялте. Сходство тут разительное: и в том, и в другом случае предварительным соглашением предусматривалось создание коалиционных правительств, дружественных обеим сторонам. Нам нужна была буферная зона, отделявшая нас от сфер влияния других мировых держав, и мы проявляли готовность идти на жесткую конфронтацию в тех районах, где к концу войны находились войска Красной Армии. Снова повторюсь, задачу построения коммунизма Кремль видел главным образом в том, чтобы всемерно укреплять мощь советского государства. Роль мировой державы мы могли играть лишь в том случае, если государство обладало достаточной военной силой и было в состоянии подчинить своему влиянию страны, находящиеся у наших границ. Идея пропаганды сверху коммунистической революции во всем мире была дымовой завесой идеологического характера, призванной утвердить СССР в роли сверхдержавы, влияющей на все события в мире. Хотя изначально эта концепция и была идеологической, она постепенно стала реальным политическим курсом. Такая возможность открылась перед нашим государством впервые после подписания пакта Молотова‑Риббентропа. Ведь отныне, как подтверждали секретные протоколы, одна из ведущих держав мира признавала международные интересы Советского Союза и его естественное желание расширять свои границы.
После истории с Гукасовым, о которой я рассказал, но еще до того, как Латвия была оккупирована нашими войсками, Берия неожиданно вызвал меня к себе и предложил сопровождать его на футбольный матч на стадионе «Динамо». Никаких объяснений он не дал – это был приказ. Играли «Спартак», команда профсоюзов, и «Динамо», команда НКВД: в те годы каждая встреча этих команд была сама по себе событием. Поначалу я решил, что Берия хочет, чтобы я присутствовал во время его беседы с агентом в ресторане. Ресторан находился при стадионе и был идеальным местом для встреч с агентами, так как кабинеты там были оборудованы подслушивающими устройствами. Когда мы приехали на стадион и вышли из машины, я следовал за Берией на почтительном расстоянии, поскольку к нему сразу подошли Кобулов, Цанава, Масленников и другие замы, тут же окружившие своего шефа. Обернувшись, он, однако, сделал мне знак подойти ближе и идти рядом – так я очутился в правительственной ложе. Берия представил меня Маленкову и другим партийным и государственным деятелям. Надо сказать, что чувствовал я себя крайне неловко. Все это время я просидел молча, но сам факт моего присутствия на правительственной трибуне дал понять Круглову, Серову, Цанаве и другим, что пора прекратить распространять слухи о моих подозрительных контактах, связях и о каких‑то компрометирующих меня материалах, имевшихся в следственной части. Они должны были убедиться, что отныне я отношусь к разряду доверенных людей в глазах руководства страны.
Мне повезло, что все мои встречи с Берией – и у него на квартире, и на даче – неизменно носили сугубо деловой характер. Это относится даже к тому случаю, когда я вместе с ним присутствовал на свадьбе его протеже Бардо Максималишвили, привлекательной грузинки, которая прошла обучение азам разведки под руководством моей жены. Ходили слухи, что она стана любовницей Берии еще в Тбилиси, будучи студенткой медицинского факультета, а после переезда в столицу он взял ее на работу в свой секретариат, а затем устроил так, что она вышла замуж за рядового сотрудника НКВД, тоже грузина. На свадьбу меня пригласили, чтобы я пригляделся к ней и ее мужу и оценил их манеру поведения (например, не слишком ли много они пьют). Такая необходимость была вызвана тем, что молодоженов собирались направить в Париж для работы в тамошней общине грузинских эмигрантов.
После одного или двух лет работы в Париже Вардо возвратилась в Москву, где до 1952 года прослужила в разведке. В 1952 году ее арестовали, обвинив в том, что, находясь в Париже, она участвовала в заговоре против советского государства, готовившемся грузинскими эмигрантами, под руководством влиятельной антисоветской мингрельской организации – здесь явно имелся в виду Берия, который был мингрелом. Ее бросили в тюрьму по прямому приказу Сталина, и она оставалась там до его смерти в 1953 году. Ее сразу же освободили по распоряжению Берии, но после его свержения опять арестовали и два года продержали в заключении. Выйдя из тюрьмы, она вернулась к своей прежней профессии медика. К списку обрушившихся на ее голову бед надо добавить еще одну. В 1939 или 1940 году Моссовет выдал им с мужем ордер на квартиру, ранее принадлежавшую нашему известному театральному режиссеру Всеволоду Мейерхольду, репрессированному по приказу Сталина. Кстати говоря, квартира эта использовалась НКВД в качестве явочной. Во время новой кампании по десталинизации при Горбачеве на Вардо стали всячески давить, требуя, чтобы она освободила квартиру. Выселить ее в законном порядке Моссовету было весьма затруднительно, поскольку у нее имелись документы, подтверждающие, что Вардо сама является жертвой политических репрессий. После того как по телевидению, правда, без указания фамилии Вардо, был показан сюжет о ситуации с квартирой Мейерхольда, это дело начало приобретать огласку. Тогда КГБ, желая избежать громкого скандала, сумел подобрать для нее и ее семьи равноценную жилплощадь.
Пакт Молотова‑Риббентропа имел для нас еще одно последствие – присоединение Западной Украины. После оккупации Польши немецкими войсками наша армия заняла Галицию и Восточную Польшу. Галиция всегда была оплотом украинского националистического движения, которому оказывали поддержку такие лидеры как Гитлер и Канарис в Германии, Бенеш в Чехословакии и федеральный канцлер Австрии Энгельберт Дольфус. Столица Галиции Львов сделалась центром, куда стекались беженцы из Польши, спасавшиеся от немецких оккупационных войск. Польская разведка и контрразведка переправили во Львов всех своих наиболее важных заключенных – тех, кого подозревали в двойной игре во время немецко‑польской конфронтации 30‑х годов. О том, что творилось в Галиции, я узнал лишь в октябре 1939 года, когда Красная Армия заняла Львов. Первый секретарь компартии Украины Хрущев и его нарком внутренних дел Серов выехали туда, чтобы проводить на месте кампанию советизации Западной Украины. Мою жену направили во Львов вместе с Павлом Журавлевым, начальником немецкого направления нашей разведки. Мне было тревожно: ее подразделение занималось немецкими агентами и подпольными организациями украинских националистов, а во Львове атмосфера была разительно непохожа на положение дел в советской части Украины.
Во Львове процветал западный капиталистический образ жизни: оптовая и розничная торговля находилась в руках частников, которых вскоре предстояло ликвидировать в ходе советизации. Огромным влиянием пользовалась украинская униатская церковь, местное население оказывало поддержку организации украинских националистов, возглавляемой людьми Бандеры. По нашим данным, ОУН действовала весьма активно и располагала значительными силами. Кроме того, она обладала богатым опытом подпольной деятельности, которого, увы, не было у серовской «команды». Служба контрразведки украинских националистов сумела довольно быстро выследить некоторые явочные квартиры НКВД во Львове. Метод их слежки был крайне прост: они начинали ее возле здания горотдела НКВД и сопровождали каждого, кто выходил оттуда в штатском и… в сапогах, что выдавало в нем военного: украинские чекисты, скрывая под пальто форму, забывали такой «пустяк» как обувь. Они, видимо, не учли, что на Западной Украине сапоги носили одни военные. Впрочем, откуда им было об этом знать, когда в советской части Украины сапоги носили все, поскольку другой обуви просто нельзя было достать.
О провале явочных квартир доложили Центру, а моя жена перебралась в гостиницу «Центральная», сначала под видом беженки из Варшавы, а затем выдавала себя за журналистку из «Известий». Она широко использовала свой опыт работы с польскими беженцами в Белоруссии в 20‑х годах. По‑польски она говорила свободно, и вскоре ей удалось установить дружеские отношения с одной семьей польских евреев из Варшавы. Она помогла им выехать в Москву, где их встретили мы, дали денег и отправили в США к родственникам. Мы договорились, что «дружеские отношения» будут продолжены, а это означало: в случае необходимости советская разведслужба сможет на них рассчитывать. Они не знали, что моя жена – оперативный работник, и согласились на дальнейшую связь. Уже позднее, после моего ареста, турист из США, один из родственников этой семьи, приехав в Москву в 1960 году, пытался разыскать мою жену в издательстве «Известия», где, как Эмма в свое время говорила, она работает переводчицей. Они встретились весьма сердечно, но для разведывательных целей этого человека не разрабатывали.
Серов и Хрущев игнорировали предупреждения Журавлева, считавшего, что по отношению к местным украинским лидерам и деятелям культуры следует проявлять максимум терпения. Многие из них были достаточно широко известны в Праге, Вене и Берлине. Так, Серов арестовал Кост‑Левицкого, являвшегося одно время главой бывшей независимой Украинской Народной Республики. Хрущев незамедлительно сообщил об этом аресте Сталину, подчеркивая свои заслуги в деле нейтрализации потенциального премьера украинского правительства в изгнании. Кост‑Левицкого этапировали из Львова в Москву и заключили в тюрьму. К тому времени ему было уже за восемьдесят, и арест этого старого человека сильно повредил нашему престижу в глазах украинской интеллигенции. Пакт Молотова‑Риббентропа положил конец планам украинских националистов по созданию независимой республики Карпатской Украины, планам, активно поддерживаемым в 1938 году Англией и Францией. Эта идея была торпедирована Бенешем, который согласился со Сталиным в том, что Карпатская Украина, включавшая также часть территории, принадлежавшей Чехословакии, будет целиком передана Советскому Союзу. Коновалец, единственный украинский лидер, имевший доступ к Гитлеру и Герингу, был, как известно, ликвидирован в 1938 году (когда‑то он служил полковником в австрийской армии и пользовался в кругах немецких «наци» некоторым уважением). Другие националистические лидеры на Украине не имели сталь высоких связей с немцами – в основном это были оперативники из абвера или гестапо, и британские или французские власти не придавали этим людям сколько‑нибудь серьезного значения и не делали на них ставки, когда разразилась война. Поэтому заявления Хрущева о том, что он якобы сорвал западные планы создания украинского временного правительства в изгнании, арестовав Кост‑Левицкого, попросту не соответствовали действительности, и когда мне приказали дать оценку тому, насколько важно задержание Кост‑Левицкого в Москве, я в своем докладе Берии, который затем был послан Молотову, подчеркнул, что задержание это ни с какой точки зрения не оправдано. Напротив, следует предоставить Галиции специальный статус, чтобы нейтрализовать широко распространенную антисоветскую пропаганду, и необходимо немедленно освободить Кост‑Левицкого, извиниться перед ним и отослать обратно живым и невредимым, дав возможность жить во Львове с максимальным комфортом. Это должно быть сделано, естественно, при условии, что он, в свою очередь, поддержит нашу идею направить в Киев и Москву влиятельную и представительную делегацию из Западной Украины для переговоров о специальном статусе для Галиции в составе советской республики Украины. Тем самым было бы оказано должное уважение местным традициям. Молотов согласился. Кост‑Левицкий был освобожден и выехал обратно во Львов в отдельном спецвагоне.
Это предложение было моей первой открытой конфронтацией с Хрущевым и Серовым.
В соответствии с секретным протоколом между Молотовым и Риббентропом СССР не должен был препятствовать немецким гражданам и лицам немецкой национальности, проживавшим на территориях, входящих в сферу наших интересов, переселяться по их желанию в Германию или на территории, входившие в сферу германских интересов. Мы решили воспользоваться этими условиями.
В Черновцы была направлена группа капитана Адамовича. По‑моему, в ней был только что вновь привлеченный к работе после увольнения в 1938 году за связь с невозвращенцем Орловым Вильям Фишер. Позднее он взял себе имя Рудольф Абель. Черновцы находятся возле границы – между Буковиной (Галиция) с одной стороны и польской территорией, в то время оккупированной немцами, – с другой. Группе предстояло наладить контакты с агентами, завербованными нами из числа этнических немцев, поляков и украинцев. Они должны были обосноваться в этих местах как беженцы от коммунистического режима, ищущие защиты на территориях, контролируемых немцами. Капитан Адамович выехал из Москвы в Черновцы, взяв с собой фотографии наших агентов в Польше и Германии, – их он должен был показать четырем агентам, которым надлежало узнать этих людей на предварительно назначенных рандеву в Варшаве, Данциге (Гданьск), Берлине и Кракове. На фотографиях были запечатлены наши сотрудники, действовавшие под прикрытием дипломатических служб, торговых представительств или журналистской деятельности в этих городах. В задачу Фишера (Абеля) входило обучить четырех агентов основам радиосвязи.
Однако после того, как Адамович был принят Серовым, возможно, в Черновцах, и договорился о материально‑технической базе, необходимой для обучения агентов, он неожиданно исчез. Не найдя его, Серов изругал Фишера и доложил об исчезновении Адамовича Хрущеву. Фишер же, хотя и был сотрудником группы, не догадывался о бюрократических интригах и полагал, что если он доложил о двухдневном отсутствии Адамовича начальнику местного НКВД, то ему незачем докладывать также и мне в Москву. Можете себе представить мое состояние, когда я был вызван в кабинет к Берии, который приказал доложить о том, как проходит операция Адамовича. Он был в ярости, когда я не смог сообщить ничего нового, кроме информации недельной давности.
Зазвонил телефон. Это был Хрущев. Он начал возмущенно попрекать Берию тем, что к нему на Украину засылают некомпетентных людей и изменников, вмешивающихся в работу украинского НКВД. По его словам, местные кадры в состоянии провести сами всю необходимую работу.
– Этот ваш Адамович – негодяй! – прокричал он в трубку. – Он, по нашим данным, сбежал к немцам.
Линия правительственной связи давала возможность и мне слышать его сердитые слова. Берии явно не хотелось в моем присутствии отвечать в той же грубой манере, и он по возможности мягко сказал:
– Никита Сергеевич, тут у меня майор Судоплатов, заместитель начальника нашей разведки. За операцию Адамовича отвечает лично он. На любые ваши вопросы вы сможете получить ответ у него.
Взяв трубку, я начал объяснять, что Адамович компетентный работник, хорошо знает Польшу. Но Хрущев не стал слушать моих объяснений и оборвал меня. Он был убежден, что Адамович у немцев, и его следует немедленно найти или выкрасть. Далее он заявил, что сломает мою карьеру, если я буду продолжать упорствовать, покрывая таких бандитов и негодяев как Кост‑Левицкий и Адамович. В сердцах он швырнул трубку, не дожидаясь моего ответа.
Реакция Берии была сдержанно официальной.
– Через два дня, – отчеканил он, – Адамович должен быть найден – живой или мертвый. Если он жив, его следует тут же доставить в Москву. В случае невыполнения указания члена Политбюро вы будете нести всю ответственность за последствия с учетом ваших прошлых связей с врагами народа в бывшем руководстве разведорганов.
Я вышел из кабинета с тяжелым чувством. Через десять минут мой телефон начал трезвонить не переставая. Контрразведка, погранвойска, начальники райотделов украинского и белорусского НКВД… Все требовали фотографии Адамовича. По личному указанию Берии начался всесоюзный розыск. Прошло два дня, но на след Адамовича напасть так и не удалось. Я понимал, что мне грозят крупные неприятности. В последний момент, однако, я решил позвонить проживавшей в Москве жене Адамовича. По сведениям, которыми я располагал, в ее поведении за последние дни не было замечено ничего подозрительного. Как бы между прочим я осведомился, когда она в последний раз разговаривала со своим мужем. К моему удивлению, она поблагодарила меня за этот звонок и сказала, что ее муж два последних дня находится дома – у него сотрясение мозга и врачи из поликлиники НКВД запретили ему вставать с постели в течение по крайней мере нескольких дней. Я тут же позвонил генералу Новикову, начальнику медслужбы НКВД, и он подтвердил, что все так и есть на самом деле.
Надо ли описывать испытанное мной облегчение? Докладывая Берии как обычно в конце дня, я сообщил, что Адамович находится в Москве.
– Под арестом? – спросил Берия.
– Нет, – ответил я и начал объяснять ситуацию.
Мы были в кабинете одни. Он грубо оборвал меня, употребляя слова, которых я никак не ожидал от члена Политбюро. Разъяренный, он описывал круги по своему огромному кабинету, выкрикивая ругательства в адрес меня и Адамовича, называя нас болванами, безответственными молокососами, компрометирующими НКВД в глазах партийного руководства.
– Почему вы молчите? – уставился он на меня, неожиданно прервав свою тираду.
Я ответил, что у меня страшная головная боль.
– Тогда немедленно, сейчас же, – бросил Берия, – отправляйтесь домой.
Прежде чем уйти, я заполнил ордер на арест Адамовича и зашел к Меркулову, который должен был его подписать. Однако когда я объяснил ему, в чем дело, он рассмеялся мне в лицо и порвал бумагу на моих глазах. В этот момент головная боль стала совсем невыносимой, и офицер медслужбы отвез меня домой. На следующее утро позвонил секретарь Берии, он был предельно краток и деловит – нарком приказал оставаться дома три дня и лечиться, добавив, что хозяин посылает мне лимоны, полученные из Грузии. Расследование показало: Адамович, напившись в ресторане на вокзале в Черновцах, в туалетной комнате ввязался в драку и получил сильный удар по голове, вызвавший сотрясение мозга. В этом состоянии он сумел сесть на московский поезд, забыв проинформировать Фишера (Абеля) о своем отъезде. В ходе драки фотографии, которые ему нужно было показать четырем нашим агентам, оказались потерянными. Позднее их, правда, обнаружили на вокзале сотрудники украинского НКВД, полагавшие, что драку специально затеяли агенты абвера, пытаясь похитить Адамовича. Дело кончилось тем, что Адамовича уволили из НКВД и назначили сперва заместителем министра иностранных дел Узбекистана, а затем и министром. Я видел его еще один раз на театральной премьере в Москве в начале 50‑х, но мы не поздоровались друг с другом.
К несчастью, мой конфликт с Серовым и Хрущевым на этом не закончился. Серов был замешан в любовной истории с известной польской оперной певицей Бандровска‑Турска. В Москве он объявил о том, что лично завербовал ее. Все были в восторге – ведь певица пользовалась европейской славой и часто перед войной гастролировала в Москве и в других европейских столицах. Эйфория, однако, скоро прошла с согласия Серова она выехала в Румынию, где наотрез отказалась встретиться в Бухаресте с нашим резидентом – советником полпредства. И Хрущев, и Берия получили тогда письмо от сотрудников украинского НКВД, обвинявших Серова в том, что он заводит шашни под видом выполнения своих оперативных обязанностей.
Серова срочно вызвали в Москву. Мне довелось быть в кабинете Берии в тот момент, когда он предложил Серову объяснить свои действия и ответить на обвинения в его адрес. Серов сказал, что на роман с Бандровска‑Турска он получил разрешение от самого Хрущева, и это было вызвано оперативными требованиями. Берия разрешил ему позвонить из своего кабинета Хрущеву, но как только тот услышал, откуда Серов звонит, он тут же начал ругаться:
Конец ознакомительного фрагмента — скачать книгу легально
Библиотека электронных книг "Семь Книг" - admin@7books.ru