
Созвездие Стрельца | Анна Берсенева
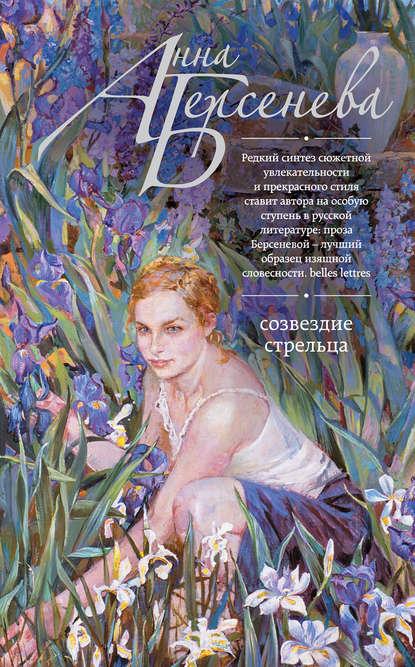
Анна Берсенева
Созвездие Стрельца
* * *
Часть I
Глава 1
– Толстый я стал. Не знаю, как похудеть.
Пассажиров в троллейбусе было всего двое, и оба дремали, поэтому разговор водителя с женщиной, стоящей возле открытого окошка кабины, был слышен Марине во всех подробностях.
– Влюбиться тебе надо, – сказала женщина.
– Влюблялся уже, – ответил водитель. – Не помогает.
– Значит, не в ту влюблялся.
Троллейбус подъехал к утренней безлюдной остановке.
– Да я в разных пробовал, – сказал водитель.
Открылись двери.
– Значит, не так влюблялся, – ответила женщина.
Марина услышала это, уже выходя на улицу. Августовское утро было так прекрасно, а разговор так безыскусен, что она улыбнулась. Хотя лично для нее ничего радостного не могло быть ни в прелести этого утра, ни в чужих разговорах о любви.
Мама уже пила кофе, просматривая на айпаде утренние новости. Она всегда вставала рано, даже зимой, а уж летом, говорила, просто преступление спать после рассвета. Когда Марине было тринадцать лет и они отправились в морской круиз, мама каждое утро будила ее в полутьме и вела на палубу смотреть, как солнце встает. Марина канючила, что лучше посмотрит, как оно садится, ну ладно, посмотрит и рассвет, но одного раза достаточно, солнце ведь каждое утро встает одинаково.
Однако на маму Маринино нытье не производило ни малейшего впечатления.
– Солнце каждое утро встает по‑разному, – безмятежым тоном отвечала она. – И воздух каждое утро новый, и волны. Ты должна это видеть. Чехов прав: кто видел Индийский океан, тому будет что вспоминать всю остальную жизнь во время бессонницы.
Маринины доводы о том, что у нее нет бессонницы и что они же не в Индийском океане, а в Средиземном море, мама пропускала мимо ушей.
Маме всегда нравилась изменчивость мира, его новизна, и с возрастом это качество не ослабело в ней. Пожалуйста – новости на айпаде читает, киндл купила, на Фейсбуке общается. Но что‑то остается в ней неизменным, и это неуловимое «что‑то» напоминает о себе повседневными знаками, и привычка к раннему пробуждению – из их числа.
– Доброе утро, – сказала мама, увидев Марину на пороге кухни. – Что‑нибудь случилось?
– Ничего особенного. – Марина была уверена, что ее голос звучит так же спокойно, как и мамин. – Поживу дня два у вас, ладно? У меня краской пахнет.
Ремонт, который Марина еще весной затеяла у себя в квартире, двигался очень неспешно, но теперь наконец дотащился до завершающей стадии.
– А в Мамонтовке что? – Мама встряхнула стеклянную миску с разноцветными кофейными капсулами и спросила: – Какую тебе?
– Розовую, – ответила Марина. – Нет, лучше покрепче – коричневую. – И добавила: – А в Мамонтовке ничего не получилось.
Мама вставила капсулу в машинку, кофе, благоухая, полился в чашку.
– Опять не получилось, – уточнила Марина. – Почему, как думаешь?
– Потому что новый твой мужчина оказался такой же, как всегда.
– Откуда ты знаешь?
– Ну а почему еще?
– Например, потому что я такая же, как всегда.
– Это настолько очевидно, что вообще не требует размышлений.
– А что тогда требует? – вздохнула Марина.
– То, что ты раз за разом пытаешься приладиться к одинаковым мужчинам. Наступаешь на них, как на грабли. Это странно.
– Что странного? – пожала плечами Марина. – Ну да, мне нравится определенный мужской тип.
– Сомнительный тип, – заметила мама. – И почему тебе нравится именно он?
Марина не ответила. Не было у нее ответа.
– О чем пишут? – спросила она, кивнув на мамин айпад.
Спросила вообще‑то машинально. Через три часа после того, как вдребезги разбились твои надежды на устройство личной жизни, и это еще очень мягко говоря, – было бы удивительно, если бы тебя интересовало что‑нибудь кроме этого.
– О будущих кокусах в Айове, – ответила мама.
– Кокусы – это кто? – не поняла Марина.
– Не кто, а что – праймериз. В США началась президентская кампания, – объяснила та.
– Мама, ты счастливый человек!
Марина засмеялась и, допив кофе, ушла в ванную. Ей в самом деле стало как‑то повеселее. Кокусы в Айове!.. Сколько жизни надо иметь в себе, чтобы в пятьдесят два года так интересоваться жизнью вне себя!
Марина приехала из Мамонтовки с одной сумкой, в которую сложила всю одежду без разбора. Она отнесла сумку в ванную, выгрузила ее содержимое в стиральную машину и села на пол, глядя, как крутятся в пене за стеклом легкие юбочки и сарафанчики – навязчивые доказательства того, как легко, беззаботно и весело можно было бы жить с ней, с такой яркой, светлой и беспечной. Даже куртки теплой у нее с собой не было. И не понадобилась ей куртка ни разу за все это лето, солнечное и ясное.
Глава 2
День рождения Алены Солнечкиной открывал летний сезон, хотя и приходился на последний день весны. Алена всегда приглашала гостей домой, что уже само по себе было редкостью – зачем, если можно позвать в кафе и обойтись без лишних забот? Вдобавок она собирала компанию даже не в городской квартире, откуда проще выпроводить, а на даче, где половина приглашенных оставалась ночевать и гуляла потом весь следующий день. В общем, праздник получался заметный, и вся поликлиника его ждала, потому что именно с него всегда начиналось лето.
Марина приехала к Алене в Мамонтовку пораньше – стол накрывать. Не то чтобы она как‑нибудь особенно любила домашние хлопоты, но свинством было бы не помочь. Салаты нарежь, заправь и по салатницам разложи, бутерброды с икрой сделай, соленья распредели по кабаретницам, да мало ли что еще! Ничего замысловатого во всем этом нет, но одной Алене не справиться.
Всем этим и занималась стайка Алениных приятельниц за два часа до сбора гостей.
– Надо же, как Аленке с погодой всегда везет! – сказала Ольга, размешивая оливье в классическом эмалированном тазике.
Ольга была лор‑врачом, а Аленка – ее медсестрой.
– Ну так фамилия же у нее какая, – откликнулась Наташа, процедурная медсестра. – С такой фамилией – и чтоб на день рожденья солнце не светило?
В общем, они готовили праздник и вели такие разговоры, о которых папа говорит, что человек должен жалеть даже об усилии лицевых мышц, затраченном на произнесение ничего не значащих слов. Папа прав, конечно. Ну что полезного или хотя бы любопытного в сообщении о том, что сегодня светит солнце? Но Марина считала, что в такие моменты смешивается многое – и что собрались все вместе, и что впереди долгий беспечный вечер, и что не только вечер, но хоть всю ночь можно будет сидеть за столом, на крыльце и в расставленных на газоне пластмассовых креслах, болтать и мельком удивляться, что звезды в темном чистом небе видятся тебе так, как виделись в юности. И если от соединения простых и неважных вещей создается ощущение счастья, значит, важной и нужной является каждая такая вещь. И разговоры о погоде тоже.
Марина за этими разговорами резала домашнюю, приготовленную Аленкой буженину. Ей всегда поручали то, что надо было нарезать тонкими ровными ломтиками или крошечными кубиками; мама называла такую нарезку на французский манер – брюнуаз.
– В хирургию тебе надо было идти, Мариш, – сказала Ольга.
И это она тоже каждый год говорила, глядя, как Марина что‑нибудь нарезает, и Аленка всегда на это отвечала, что терапия Маришино призвание, а потом добавляла что‑нибудь смешное и сама первая смеялась, и ее слова и смех были так хороши, так уместны в последний день весны.
Потом кто‑то спохватился, что вот‑вот приедут гости, а хозяйка не одета, и Аленка убежала переодеваться. Потом она появилась в ярко‑голубом платье, и все стали восхищаться – может, преувеличенно, но искренне. Потом к воротам стали подъезжать машины, в калитку начали входить гости, и, как только они оказывались в общем пространстве праздника, на них словно слетали с неба золотые блестки, и сразу им становилось от этого радостно и хорошо.
Все было так, как Марина и ожидала: пили и пели, танцевали и просто прыгали под музыку, как маленькие, вперемешку ели пироги и салаты, ждали шашлыков, но к тому моменту, когда они появились на столах, за танцами забыли про еду…
Шашлыки, впрочем, оказались такие вкусные, что Марина пошла поинтересоваться, кто их так тонко замариновал и так виртуозно поджарил.
Мужчина, стоящий у мангала, был ей незнаком.
– Сосед я Аленин, – сказал он, встретив ее взгляд. – Но всего неделю тут живу. Анатолий меня зовут.
– Меня – Марина. У вас очень хорошие шашлыки получились.
– Спасибо на добром слове.
Он улыбнулся. Улыбка оказалась особенная – осветила лицо, будто фонарик. Без улыбки ему было на вид лет пятьдесят, а с улыбкой стало сорок или даже тридцать семь, может.
– Держи свежий. – Он взял из середины мангала шампур с шашлыком, положил на тарелку и протянул Марине. – Остальные пусть доходят. Или и этот еще подержать?
– Раз вы считаете, что готов, – давайте!
Шашлык оказался именно такой, как она любила, не сухой и не сырой, в самый раз. Вроде бы ерунда, но приятно, что он догадался о ее вкусах. А может, и не ерунда.
Марина села на табуретку возле мангала. Анатолий присел рядом на березовый чурбачок.
– Ты ешь, ешь, – сказал он. – А то остынет.
К чурбачку была прислонена бутылка муската. Он разлил вино в два стакана, протянул один Марине.
– Рада знакомству, – сказала она.
Сладкое вино Марина не любила, тем более к мясу. Но вдруг оказалось, что именно с этим мясом именно этот мускат сочетается прекрасно. Настроение у нее и так было хорошее, а стало еще лучше.
Есть шашлык Анатолий не стал – он просто сидел рядом, и они болтали. Через десять минут у Марины было ощущение, что они знакомы сто лет, да и у него, кажется, тоже.
Домик в Мамонтовке достался Толе после смерти двоюродной тетки.
– С неба свалилось, – объяснил он. – Я эту тетю Катю в детстве только и видел. Написала мне года три назад: пенсия нищенская, на лекарства не хватает, не поможешь ли. Ну, стал ей деньги посылать. Одинокая она, стыдно не помочь. А навещать – это не мог, из Читы не наездишься.
– Ты в Чите живешь?
– Жил. Теперь здесь буду. Дом тетка запустила, конечно. Но сруб крепкий. Отремонтирую, потом видно будет. Может, продам и в Москве квартиру куплю. Мамонтовка же эта золотая, говорят. Повезло, что тут скажешь. А ты с Аленой вместе работаешь?
– Ага, – кивнула Марина. – Я терапевт.
– Не позавидуешь.
– Почему?
– Да знаю я, как врачи участковые в поликлинике вкалывают. Света божьего не видят, а зарплата копеечная.
– У нас поликлиника платная, – сказала Марина. – То есть наше отделение платное. По дополнительной страховке. Так что зарплата у нас повыше. Хотя тоже золотом не осыпают, конечно. А ты где работать собираешься?
– Посмотрим, – ответил Толя. – Я же только приехал, не огляделся еще. Без работы не останусь, думаю. Это у нас погибель, а Москве‑то не так. Если у мужика голова, руки есть – заработает.
Что у него есть голова и руки, было понятно по каждому его движению – красивому, осмысленному. А еще больше по взгляду, в котором осмысленность соединялась с живым интересом. И то, что такой взгляд направлен на нее, было Марине приятно.
– Я офицер вообще‑то, – сказал Толя. – Майор погранвойск. В отставку вышел. – И заметил: – Готовы шашлыки. Тащи блюдо, Маринушка. Будем гостей кормить.
Как странно, как необыкновенно он это произнес! Словно гости пришли именно к ним. И словно они с Мариной – одно целое, причем это само собой разумеется.
– Ого, сколько нажарил! – воскликнула Аленка, подлетевшая к мангалу с расписным металлическим блюдом в руках. – Хватит, Толик! Уже все объелись, больше никто не хочет. Потанцуем, потом чай будем пить. Тортов навезли – ты не представляешь сколько! – сказала она Марине, складывая на блюдо шампуры с шашлыком. – Даже если все ночевать останутся, за утро и половины не съедим. Идем танцевать, идем!
И убежала.
– Ну что, пойдем и правда потанцуем? – сказал Толя.
Он не был похож на любителя танцев.
«А как, по‑твоему, должен выглядеть любитель танцев?» – растерянно подумала Марина.
Толя смотрел на нее так, что было понятно: ему хочется танцевать не вообще, не абстрактно, а именно с ней.
– Выпьем для храбрости и пойдем, – заключил он, не дождавшись ответа.
Дополнительной храбрости Марине не требовалось, но она выпила еще муската вместе с Толей, и уже через минуту они вовсю отплясывали на забетонированной площадке перед домом, потом кружились в общем хороводе вокруг клумбы, и Толя держал Марину за руку, а потом танцевали среди сиреневых кустов, и это был уже не хоровод, а медленный танец, и Марина поймала себя на том, что так она танцевала последний раз в школе, на долгожданном новогоднем вечере, во время которого должны были выясниться ее отношения с Димой Серветом из параллельного класса, и выяснились… Это было так странно! Как будто не прошло с тех пор пятнадцати лет, как будто не было за эти годы множества таких вот гулянок‑танцулек, и не было мужских объятий, и запаха сирени, и ничего вообще не было…
Одна ее ладонь лежала у Толи на плече, а вторая на груди. И обеими ладонями она чувствовала тепло и трепет его тела. Не обычное физическое желание, а вот именно трепет, такой неожиданный во взрослом мужчине. Потому, наверное, школьные танцы и вспомнились.
Технология праздника была у Аленки давно отработана. Уборка согласно этой технологии всегда откладывалась на утро. Остатки салатов и тортов в холодильник все равно не поместились бы, а ночь между весной и летом обычно бывала еще холодной, и они не портились на улице. Поэтому столы просто накрывались до утра большими полиэтиленовыми пленками от птиц и дождя.
Марина не видела, кто помогал накрывать столы, кто уезжал, кто оставался ночевать…
– У Алены и места для всех не хватит, – сказал Толя. – Пойдем ко мне, а, Марин?
В его словах, в его голосе не было самоуверенности, но и робости не было тоже. Он произнес их именно так, как и должен произносить мужчина. Марина кивнула. Она не могла выговорить ни слова.
Глава 3
Вышли за Аленину калитку и направились по улице к соседнему дому.
– Заборы‑то у вас какие, – сказал Толя. – Выше роста человеческого.
– Ну, у Алены забор самый обыкновенный.
– У тетки моей тоже. Но ведь от бедности только. А так – Великая Китайская стена.
Заборы вдоль улицы действительно стояли сплошной стеной. Но Марина не смотрела на них. Потому что не могла отвести взгляд от Толи.
Спокойствие было в нем подсвечено легкой нервностью, да, именно так; Марина обрадовалась, что нашла это слово. Но тут же она поняла, что не нашла, а просто вспомнила: мама однажды сказала ей по какому‑то поводу, что Чехов любил в людях нервность и вежливость. Такое сочетание показалось тогда Марине странным, а потом она поняла, что оно правильное, а еще потом постепенно выяснилось, что и ей нравится в людях именно это. И именно это было в Толе, она сразу почувствовала.
Солнце еще не встало, и бессолнечный свет, серебристый и тусклый, был так же холоден, как предутренний воздух. Приземистый домишко, в котором жил Толя, обнесен был частоколом. Калитка открывалась с усилием из‑за высокой уже, ранней в этом году травы. Толя пропустил Марину перед собой, и, идя к крыльцу по прокошенной тропинке, она чувствовала, как он смотрит на нее. Она сказала бы, что его взгляд бежит по ее спине холодком, но, наоборот, жарко ей становилось от его взгляда.
Крыльцо заскрипело и закачалось, когда Марина поднялась на него. И серые от старости доски веранды, и полы в темной прихожей тоже покачивались под ее ногами, как палуба. Для жизни, понятно, это неудобно, и в любую другую минуту Марина сразу так и подумала бы, но сейчас ей это очень даже нравилось.
– Не пугайся, – сказал Толя, когда вошли в комнату.
Марина не испугалась, конечно, но удивилась: комната была пуста, а стены ее представляли собой голые бревна. Это выглядело странно. Обычно у одиноких старых женщин, наоборот, накапливается множество вещей, нужных и ненужных, коробок и ящиков, картинок и салфеток…
– Обои я ободрал, – объяснил Толя. – И доски всякие, рубероид. Ты б видела, что тут для тепла налеплено было! А бревна хорошие, я их щелоком отдраил. Ошкурю еще, отлакирую, щели зашпаклюю. Знаешь – косичку из льняной пакли плетут и между бревнами прокладывают? Красиво получается. Ну и тепло, конечно.
Про льняную косичку Марина не знала. Она вообще разбиралась в таких вещах не больше, чем любая женщина, которой не приходилось еще делать ремонт в своей квартире и никакими ремонтными подробностями интересоваться тоже не приходилось, потому что папа избавил ее от этих забот. Правда, сейчас ей опять ремонт предстоял, и она намеревалась заниматься им самостоятельно. Требовалось уже самое простое: переклеить обои, заново покрыть лаком полы…
Марина еще думала о предстоящем ремонте, но уже сознавала, что обои, лак, новые шторы – все, что еще вчера казалось ей таким значимым и составляло в ее сознании целую структуру, стройную, как кристаллическая решетка, – сейчас, вот в эти мгновения, перестает иметь для нее какое‑либо значение.
Она обернулась и посмотрела прямо Толе в глаза.
Электричество он не включил, и Марина видела его только в предутреннем свете. Нервная сила, которую она сразу лишь почувствовала в нем, стала теперь очевидной. Так же, как и то, что Марина ощутила ладонями, танцуя с ним, и назвала приблизительным словом «трепет». Толя был неширок в плечах, сухощав; может быть, поэтому каждое его движение, даже едва уловимое, было очень заметно, и оттого‑то возникло в Маринином сознании, связываясь с ним, это слово.
– Красивая ты, – сказал Толя.
По тому, как он это произнес, Марина поняла, что у него сжимается горло. Она просто как врач это поняла, но, конечно, не медицинские соображения волновали ее сейчас.
– И что? – улыбнулась она.
Ей пришлось призвать на помощь всю рациональность своего ума и немалую часть своей воли, чтобы добиться ровной и беспечной интонации. Не девочка же она с широко распахнутыми шестнадцатилетними глазами, прекрасно понимает, как выглядит все происходящее: пошла ночью в дом к мужчине, с которым познакомилась три часа назад и сомневаться в намерениях которого невозможно… Ханжой Марина никогда не была, но и выглядеть шлюшкой ей не хотелось.
– Хорошо это, вот что, – ответил Толя. – Настроение хорошее становится, когда на тебя смотришь. Такое не каждой красоте дано.
Это, положим, Марина и сама о себе знала. Красота ведь разная бывает, и у нее не та, которая представлена на картинах Рафаэля, или Боттичелли, или еще кого‑нибудь из классиков. Не красота у нее, а обычная привлекательность. Тоже неплохо, между прочим, да и кому сейчас нужны рафаэлевские мадонны.
– Я у вас тут подрастерялся, – сказал Толя. – Подумал уже: может, зря в Москву приехал? Шатание души во мне произошло. А тебя сегодня увидел – и легко мне стало, и хорошо, и ясно. Вот какая ты женщина, знаешь?
Если это и был всего лишь комплимент, то необычный. Тонкий и вместе с тем прямой; редкое сочетание. К тому же Толя не производил впечатления мужчины, который умеет делать комплименты, поэтому сомневаться в искренности его слов не приходилось.
– Я честно говорю, – словно расслышав Маринины мысли, сказал он.
– Верю!
Марина рассмеялась. Напряжение неловкости наконец отпустило ее. Хотя условия, из‑за которых это напряжение возникло, никак не изменились: она по‑прежнему стоит с едва знакомым мужчиной посреди его комнаты, и из мебели здесь один надувной матрас – его Марина только теперь заметила, – и понятно, что заниматься в этой комнате можно единственным делом… Но произошел неуловимый поворот зрения, и все стало выглядеть для нее иначе.
Матрас был высокий, настоящая кровать. Марина с Толей сели на ее край.
– Жены у меня нету, – сообщил Толя. И сразу добавил: – Это я к тому, чтоб неловкости у тебя ни перед кем не было.
Что ж, правильное сообщение. И на тот случай, если она размышляет, стоит ли строить на его счет какие‑то планы, и на тот, если далеко идущих планов не имеет, а просто не считает нормой, чтобы мужчина изменял жене с первой встречной.
Но неловкость Марина все‑таки испытывала. Не перед возможной его женой и даже не перед ним, а перед собою. Никогда раньше не случалось, чтобы она вот так, сразу…
И то, что теперь это происходит именно сразу, представилось ей вдруг опаской перед тем, что время идет, и когда‑нибудь, и вообще‑то даже скоро ничего такого в ее жизни уже не будет, а потому надо хвататься за любую возможность…
От такой мысли Марине стало не по себе, она вздрогнула даже.
Но тут Толя положил руку ей на плечи и осторожно притянул к себе. Именно осторожно он это сделал, бережно даже. Хотя с чего ему беречь ее? Это было так трогательно, что Марина поддалась его намерению, придвинулась к нему. Теперь она чувствовала не только его пальцы, длинные и сильные, на своем плече, но и его ребра у своего бока. Ей стало смешно, что она думает о нем так физиологично, и этот внутренний смех как‑то успокоил ее, избавил от неловкого взгляда на себя со стороны.
– Что ты? – спросил Толя.
Марине понравилось, что он почувствовал перемену ее состояния. Чуткость – редкое качество в мужчине.
– Ты почему худой такой? – спросила она вместо ответа.
– Ну а зачем лишнее на себе носить? – Он пожал плечами. – Чтоб давление по три раза в день измерять?
Не романтично они разговаривали, сидя в одиночестве обнявшись на краю постели. Совсем не романтично. Но трепет, который был в Толе, каким‑то загадочным образом передавался во время этого разговора и Марине.
– Очень ты мне понравилась, Маринушка, – сказал он. – На душу легла. Бывает такое, выходит.
Эти слова, а еще больше удивление, с которым они были произнесены, можно было считать объяснением в любви. Особенно с учетом его возраста, совсем не юного, и профессии, не располагающей к чувствительности, и обстоятельств встречи, самых обыкновенных и случайных. Марина их объяснением и сочла. Пожалуй, и странно было бы, если бы он сказал: «Я люблю тебя». Странно и глупо. Такие слова хороши разве что в индийском кино, а в любом другом кино они уже коробят слух, а в жизни тем более.
Они повернули друг к другу головы и попробовали поцеловаться – губы вздрогнули, сближаясь. Это оказалось приятно; Марина почувствовала, что ему так же, как и ей. Толя снял с нее куртку, то есть не куртку даже, а просто кардиган, который она захватила с собой, чтобы надеть вечером, а так‑то ведь она не собиралась оставаться на ночь, думала уехать с кем‑нибудь на машине или просто электричкой и не поздно…
Все эти слова вылетели у нее из головы и покатились россыпью, как бусины по полу, когда поцеловались по‑настоящему, крепко и долго. Они совершенно подходили друг другу. Это было так очевидно, что Марина оторопела. Никогда с ней такого не было, чтобы она почувствовала это от одного поцелуя.
«И хорошо! – отрываясь от Толиных губ, подумала она. – И нечего, значит, лишнее думать!»
И с этого мгновения они стали целоваться, и одновременно раздеваться, и обнимать друг друга, полуодетые, а потом и раздетые совсем, сидя, потом лежа на этой несерьезной воздушной кровати, которая швыряла их и качала, будто корабль во время шторма…
– Не замерзла? – спросил Толя.
Они лежали, отдыхая и немножко задыхаясь от того, что так закономерно с ними произошло. Они лежали рядом, и его рука была у Марины под затылком.
– Нет, – ответила она. – А разве холодно?
– Должно быть холодно. Обычно к вечеру печку топлю. А сегодня не успел.
– Нет, не замерзла. А ты?
Он засмеялся вместо ответа. Его смех был приятен ей так же, как его крепкие поцелуи и его узкое тело. Оказывается, так бывает, да. Вот так, сразу.
– Давай поговорим, – вдруг сказал Толя.
– О чем?
Марина насторожилась. Как ни подходят они друг другу, а рановато им выяснять отношения.
– О чем хочешь, – ответил он. – Просто хочется с тобой поговорить.
Это прозвучало с той же открытой искренностью, с какой он недавно сказал, что ему с ней хорошо и ясно.
– Давай, – улыбнулась она. – Говори что хочешь.
Ее даже любопытство обуяло: что же ему интересно в такой момент?
Толя повернул голову, поцеловал Марину в щеку и сказал:
– Да мне и нечего. Весь вечер тобой любовался. Задумываешься ты красиво. Бабка моя говорила: женщине задумываться не надо, а то морщины на лицо переползут. Из мозга, имела в виду.
Это прозвучало некстати и могло бы показаться ей грубым, даже обидным. Но обиды Марина не почувствовала. В конце концов, они сильно недобрали разговоров перед тем как оказаться в постели, и любые слова теперь хороши.
– Умная ты, – сказал Толя. – Я сразу догадался.
Утверждение, что она умная – такая же неточность, как и то, что она красивая. Не неправда, а вот именно неточность. У мамы – да, ум. А у нее – сообразительность и хорошая память. И немало это, кстати, и немаловажно.
– Отпуск когда у тебя? – спросил Толя.
– Через неделю, – ответила Марина.
– Едешь куда‑нибудь?
– Нет.
– Что так?
– Ремонт надо делать.
– Сама, что ли, будешь делать? – удивился он.
– А что ты так удивляешься? – улыбнулась она. – Похоже, что у меня руки не оттуда растут?
– Руки у тебя откуда надо растут. – Он улыбнулся тоже и коротко, ласково сжал ее руку. – Только не для ремонтных дел предназначены.
– Не сама буду делать, да, – согласилась Марина. – У нашего одного врача ребята‑молдаване работают. Закончат – ко мне перейдут. Я уже договорилась.
– А в отпуск не едешь, потому что на материалы потратилась? – догадался Толя.
Догадка была неправильная, но возражать Марина не стала. Объяснять, что ее ремонт оплачивает папа, было не то чтобы неловко, но как‑то ни к чему.
– Примерно, – ответила она.
– Как же ты в ремонте будешь жить? – не отставал Толя. – Это ж конец света. Грязь, грохот.
– Мне только обои переклеить и полы отлакировать. Ну и мелочи всякие.
На время ремонта она собиралась перебраться к родителям, но едва ли ему надо знать и эту подробность.
– А перебирайся ко мне, – сказал Толя.
Марина удивилась так, что, кажется, даже матрас вздрогнул от ее непроизвольного движения.
– Отсюда до Москвы рукой подать. Да и отпуск берешь, не обязательно каждый день в город ездить, – спокойно объяснил он.
Как будто дело только в том, насколько ей удобно ездить в город из Мамонтовки!
– На свежем воздухе поживешь, – продолжал Толя. – Не хуже, чем у моря. И молоко парное можно брать, тут семья одна козу держит.
Такое желание уговорить ее слышалось в его словах, что Марина расхохоталась.
– Не‑ет! – воскликнула она. – Я козье молоко на дух не выношу, тем более парное!
«Интересно, что он еще придумает?» – подумала она.
Сквозь смех подумала и сквозь какую‑то совершенно девчачью легкость.
Ничего больше Толя придумывать не стал. Он порывисто сел, и его рука, взметнувшись у Марины под затылком, заставила ее сесть тоже.
– Тогда просто так оставайся, – сказал он, глядя ей в глаза близко и пристально. – Со мной.
Его глаза, небольшие, черные, горели таким волнением, что Марине даже тревожно стало. Он смотрел так, будто его жизнь зависит от ее ответа.
«Разве я к такому готова?» – растерянно подумала она.
Под «таким» она понимала даже не то, чтобы пожить во время отпуска у него в доме, а значимость, которую стремительно приобретали их отношения.
Конечно, она не была к такой значимости готова, хотя бы потому, что всего несколько часов назад даже не подозревала о Толином существовании. Но и что же? Сказать ему, что оставаться у него не хочет? Это было бы неправдой. Хотела она этого, только решиться не могла.
Но всегда надо решаться на то, что кажется тебе важным, и лучше пожалеть об этом, чем о том, что ты пропустил в жизни самое важное из‑за собственной нерешительности.
Примерно это сказал Марине папа, когда ей было семнадцать лет. Она тогда не поступила в Первый мед, но оставалось время, чтобы подать документы куда‑нибудь еще. Способности у нее были ко многому, и предметы в школе нравились многие, история, например, поэтому можно было поступать на исторический факультет, благо новых вузов появилось немало… Она не знала, на что решиться. Тогда папа и сказал, что решаться всегда надо на самое важное, чтобы потом не жалеть о несбывшемся, и Марина это усвоила.
– Хорошо, – глядя Толе в глаза, медленно и твердо проговорила она. – Останусь.
Он обрадовался так, что из его глаз будто лучи выметнулись. Хотя это просто за окном становилось светлее с каждой минутой.
– Вот это спасибо! – Толя обнял Марину так крепко, что она даже вскрикнула. – Вот это женщина! – Он развел руки в стороны, тут же свел на ее плечах снова, но уже не крепко, а осторожно и пообещал: – А насчет ремонта не волнуйся, я тебе его и сам сделаю!
Так же трогательно он только что заманивал ее к себе козьим молоком, и так же мало значило для нее обещание сделать ремонт, как козье молоко, и все больше он ей нравился с каждым новым его обещанием.
– Выпьем, Марин, а? – предложил Толя.
– Чтобы я не передумала? – улыбнулась она.
– Ага, – смущенно кивнул он. – Согласие закрепить.
Он поднялся с их воздушной кровати, натянул брюки, быстро пошел к двери, ведущей в прихожую. Его худощавость не выглядела красивой, но это лучше, чем если бы он оказался толстым. Ей не хотелось бы чувствовать тягу к толстому мужчине, а тяга ее к Толе – это Марина уже понимала – не зависела от таких внешних вещей, как его телосложение.
Из прихожей Толя вернулся с двумя бутылками. В одной плескались остатки коньяка, в другой – белого вина.
– Больше нет, но нам же чисто символически, – сказал он. – Вот только посуда на улице. У тетки тут все грязью заросло, я побрезговал в доме держать. А разобраться, что там к чему, перемыть пока времени не было. Погоди, стаканы принесу.
– Не надо. – Марина взяла Толю за запястье, и его рука, которая только что рвалась куда‑то – вернее, он только что рвался куда‑то, – сразу притихла, замерла. – Выпьем из бутылок, какая разница.
Они чокнулись холодными бутылками и выпили из горлышек, Марина вино, Толя коньяк. Простота и правильность каждого движения была очевидна для нее. И для него, наверное, тоже.
«Мама права, – подумала Марина. – Я слишком много значения придаю логике. Это мешает мне жить. Что ж, попробую иначе».
Глава 4
Тамара слушала, как шумит в ванной стиральная машина, и этот домашний умиротворяющий звук казался ей тревожным. Из‑за Марины, конечно. Что опять случилось с ее дочерью?
«Почему – «случилось», да еще «опять»? – подумала она. – С ней вот именно что ничего обычно не случается. У нее ровная жизнь, до мелочей выверенная. И это хорошо. Для нее – хорошо. Она же у нас вечная отличница».
Но уже одно то, что она отчетливо проговаривает внутри себя эти слова, являлось для Тамары признаком беспокойства. Оно не было связано с тем, что не сложились, видимо, у ее дочки отношения еще с одним мужчиной. В конце концов, ничего выдающегося, во всяком случае, по тому, что Марина о нем сообщила, мужчина этот собой и не представлял. Человек, не укорененный в той жизни, которой Марина жила с рождения, но и не выказавший намерения дать ей что‑то другое, сколько‑нибудь привлекательное. Жалеть о расставании с ним не стоит, и Марина не может этого не понимать: чувства ее правильны, как кристаллы, и разум поэтому никогда не вступал с ними в противоречие. До сих пор не вступал…
Марина в Тамарином махровом халате появилась на пороге кухни.
– Мам, я всю одежду в стирку бросила, – сказала она. – Возьму что‑нибудь твое?
Гардероб у Тамары был такой, что дочь могла надеть из него не что‑нибудь, а что угодно. Приблизившись к возрасту, который сначала пугал ее, а потом пугать перестал, Тамара по наитию стала выбирать для себя одежду определенного типа и лишь потом узнала, что, оказывается, существует правило: женщина за пятьдесят должна носить только те вещи, которые безусловно подходят и женщине на двадцать лет моложе.
– Бери, конечно, – кивнула она. – Ты на работу?
– Да. Прием, потом визиты. Ты чему улыбаешься?
– Своим мыслям. – Заметив в Марининых глазах огонек интереса – хорошо, что он появился! – Тамара пояснила: – Думаю: могла бы я выбрать на всю жизнь работу, самую что ни на есть любимую, но состоящую в основном из рутины?
– И что решила? – улыбнулась и Марина.
– Что в молодости могла бы, а сейчас – уже нет. Вроде должно быть наоборот, но вот видишь… Хотя, наверное, удивляться не приходится: по маминой жизни я даже предположить не могла, что можно обойтись без рутины. А потом оказалось, что вполне можно, если поставить перед собой такую цель. Глобально поставить, – уточнила она.
– Наверное, – пожала плечами Марина. – Только для меня это слишком сложно, ма. Я всего такого не понимаю, ты же знаешь.
– А когда маленькая была, понимала.
– А когда выросла, перестала.
Это правда. Когда Марине было шесть лет, все друзья Ивлевых говорили, что она, без сомнения, пойдет по маминым стопам – станет журналисткой, а может, и писательницей даже, не зря ведь роман уже пишет. Героями романа, который Марина писала в шесть лет, были два друга, Минэров и Джемперов, а также кот по имени Джарломан. Тамара считала, что такая фантазия не может быть у дочки случайной, но потом оказалось, именно случайной она и была. А Олег и сразу говорил, что это пройдет, и зря Тамара с ним спорила. Впрочем, разве она хотела, чтобы дочь пошла по ее стопам? Нисколько. Наоборот, радовалась, что Марина стала врачом. Если бы она еще замуж вышла и родила, Тамара была бы полностью на ее счет спокойна, и мысли о несбывшихся надеждах ей даже в голову не приходили бы.
«Может, детские те фантазии ей теперь и мешают», – подумала Тамара.
Как бы там ни было, говорить об этом именно сегодня было бы жестоко по отношению к Марине, да и бессмысленно. Вряд ли она сейчас же отправится на поиски мужа или хотя бы отца для своего ребенка.
– Когда папа возвращается? – спросила Марина.
Она стояла у открытого шкафа и перебирала платья, юбки, брюки.
– Через три дня, – ответила Тамара.
– А где он?
– В Томске.
– Вот это? – Марина сняла с вешалки серые шелковые кюлоты и блузку из бледно‑голубой тафты. – Или мне такое не пойдет?
По ее рассеянному тону было понятно: для нее сейчас не имеет значения, куда уехал отец, и так же неважно, пойдет ей та или другая одежда. Это Тамара понимала, но не понимала, что с этим делать. Да и ничего не сделаешь, само со временем развеется, может.
– Почему тебе это не пойдет? – спросила она.
– Брюки укороченные… Я такие никогда не носила. И крой у блузки странный – рукава какие‑то разные… И цвет слишком блеклый.
– Потому и странный крой, что блеклый цвет. Это специально так сделано – одно другое уравновешивает, – сказала Тамара. – И почему тебе не носить кюлоты? С твоей внешностью можно носить что угодно.
Она всегда знала, что Марина только кажется похожей на нее – цветом глаз, волос. На самом же деле общего в их внешности очень мало. В Тамаре нет ни капли очарования – в том смысле, в каком его понимает большинство людей; не зря ей даже в детстве, в школьном театре, давали роли Снежной королевы и подобных же красивых, но необаятельных персонажей. А Марина у большинства людей вызывает мгновенное расположение, потому что именно такой они в детстве представляли сказочную принцессу, милую и нежную.
– Да, правда, – кивнула Марина. – Не все ли равно? Кюлоты так кюлоты.
Она переоделась, причесалась, надела туфли на высоком каблуке, но краситься не стала; это Тамара отметила. Движения ее были такими же рассеянными, как тон. Может, все‑таки надо было спросить, что у нее произошло с тем мужчиной. Но Тамара не могла вызвать в себе хотя бы тень интереса к этому, а потому и спросить об этом не могла. Не хотела, чтобы Марина почувствовала фальшь в ее вопросе.
– Машину я разгружу, – сказала Тамара уже ей в спину. – Одежду твою повешу сушиться.
– Ага, спасибо, – не оборачиваясь, кивнула та.
– Но потом уеду, – предупредила Тамара. – Если тебе не срочно, оставь все на вешалках, Катя через три дня придет и погладит.
Пока Марина была маленькая, Тамара не разрешала ей оставлять помощнице одежду для глажки, посуду для мытья и постель для уборки – считала, что девочка должна научиться все делать по дому сама. А теперь уже и непонятно, так ли это важно, как казалось тогда.
Марина ушла. Не спросила даже, куда мама едет, надолго ли. Но странно было бы обижаться сейчас на ее безразличие. Пусть забудется неудавшийся роман.
Тем более что уехать Тамара собиралась в Махру, ничего особенного. Она и не приехала бы оттуда в город, если бы вчера не открылась выставка «Путешествия Живаго» в Пушкинском музее. Написать об этом было необходимо, хотя, на Тамарин взгляд, открывать такую необычную выставку, когда не окончен еще мертвый летний сезон, было неправильно. Но открыли когда открыли, и вчера она внимательнейшим образом все осмотрела, сфотографировала, а сегодня вечером собиралась отослать в редакцию текст, и не обязательно было это делать из Москвы.
Ей жаль было каждого летнего дня вне Махры – странного места, которое и дачей‑то можно было назвать лишь условно.
Она вынула из стиральной машины Маринины одежки. Да, неудивительно, что дочь сомневалась, надевать ли ей вещи блеклых цветов и необычных линий. Маринина одежда всегда была яркой по цвету и простой по форме: соблазнитльно глубокий вырез, обрамленный алыми маками на зеленом фоне; короткая голубая юбочка, желтый сарафан с открытой спиной… У каждого, кто бросит на все это взгляд, даже случайный и беглый, должно улучшиться настроение.
«И при этом мучается из‑за какого‑то ничтожества!» – сердито подумала Тамара.
Она и сама не понимала, на кого больше сердится, на дочь или на несуразные обстоятельства, на цепочку нелепостей, очередным звеном которой оказался этот бессмысленный роман. А может, на себя: давно бы ей следовало привыкнуть к тому, что с обстоятельствами, которых не можешь изменить, следует мириться.
Глава 5
По всей своей натуре, по очевидной потребности не зависеть от внешних обстоятельств, машину Тамара должна была бы водить обязательно. Но нехитрому этому делу так и не научилась.
– Нужда заставила бы, – объясняла она, если кто‑нибудь удивлялся этому. – Но нужды не случилось.
Отсутствие в ее жизни нужды никогда не мешало Тамаре ездить в метро. Почему нет? Любой житель любого мегаполиса ездит, и доходы его не имеют при этом значения, и ничего в этом нет особенного.
Но некоторое время назад она вдруг поняла, что спускаться в метро в Москве больше не хочет. Это получилось как‑то внезапно – ехала по Кольцевой линии, поезд остановился в туннеле, Тамара подняла глаза от книжки, обвела взглядом лица в вагоне и удивилась. Потом, уже на эскалаторе, специально вглядывалась в лица встречных, и удивление ее все возрастало.
«Когда это произошло? – думала она. – И почему я раньше этого не замечала?»
Вероятно, раньше этого и не было. Вот этого растворения, почти полного исчезновения в толпе тех людей, с которыми ей хотелось бы перекинуться парой слов. Их просто не стало! Как странно… Не стало улыбок в ответ на случайный взгляд, осмысленность исчезла из глаз. И вместо всего этого в привычном пространстве вагонов, станций, переходов воцарились равнодушие и враждебность – странное, странное сочетание! То есть были, конечно, отдельные люди, в основном молодые, которые скрашивали общую картину. Но в целом она стала теперь безотрадной – непонятно, навсегда ли; может быть, переменится.
«Вот переменится, тогда и буду ездить снова», – решила Тамара.
С того дня в метро она стала спускаться только в случаях крайней необходимости, в основном же ходила пешком или вызывала такси, благо это стало теперь несложно.
А в Махру привыкла ездить электричкой – полтора часа до Александрова, потом еще полчаса автобусом. И хоть вместо автобуса Тамара, конечно, подряжала на александровском вокзале машину, все равно дорога получалась хлопотной. Но Махра вообще была странным выбором ее жизни, и неудобный путь туда являлся лишь частью общей странности.
В электричке она читала или, глядя в окно, придумывала текст, который необходимо было написать, и по приезде писала его сразу начисто. Это было бы невозможно, будь она за рулем.
В общем, Тамара ни разу не пожалела о своем неумении водить машину.
Статья о «Путешествиях Живаго» в электричке придумалась легко и, как обычно, сразу вся, от первого до последнего слова. Вчера в музее на Волхонке Тамара долго разглядывала большой дубовый шкаф со старинными путеводителями. Он стоял прямо у входа, рядом с фотографиями, сделанными доктором Живаго – не выдуманным, а настоящим. Юный этот доктор успел объездить полмира до того, как революция заперла его в СССР, и на его снимках был Париж, Египет, Лондон, Марокко… Рядом с фотографиями Живаго висели картины Мане, Матисса, Мунка, Фромантена – те же пейзажи, те же страны. И большие старинные фотокамеры стояли в стеклянных витринах посередине зала, и пестрели афиши бюро путешествий Кука… Все это давало стереоскопический взгляд на мир, и в мире, представленном таким образом, был смысл и стиль.
Об этом Тамара и хотела написать, для этого и искала слова все время от той минуты, когда вошла в вагон на Ярославском вокзале, до той, когда уже открывала деревянные ворота, выходящие на пустое узкое шоссе возле деревни Махра.
Когда‑то это называлось пансионатом комбината «Известия» и сюда давали путевки сотрудникам. Потом пансионат зачах, путевки давать прекратили, вывеску с ворот сняли, место стало называться просто Известиями, и приезжали сюда на лето теперь только те, кому по детским воспоминаниям или еще по какой‑нибудь непонятной причине оставались дороги эти обветшалые домики на холме под соснами.
Никаких оснований, кроме птичьих прав, не имелось для того, чтобы здесь жили именно эти, а не какие‑нибудь другие люди. Комбинат «Известия» был теперь представлен разве что несколькими пенсионерками, когда‑то работавшими в литературных журналах или в типографии. Слухи о том, что скоро отсюда всех выселят, развалюхи снесут, а землю отдадут монастырю, который предъявляет на нее права в виде летописей времен Ивана Грозного, – ходили каждый год. Но ничего не сносили, никого не выселяли, домики продолжали ветшать, но не разваливались, а монастырь белел напротив известинского холма за речкой Молокчей.
Тамара получила здесь комнату тридцать пять лет назад. То есть ничего бы она, конечно, тогда не получила – кто бы дал комнату девчонке, только что пришедшей на работу в журнал «Иностранная литература»! – но ей предложила пожить в пансионате старая редакторша по фамилии Шанматье. У Анны Викторовны Шанматье обнаружилась сестра, которая считалась пропавшей без вести в войну, и старушке разрешили навестить ее в Париже. Неожиданное разрешение привело Анну Викторовну в панику, она то бродила по редакционным коридорам с растерянным видом, то бежала в очередь за льняными скатерками – «а что туда можно отвезти в подарок, я просто не представляю!» – то замирала у себя за столом, глядя в одну точку.
Перед самым отъездом Шанматье вспомнила про Махру, и паника ее усилилась.
– Меня выживут! – испуганно шептала она Тамаре, которой в редакции отвели место за соседним с ней столом. – Не позволят, чтобы комната пустовала целый месяц, кого‑нибудь поселят, скажут, временно, но выживут меня таким образом совсем, навсегда!
Тамаре казалось странным, что пожилой человек связывает слово «навсегда» с такой ерундой, как место в пансионате. Но старушку было жалко, и когда та попросила пожить в комнате до ее возвращения, Тамара согласилась. Почему бы и не пожить? Сосновый воздух, река, земляника, первые грибы и, главное, соседство интересных людей, которые работают в разных известинских изданиях, – все это было привлекательно.
Шанматье из Парижа не вернулась. Не с пансионатом оказалось связано для нее слово «навсегда», а с кладбищем Сен‑Женевьев‑де‑Буа – там сестра ее похоронила. В редакции ей многие завидовали; Тамара поразилась, когда об этом узнала. Как можно завидовать смерти, пусть и в Париже, было для нее непостижимо. Оказалось, что зависть для большиства людей является самым сильным внутренним веществом; тогда она впервые это поняла.
Но понимание человеческой природы, приобретенное с помощью старушки Шанматье, не показалось ей существенным по сравнению с приобретением этой просторной местности, которую называли Махрой по имени деревни и Известиями по имени пансионата.
И каждый год после этого, и тридцать пять лет спустя Тамара по‑прежнему проводила здесь лето, хотя все изменилось за это время в ее жизни.
Что особенного в Махре, сказать она не могла. Это было необъяснимо. Но когда она шла по березовой аллее, и не по аллее даже, а просто по широкой тропинке между березами к пятой даче, чувство, что она находится именно там, где и следует ей находиться, было у нее таким же определенным, как и в первый приезд сюда.
Внизу аллеи появился велосипедист, за ним бежали трое мальчишек и пудель Мак, названный в честь Иэна Макьюэна, романы которого переводил с английского его хозяин. Громко галдя и лая, все они промчались мимо Тамары.
А возле ее дома стояла тишина: никто из многочисленных известинских детей здесь не жил, их маршруты проходили стороною.
Воздух в комнате не успел еще застояться, ведь она уехала только вчера. Но Тамара все равно распахнула окно и глубоко вдохнула запах теплых сосен, наполнивший комнату.
Было бы понятно, если бы счастье от этого запаха и от этого покоя испытывал человек, привыкший к одиночеству, любящий его. Но она таким человеком не являлась точно, и ее здешнее счастье было поэтому необъяснимо.
Выглянув в окно, Тамара увидела Ингу Сергеевну и Веронику Андреевну. Они сидели за дощатым столом под соснами и пили кофе со сливками.
– Вернулись, Тамарочка? – спросила Инга Сергеевна. – Выходите к нам, мы вас кофе угостим.
Предложение было заманчивое: таких сливок, как у Инги Сергеевны, не было нигде. Даже в Италии Тамара ничего подобного не пила. Это было тем более удивительно, что молоко, с которого эти сливки снимались, Инга Сергеевна брала там же, где и все остальные известинские жители, в деревне за рекой. И хозяйка, у которой она его брала, была известна, и не только Инга Сергеевна к ней ходила. Но вот поди ж ты, сливок таких ни у кого больше не получалось. А ведь это не пироги и не борщ – необъяснимо, необъяснимо.
Еще час назад Тамара думала о большом и существенном – о том, что дочка ее снова осталась одна, о жизни доктора Живаго, растворившейся во времени, о самом времени, в котором было содержание и был стиль… Но стоило ей только шагнуть за ограду Известий, как она словно в зачарованном кругу оказалась. Все приобрело другой масштаб и другое значение – и сливки, и кофе, и сосны, и солнце, пронизывающее нисходящими лучами разговор двух пожилых дам за столом на поляне. Все это было равнозначно, во всем чувствовался какой‑то несомненный смысл. Он и был для Тамары главным в том явлении, которое называлось Махрой.
Дамы разговаривали о романе, который Вероника редактировала двадцать лет назад, когда еще работала в журнале.
– Вы бы видели, как он обиделся! – услышала Тамара.
– Кто, Вероника Андреевна? – спросила она.
Приглашение соблазнило ее, конечно, и она вышла из дома на поляну под соснами.
– Антон Трофимов, – ответила Вероника. – Помните его роман «Дождь»?
– Да, кажется, – сказала Тамара.
– Вот видите, уже никто не помнит, – заметила Инга. – А как он был популярен! Безосновательная слава, я и тогда говорила.
– Как он нам тогда свой новый текст навязывал, боже мой! – вспомнила Вероника. – И ведь говорю ему: не должно быть повторов, это снижает сюжетную динамику, а главное, тема, Антон Витальевич, ну что за тему вы взяли, ведь об этом писано‑переписано!.. А он мне, представьте: повторы, говорит, нужны, потому что роман об отчаянии, а оно накатывает снова и снова, как волны, это именно так и должно быть, и какая разница, писано об этом или нет, а сюжетной динамики вообще здесь не нужно, это же не детектив. И ведь уверен был, что прав!
– Опубликовали? – поинтересовалась Тамара.
– Да ну что вы, – махнула рукой Вероника. – Переделывать он отказался. Да и умер вскоре.
Тамара наконец вспомнила Антона Трофимова. Двадцать пять лет назад его «Дождь» действительно все читали, это было удивительно, первый роман, а такой успех, и был его вечер в Центральном доме литератора, она делала репортаж для газеты, в которую недавно пришла тогда работать. Трофимов был мрачный и несветский, и прав в том споре наверняка был он, а не Вероника, которая и сейчас говорила пошлости.
Но сейчас Тамара подумала об этом лишь мельком. Все это было давно уже обдумано, и пережито, и как данность было ею принято, что такова природа безосновательного высокомерия, а может, просто человеческая природа.
Кофе пили не только со сливками, но и с какими‑то особенными творожными конвертиками, которые Инга покупала по пятницам в деревенском магазине. Конвертики привозили из Александрова, нигде больше таких не было. Получше были, конечно, но именно таких – нигде.
– Ну, Тамарочка, что выставка? – спросила Инга. – Надо идти?
Инга была знаменита тем, что когда‑то отклонила рукопись Довлатова – он прислал ее в издательство, где она работала редактором отдела прозы. Когда Тамара об этом узнала, то подумала, что будет обходить Ингу десятой верстой. Но постепенно ее возмущение сгладилось и не то чтобы перестало иметь значение, но как‑то ушло на задний план. Ей не нравилась в себе такая мудрость – или как это следовало называть? – но в житейском смысле это было удобно. Не отворачиваться же от соседки при встрече, тем более если каждое лето живешь с ней в одном доме и три месяца кряду встречаешься по двадцать раз на дню. В такой ситуации не стоит ссориться из‑за дел давно минувших дней, лучше просто о них не заговаривать.
К тому же с недавних пор к списку того, о чем лучше не заговаривать, прибавилось так много современных дел, что недооценка Довлатова перестала казаться предметом для разногласий.
– На выставку сходите обязательно, Инга Сергеевна, – сказала Тамара. – Атмосферная, как теперь говорят.
– Теперь много бессмыслицы говорят, – пожала плечами Инга. – Ну что такое атмосферная, можете вы мне объяснить, Тамарочка? Ничего не значащее красивое слово. Можно отнести к чему угодно. Или вот еще я слышала оценку: эпичная. Это что, по‑вашему?
– То же, что и по‑вашему, – улыбнулась Тамара. – Бессмыслица.
– Павел Петрович, идите к нам! – громко позвала Вероника, глядя на аллею между березами.
Паша, наверное, приехал следующей после Тамары электричкой и до Махры добирался автобусом. Он шел к себе на четвертую дачу. А пятая была расположена так, что с полянки перед нею просматривалась вся дорога от ворот. Пятая дача являлась поэтому мечтой для сплетников и созерцателей.
Тамара познакомилась с Пашей в свое первое здешнее лето. Он навещал отца, который жил в Известиях со своей новой семьей. Паша даже ухаживать за Тамарой пытался тогда, но она почему‑то сразу восприняла его так дружески, как в двадцать лет не воспримешь мужчину, с которым у тебя может получиться нечто любовное. Так оно на всю будущую жизнь и вышло: не роман, но дружба. В молодости Тамара об этом сожалела даже, потому что Паша Вербинин был мужчина с блестящим глазом и женщинам нравился. Но теперь она этому радовалась. Толку ли в переглядках и поцелуях при луне! Дружеское расположение, не исчезнувшее за тридцать пять лет, куда дороже.
– Кофе остался как раз для вас, – сообщила Вероника. – И сливки. Посидите с нами пять минут, Павлуша, дружочек, расскажите, что там во внешнем мире происходит.
Может быть, дамы играли в патриархальную дачную жизнь немного слишком старательно, но Тамаре это нравилось. Большинство людей ни во что не играют, и жизнь их идет как идет, и представляет она собою нечто такое расплывчатое и вялое, что начинаешь ценить каждое усилие, которое придает ей форму.
– Спасибо, с удовольствием. – Паша бросил рюкзак под сосну и сел за стол. – Но вряд ли я вам что‑то интересное расскажу про внешний мир. Всю неделю только и жду, когда из него сюда вырвусь.
Вероника налила ему кофе из никелированной итальянской кофейницы, Инга – сливки из фарфорового сливочника, сделанного в виде белой коровы.
– Счастье, – сказал Паша, глядя на корову.
– Что – счастье? – улыбнулась Инга. – Сливки?
– И сливки тоже.
Что он имеет в виду, Тамаре было понятно. Да и дамам, конечно, тоже. Во внешнем мире – в Москве, в том кругу, где была работа, родственники, знакомые, где все казалось привычным и ясным, – жизнь шла теперь лишь по инерции, царили в ней растерянность и апатия, более или менее умело замаскированные, а если кто‑то испытывал задорную бодрость, значит, человек этот был неумный или лживый.
– Отпуск у тебя скоро? – спросила Тамара. – Ты вроде собирался в августе взять.
– Да вот не знаю, как теперь получится, – ответил Паша. – Какая‑то лихорадочная у всех открылась активность. Планов громадье.
И это тоже была правда, не имеющая разумного объяснения. Такого количества новых проектов, идей и планов, какое появилось сейчас, Тамара давно уже не видела среди людей, с которыми так или иначе была связана ее работа. Все теперь что‑то затевали, предлагали, искали на предлагаемое деньги… С деньгами, правда, дело обстояло хуже, чем с идеями, но все вели себя так, словно это ничего не значит и их планы, безусловно, осуществятся в ближайшее же время. Паша работал переводчиком в какой‑то фирме, занимающейся недвижимостью; значит, и в этой сфере происходит что‑то подобное.
– Ты завтра что делаешь? – спросил он.
– Ничего особенного. Сегодня вечером колонку пишу, а завтра ничего, – ответила Тамара.
Ей вдруг стало не по себе от собственных слов. Будто коснулась ее виска какая‑то тревожная птица. Как же это так – ничего особенного нет и не будет в ее жизни? Или это только завтра? Или – никогда?..
– Я завтра вдоль реки хочу пройтись, – сказал Паша. – По берегу, до Неголова. Пойдешь со мной?
«Все‑таки жаль, что я в него вовремя не влюбилась! – подумала Тамара. – Кто еще способен мне сейчас такое предлагать?»
Тревога исчезла так же мгновенно, как и возникла. Простой план, предложенный Пашей на завтра, развеял ее. Такая мгновенная перемена состояния только здесь была возможна. Все знали, что даже тучи ходят над известинским холмом кругами и, бывает, уплывают за речку и за Махру, не пролившись дождем. Вот и тревога уплыла.
– Пойду, – сказала Тамара. – Только давай не чуть свет, ладно? Иначе с тобой пойдет только мое бессмысленное физическое тело.
– Ты же вроде рано всегда вставала, – удивился он.
– А теперь встаю поздно.
Из‑за бессонницы она действительно перестала быть жаворонком, только этого никто не заметил. Что ж, люди вообще не любят замечать перемены. Предпочитают считать, что в жизни много незыблемого. Это не так, но думать так – удобно. А значит, так и будут думать.
– Ладно, – согласился он. – Дождусь, пока твое тело наполнится смыслом.
Глава 6
Тамара сидела на травянистой кочке и смотрела, как течет в реку вода из родника.
– Видение отроку Варфоломею, – сказала она.
– У Нестерова там, по‑моему, весна изображена, – заметил Паша. – Что‑то молодое и зеленое.
– Но общее впечатление такое же.
Место, где остановились отдохнуть, напоминало картину Нестерова не столько пейзажем, сколько чувством, которое он вызывал. Во всяком случае, Тамаре казалось, что с нею сейчас случится какое‑нибудь чудо. В Царевну‑лягушку превратится, например.
Ракиты склонялись над узкой Молокчей, текущей в травяных берегах, светился на речном дне золотой песок и мелькали серебряные рыбки. Лес, через который текла река, темнел таинственно, как в сказке.
– Тебе хорошо, – посмотрев на Тамару, сказал Паша.
– Почти угадал! – засмеялась она. – Мне не то что хорошо, а так, знаешь… Драгоценно, вот как.
За годы, прожитые в Махре, она, конечно, бывала в этом лесу не раз. Не именно в этом месте – здесь как раз оказалась впервые, – ну так в других, тоже красивых. Но драгоценность состояния, в которое приводит ее этот лес и эти травяные берега, сделалась ей понятна только сейчас, и именно сейчас нашла она само это слово.
– Как ты живешь, Паша? – спросила Тамара.
Если бы не он, то и не понять бы ей о себе такую важную вещь. Она была ему за это благодарна.
– Да как все. – Он пожал плечами. – Как человек, из которого жизнь уже успела повытравить самолюбие.
– Как‑как? – заинтересовалась Тамара.
– Это не я придумал. Тургенев, «Дым».
– Все равно хорошо, – улыбнулась она.
– Да, подмечено неплохо. – Паша улыбнулся в ответ. – Живу, в общем. Дети выросли, у них своя жизнь, я в ней побоку. Но внуки мной еще увлечены.
С семьей Паша жил на даче где‑то под Рузой, а в Известиях снимал комнату для себя одного и приезжал сюда часто. Тамара понимала, что он делает это не ради отдыха от домашних, во всяком случае, не только ради этого, но по той же необъяснимой причине, по которой живет здесь она и которая понятна только своим.
Но сейчас в его голосе Тамаре послышалось что‑то вроде горечи. И что она означает? Что и Пашу, как большинство мужчин, охватила иллюзия, будто жизнь на шестом десятке должна бы явить ему нечто совершенно новое? Да нет, вряд ли он думает, что жизнь его должница, не такой он человек. Во всяком случае, раньше таким не был. Но ведь люди меняются, иногда разительно, ей ли не знать.
– У тебя ничего не случилось? – осторожно спросила Тамара.
– Ничего.
«И у меня ничего», – подумала она.
Ей сделалось не по себе от этой мысли и потому понятно стало, что чувствует Паша.
– Расскажи что‑нибудь, – попросила Тамара. – Что‑нибудь интересное.
Недавно она шла ночью через парк, причина была прозаическая – туалеты в Известиях представляли собой деревянные домики в кустах, – и возле седьмой дачи, где сидела на поляне до утра известинская молодежь, услышала: «А расскажите что‑нибудь интересное!»
Девичий голос, произнесший это в темноте, был таким звонким, что Тамара и тогда, и сейчас улыбнулась. Сейчас – тому, что повторяет слова какой‑то семнадцатилетней девочки.
Паша ее просьбе не удивился.
– Интересное?.. – переспросил он. – Ты в Лондоне в Национальной галерее была?
Тамару тоже не удивил его неожиданный вопрос.
– Конечно, – кивнула она.
– Тогда, значит, и сама знаешь…
Кажется, он расстроился от того, что лишился возможности рассказать ей интересное, о котором она просила.
– Мало ли где я была, – сказала Тамара. – Вдруг не заметила, что ты заметил. Расскажи!
– Мозаику в вестибюле помнишь?
– Нет… А что за мозаика?
– Называется «Современные добродетели». Как думаешь, что на ней изображено?
– Понятия не имею! – Тамара засмеялась. – Даже представить не могу, что в современном мире считается добродетелью. Ну скажи, скажи!
– Юмор. Любопытство. – Паша загибал пальцы, и Тамара следила за ним с самой себе непонятной завороженностью. – Наслаждение. Непредвзятость. Безрассудство. Изумление. Сострадание. И праздность.
– Ничего себе! – Тамара даже головой покрутила, чтобы как‑нибудь утрясся и упорядочился в ней этот феерический перечень. Она обнаруживала в себе сейчас только одно из названных качеств – изумление. – Понятно – сострадание. Или непредвзятость. Но безрассудство, праздность… Что в них добродетельного?
– Не знаю, – улыбнулся Паша. – Ты просила интересное – я рассказал. Мне это действительно показалось интересным. Во всяком случае, достойным размышления.
– Да, размышлять и размышлять, – согласилась Тамара. – Надолго хватит. Особенно в Махре.
– Почему именно в Махре?
– Ну, здесь же у нас та самая пустынная глушь, которая предназначена, чтобы понять, что в жизни нет ничего случайного и все полно общей мысли. Если ты свое существование считаешь не случайностью, а частью чего‑то чудесного и разумного.
– Ого! – хмыкнул Паша. – Неплохие у тебя в Махре размышления!
– Это не у меня! – засмеялась Тамара. – Я тебя дразню просто. Это Чехов.
– А!..
Кажется, он немного обиделся, что она вздумала сыграть с ним в викторину.
– У меня своих мыслей не так уж много, Паш, – извиняющимся тоном сказала Тамара. – Но хорошая память позволяет мне обдумывать чужие и соотносить их с собой. Случайно или не случайно мое существование. Мир вообще случаен или не случаен. Движение он по кругу или стрела, летящая в цель. Это тоже не я придумала, – поспешно добавила она. – Но кто, не помню.
– Мир – стрела, летящая в цель? – усмехнулся Паша. – Вот на это совсем не похоже. В основном он из бессмыслицы состоит, как жизнь показывает. Пойдем? – Он поднялся с травы, протянул ей руку. – Жарко становится. Дойдем до Неголова, искупаемся.
Его рука была горячей, как будто солнечный жар вошел в нее.
Берег в деревне Неголово был песчаный, сосны подступали к самой воде. Река была здесь широкой и даже с омутом. К одной из сосен была привязана тарзанка, и мальчишки, раскачавшись, прыгали с нее прямо в этот омут.
Паша тоже прыгнул и поплыл против течения, а Тамара вошла в воду с пологого берега. Она плыла над светлым песком, над волнующейся темной травой и удивлялась, и радовалась тому, как легко, без всякого собственного усилия охватывает ее счастье. С другими только в молодости бывает, что счастье приходит просто от факта твоего существования, как гормональный бонус юного организма, а с ней это происходит здесь до сих пор, и даже туалет в кустах кажется ей поэтому приемлемым неудобством. Такое уж это место, Махра, – в широком смысле слова, вместе с известинским парком, и лесом, и рекой Молокчей, и этой вот дальней деревней Неголово у реки.
Тамара вышла из воды и под поплиновым сарафаном стянула с себя мокрый купальник. Свежесть от холодной речной воды, мгновенное тепло от воздуха и от нагретой сосны, к которой она сразу прислонилась, – все это ощущалось ею точно так же, как и тридцать лет назад.
В Махре хранится соль ее молодости, как в кончике иглы – бессмертие Кощея. Сравнение неромантическое, зато точное.
Паша тоже вышел из речки и лег, раскинув руки, на песок у воды.
– Илья Муромец припал к матери‑сырой земле, – сказал он, не открывая глаз.
– А я с Кощеем Бессмертным только что сравнивала.
– Меня? – Паша приоткрыл один глаз и покосился на Тамару.
– Себя.
– Ну уж! – Он сел, посмотрел на нее прямым взглядом. – На Кощея ты не похожа.
– А на кого похожа? – с интересом спросила Тамара.
– На Катрин Денёв.
– Всего лишь? Мало в тебе романтики, Паша! – засмеялась она.
– Почему? По‑моему, Денёв красавица.
– Покрасивее, чем Кощей Бессмертный, точно, – согласилась Тамара. – Но все‑таки она всего лишь актриса, а Кощей – загадочное создание.
Смущение вдруг охватило ее. Не смущение даже, а только промельк его, дальний отсвет. Но и это показалось ей удивительным. Какое смущение, почему вдруг?
– Пойдем домой? – спросил Паша.
«Зачем? Давай еще побудем», – чуть не ответила Тамара.
Но все‑таки сдержалась. Это она третий месяц на даче живет, а человек ненадолго приехал, мало ли какие у него планы.
– Как скажешь, – кивнула она.
– Я сегодня уезжаю, – словно оправдываясь, сказал Паша.
– Ты же вчера приехал только! – вырвалось у Тамары. – И то вечером.
– Ну да. – Он улыбнулся. Его улыбка не показалась Тамаре веселой. – Но и семью же надо навестить.
Странность этого дня словно выпуклой стала от его слов. Почему Паша приехал в Махру, Тамара могла понять, просто по себе это понимала. Но почему единственный день, который мог провести здесь, он решил провести вот так, в прогулке с нею вдоль реки, понять она не могла. А может, не хотела. Ей достаточно было самого этого дня – прекрасного, ясного, наполнившего ее счастьем – и не хотелось знать его подоплеку.
– Пойдем.
Тамара отошла от сосны. Но тепло прямого шершавого ствола долго еще текло по позвоночнику.
– Поедем, – уточнил Паша. – Если обратно пешком, дотемна не доберемся.
Они вышли из Неголова по короткой тропинке через лес, остановились на шоссе, и первая же машина подвезла их до Известий.
– Спасибо, – сказал Паша, когда они вошли в парк и остановились на аллее у поворота к Тамариной даче.
– Мне‑то за что? – Она пожала плечами. – Это ты меня на прогулку позвал.
– Если бы не ты, ее бы не было.
Он быстро поцеловал Тамарину руку и ушел, оставив ее с тем странным ощущением, которое она заметила в себе сегодня, – то ли с недоумением, то ли даже с тревогой.
Глава 7
Рядом с дачей Тамара увидела «Вольво». Эту машину ее муж всегда водил сам. Она обошла дом – у веранды под соснами стояла раскладушка. Олег спал, завернувшись в плед. В теплую погоду он всегда выносил раскладушку на воздух сразу же, как только приезжал сюда – говорил, что Махра действует на него как идеальное снотворное. Из командировки приехал на два дня раньше, почему? Ну, потом можно будет спросить, когда проснется.
Тамара включила электроплитку, стоящую на веранде. Себе она готовила редко и самое простое, но продукты для обеда на всякий случай в холодильнике держала, поэтому срочно что‑нибудь придумать не составляло для нее труда.
Куриный бульон теперь варится быстро. Не то что тридцать лет назад, когда она готовила свой первый семейный обед и не могла взять в толк, почему варит суп уже два часа, а курица остается жесткой, как башмачная подошва. Щавель для зеленых щей вчера собрала на лугу. Яйца деревенские. Сметана тоже из деревенских сливок, не такая, как у Инги, но все равно отличная, фасоль спаржевую из деревни же принесли, половину курицы потушить вместе с фасолью, морковку молодую…
Кулинаркой Тамара себя не считала, потому что не испытывала от приготовления пищи необходимого вдохновения, которое заставляло бы ее выискивать какие‑нибудь необыкновенные рецепты, изобретать новые блюда и радоваться плодам своих усилий. Она готовила без напряжения и почти не задумываясь все, что умела с молодости, получалось вкусно – чего же боле? Олегу всегда было безразлично, что он ест, в начале их семейной жизни она расстраивалась даже, но потом поняла, что в житейском смысле это удобно. А собственный ее гедонизм был нематериален.
Раскладушка скрипнула – значит, проснулся. Муж спал неподвижно, как камень, Тамару всегда это удивляло.
– Привет, – сказала она, подойдя к перилам веранды. – Почему не предупредил, что раньше возвращаешься?
– Привет. А зачем? – ответил он.
– А вдруг у меня еды не было бы?
– Но есть же.
Он потянулся так, что даже на расстоянии нескольких шагов было слышно, как хрустнули суставы, сел на раскладушке. Она ушла к плите, пока он одевался. Через пять минут Олег поднялся на веранду и поцеловал Тамару в щеку. Его щека примялась от подушки, волосы на виске тоже, от этого и весь он выглядел каким‑то помятым.
Время их тяги друг к другу прошло, но Тамара не могла сказать, что жалеет об этом. Все, так или иначе, проходит, и уже то, что отношения не превратились за тридцать лет, очень разных лет, во взаимную ненависть или раздражение, а лишь стали ровными, ушли на задний план жизни каждого из них, – совсем неплохо.
– Суп вкусный, – сказал Олег, доев зеленые щи. – Спасибо. – И, заметив Тамарину улыбку, спросил: – Почему смеешься?
– Так. Ты никогда не замечал, что ешь.
– Старею.
– Ну уж! Для мужчины у тебя вообще не возраст. Если бы ты стал политиком, то молодым считался бы.
– С политикой, к счастью, пронесло. До сих пор себя хвалю. Во что б я сейчас превратился, если бы в Думе, например, сидел?
– Как ты съездил? – спросила Тамара.
Она же пятнадцать лет назад и отговорила мужа от политической карьеры. Это стоило ей немалых усилий, потому что карьера эта представлялась тогда Олегу очевидной, да такой, наверное, и была, и деньги с ней связаны были большие. Но что об этом теперь напоминать? Пусть думает, как ему нравится.
– Нормально съездил, – ответил он. – В Томске жара.
– Красиво там сейчас, наверное.
– Да, красивый город.
– Там Эрдман в ссылке когда‑то был, драматург. Писал оттуда, что студентов в Томске много и днем на главной улице кажется, что идешь по школьному коридору в большую перемену. Интересно, сейчас тоже так?
– Да, молодежи много, – кивнул Олег. – Университетов штук семь, кажется. Инженеров выпускают толковых, я недавно на работу взял.
Он сидел за столом, а Тамара стояла у плитки и раскладывала по тарелкам рагу. Слова, которые они говорили друг другу, ничего не значили. Но и за словами этими, и вне слов тоже не было ничего значительного, ничего такого, что не умещалось бы в них. Просто ничего не значащие слова, и все. Может, так не только бывает, но и должно быть. Может, у всех так. Тамара не особенно об этом задумывалась.
– Я тебе звонил, но телефон у тебя выключен был, – сказал Олег, накалывая на вилку тушеные стручки фасоли.
– Я в Неголово ходила. С Пашей Вербининым. В лесу плохая связь.
– А!.. Хотел Маринку сюда привезти, но она сказала, сама на выходные приедет. Как у нее дела?
– А ты у нее самой не спросил, что ли?
– Я во время приема позвонил, она не могла разговаривать.
– Дела у нее… Не знаю. Может, плохо, а может, и хорошо. С одинаковой вероятностью.
– Оцени однозначно. – Олег поморщился. – С новым другом не заладилось?
– Ну да, – кивнула Тамара. – И как это оценивать?
– Оценивать это надо положительно, – сказал Олег. – Ты что, хотела, чтобы твои внуки от какого‑то урода родились?
– Маринка считала его красивым.
– Я не о внешности.
– И при чем здесь вообще мои хотенья? – пожала плечами Тамара. – Она его любила. Может, и сейчас любит. Во всяком случае, ей этот разрыв тяжело дался.
– Ничего, забудет.
– Ей не шестнадцать лет.
– И хорошо. В шестнадцать лет от несчастной любви только и следи, чтобы из окна не бросилась. Я сегодня в самолете газету взял, черт знает что у подростков в соцсетях творится. Специально шестнадцатилетних детей на самоубийство подговаривают, это как? А в тридцать у Маринки уже голова на месте. Переживет и счастлива будет.
– У нее и в шестнадцать голова была на месте, – напомнила Тамара. – Даже слишком. И где оно, ее счастье?
На этот вопрос Олег не ответил. Да она и не ждала ответа, потому что его не было.
– Когда ты на работу? – спросила Тамара.
– Послезавтра.
Она хотела спросить, останется ли он ночевать, но не стала. Странно спрашивать об этом мужа. Останется – значит, останется. Уедет – значит, уедет.
Тамара убрала со стола, налила горячей воды в пластмассовый таз. В нем она мыла посуду на своей веранде, а потом споласкивала ее под общим краном на поляне. Водопровод был летний, с холодной водой, а в душе, устроенном рядом с домом, вода нагревалась солнцем. Кроме того, Тамара ходила в баню к бабе Зине, у которой брала в деревне молоко. Для бабы Зины баня являлась неиссякаемым источником дохода, и она готова была ее топить хоть каждый день.
– Никогда этого не пойму, – сказал Олег, глядя, как Тамара моет посуду.
– Чего не поймешь?
– Как ты с твоим перфекционизмом можешь жить в таких условиях.
Устроить в доме водопровод и канализацию было невозможно, потому что все здесь уже много лет существовало необъяснимым образом: дачные домики числились аварийными, а может, и вообще уже не существующими, земля, которую занимал парк, непонятно кому принадлежала… Выяснив это, Олег прекратил попытки цивилизованно обустроить летнюю жизнь своей жены. Тем более что она не выказывала недовольства этой жизнью.
– Смотря что считать перфектным, – пожала плечами Тамара.
Уточнять, что она имеет в виду, Олег не стал. То ли понятно ему это было, то ли неинтересно.
Тамара постелила мужу в комнате: он не любил бодрящей ночной прохлады, поэтому никогда не ложился на веранде, где она спала с открытыми окнами при любой погоде.
В августе темнело почти по‑осеннему. Тамара ополаскивала посуду при свете фонаря. Когда она вернулась на веранду, свет в комнате был уже выключен. Наверное, Олег принял таблетку, он всегда это делал, если приходилось менять часовые пояса.
Тусклый фонарь освещал противоположную сторону дома, а здесь, на веранде, сквозь стеклянные квадратики видны были звезды и созвездия. Порывисто и твердо целил в бесконечность Стрелец. Венера сияла, как драгоценный осколок какого‑то огромного и таинственного тела. Уже задернув шторы, а потом и закрыв глаза, Тамара все еще видела этот порыв и это сияние то ли в памяти своей, то ли в воображении.
Она проснулась от того, что ей стало тесно. В смуте внезапного пробуждения это было необъяснимо, но почему‑то не встревожило. Открыв глаза, Тамара поняла, почему: ничего особенного не происходит, просто Олег лежит рядом с нею, поглаживая ее плечо.
– Не спится, – негромко сказал он. – Может, давай, а?
Она обняла мужа вместо ответа. Ей не трудно было ответить его желанию, настолько не трудно, что он, наверное, подумал, будто ей и самой хочется того же. Но это было не так. Когда Тамара впервые это поняла, то испугалась. Не может быть, не могло это в ней угаснуть! Она тогда была уверена, что такое угасание – аномалия, о которой даже думать стыдно. Она же не прибор для деторождения, и то, что эта ее функция осталась в прошлом, не должно же превращать ее в вялую старуху, да и не чувствует она себя старухой, что за глупости! Она бодра, полна интереса к жизни, ко всем проявлениям жизни. Но, говоря себе все это, Тамара понимала, что глупо обманывать себя, перед самой собою притворяться: физическая тяга прошла, словно растворилась внутри ее. Невозможно было с этим смириться, но пришлось.
В ту ночь, когда Тамара поняла это впервые, она сказала мужу, что у нее невыносимо болит голова. Никогда не прибегала к такой примитивной лжи, но смятение ее было так велико, что она не придумала ничего лучше, чтобы справиться с собою. Олег тогда настаивать не стал. Это было время, когда жизнь их вообще устраивалась по‑новому, и он ни на чем поэтому не настаивал… Он вскоре уснул, а она не спала до утра, и в предрассветный тревожный час в смещенном ее сознании, в воспаленной голове какие только мысли не мелькали: что жизнь ее кончена… а может, ей надо завести любовника… или надо было… прекрасно знает, когда… зря относилась к этому с брезгливостью… и чего добилась, старухой стала…
Тамара уснула тогда с первыми солнечными лучами, а проснувшись, оценила свои предрассветные мысли как бред. Но с той ночи она стала прислушиваться к себе, стараясь уловить внутри себя желание. Так человек прислушивается к своему сердцу, но не к отвлеченному поэтическому явлению, которое обозначают этим словом, а к настоящему своему физическому сердцу. С той лишь разницей, что, чувствуя сердце лишь в виде ровного биения, человек успокаивается – значит, здоров, – а когда Тамара почувствовала, что никаких вспышек желания у нее внутри не происходит, то вместо спокойствия ее охватила тоска.
Но то время прошло, и чувства те прошли тоже. Теперь она спокойно обняла мужа, и все, что происходило дальше, если не возбуждало ее, то и не раздражало.
Она вдруг вспомнила, как Паша поцеловал ее руку, уходя. Это мгновенное, едва промелькнувшее воспоминание было тревожным и странным.
Олег был широкий и тяжелый, и всегда он был таким, не к шестидесяти пяти годам сделался. Он не прилагал никаких усилий к тому, чтобы оставаться в форме; как и Тамара, впрочем. Повезло им обоим, от природы не было склонности к полноте ни у нее, тонкой, ни у него, широкого.
Он не был изобретателен в ласках, но когда‑то – когда все это еще было Тамаре необходимо – мог доставить ей очень сильное физическое удовольствие. Да и не нужна ей была никакая особенная изобретательность. Тамара подозревала, что не только ей, но и вообще не нужна, никому. В изобретательности ли состоит секрет тяги людей друг к другу, даже физической тяги только? Едва ли.
Да, Олег был тяжел, прохладен телом и как‑то… Как‑то почти не ощущался ею. Она не ждала, чтобы поскорее закончились его короткие необязательные поцелуи, не торопила, но и не старалась продлить его удовольствие. Хорошо все‑таки стареть. Бояться этого можно лишь от незнания, а когда оно приходит, старение, то оказывается, что в нем не только нет ничего страшного, но наоборот, есть много хорошего и даже приятного.
Что совсем не изменилось в ее муже – состояние, которым для него заканчивалась близость. Когда‑то, в их первую ночь, Тамара даже испугалась: ей показалось, что ему больно, что с ним происходит что‑то мучительное, так он стонал и бился в необъяснимых для нее судорогах. Когда они прожили вместе полгода и преграды стеснения одна за другой исчезли между ними, она спросила, так ли это. Он сначала не понял, о чем спрашивает его жена, потом удивился, потом расхохотался и ответил:
– Не больно. Так и должно быть.
Ей не с кем было его сравнивать, и она поверила ему на слово, а вскоре поняла, что ей нравится такая бурная его реакция, и мало сказать нравится – она ждет ее и только одновременно с нею получает настоящее удовольствие.
Когда судороги его прошли и он лег рядом с ней, отдыхая, она сказала:
– Не вставай завтра рано, выспись. Ты устал.
– Почему так решила? – спросил он.
– Дышишь тяжело.
– Это не от усталости.
– А от чего?
Олег не ответил. Потом поднялся и, повозившись с обувью, вышел. Было слышно, как льется из уличного крана вода. Вернувшись, дверь за собой в комнату он закрыл неплотно, и через пять минут Тамара поняла, что муж заснул – дыхание его стало размеренным.
«Зачем все это?» – подумала она.
Так сложилась жизнь; нет другого ответа.
С этой мыслью она и уснула.
Глава 8
Лифт с утра не работал. Поднимаясь к себе на пятый этаж пешком, Марина слышала, как грохочут в шахте молотки и глухо переговариваются ремонтники.
На третьем этаже стоял гул множества голосов, из коридора на лестницу доносились крики. С тех пор как лаборатория на третьем этаже скукожилась с четырех до двух кабинетов, в которых работали две лаборантки вместо шестнадцати, – в коридоре каждое утро было черно от людей.
Марина вспомнила, как мама привела ее сдавать анализ крови для поступления в первый класс. Перед лабораторией в их районной поликлинике стоял такой же гул, и так же толпились измученные ожиданием люди, и так же готовы они были наброситься с кулаками на каждого, кто попробует пролезть без очереди.
И вот она видит это не в тумане детских воспоминаний, а наяву. А казалось, что такого не будет уже никогда.
– Зарплаты у них маленькие! – В женском голосе ярость смешивалась со слезами. – А что я до них еле‑еле доползла, и зря, выходит, а как завтра доползу, и опять же они у меня кровь взять не успеют, это им наплевать!
– Да, маленькие! – Новенькая, только после колледжа лаборантка тоже чуть не плакала, стоя в дверях. – За такую зарплату человек работать вообще не должен! На нее же жить нельзя, вы что, не понимаете? Я сегодня девяносто восемь раз кровь взяла! У меня же в глазах темно, как еще в вену попадаю! А вы скандалите! Я вам что, робот?
Теперь каждый день так, и будет так, и что с этим делать, непонятно.
Марина не представляла, как работала бы в обычном отделении. И в платном‑то с каждым месяцем становится все труднее из‑за вала бессмысленных правил, которые появляются из ничего и непонятно для чего предназначены.
Года три назад пациентка, к которой Марина пришла на визит, сказала:
– Слишком нас для них много. Нужды в нас нету – им обслуги столько не требуется. А всех учи, лечи, деньги на это трать. Они и придумали, как нас проредить – кто сам на себя денег не добыл, тот пускай от болезней сдыхает. И не придерешься: Бог дал – Бог взял.
Тогда эти слова показались Марине лишь признаком раздраженного ума, который во всем ищет козни и заговоры. Но теперь, и с каждым днем все больше, она думала, что они не лишены были основания.
На пятом этаже, в платном отделении, стояла тишина. Пациенты, сидящие возле кабинетов, негромко беседовали о своих болезнях. Маринин прием начинался через десять минут. У двери ее уже ждала Ольга Васильевна. Старушке год назад оформил платную страховку сын, и весь этот год она ходила в поликлинику как на работу, каждый день, не зря же уплачены такие огромные деньжищи. И деньжищи в общем‑то были не огромные, и болезней особых у Ольги Васильевны не было, но она вела себя так мирно и деликатно, что совсем не казалась назойливой с этими своими ежедневными посещениями.
– Здравствуйте, Марина Олеговна, – сказала она. – Я вас надолго не займу. Только по таблеткам посоветоваться, которые вы мне прошлый раз от давления назначили. Что‑то головокружение у меня от них.
– Доброе утро, Ольга Васильевна, – улыбнулась Марина. – Сейчас я вас приглашу.
День начинался размеренно, как ему и следовало. В отличие от мамы, Марина любила рутину. Вернее, просто не считала рутиной мерное течение дел.
Ее медсестра Галя была уже на месте и вынимала из шкафа тонометр. Да и все было на месте – так у них в отделении всегда было заведено, закончив прием, оставить кабинет в идеальном порядке, чтобы на следующий день сразу можно было приступить к работе.
Заглянула Аленка Солнечкина, попросила:
– Мариш, подружку мою примешь? Кашель зверский, похоже, бронхит. А в ее поликлинике очередь бесконечная, да и врач, она говорит, бестолковый, отвар ромашки от всего подряд прописывает, включая воспаление легких.
– Приму, – кивнула Марина. – Ольга Васильевна, надеюсь, ненадолго. После нее пусть зайдет.
На прием одного пациента отводилось двадцать минут. В сравнении с тем, что творилось в обычных поликлиниках, где минуты сократили до двенадцати – какой‑нибудь старушке с палочкой только войти да выйти, – это был нормальный рабочий ритм. К тому же в сложных случаях никто не требовал выпроваживать больных побыстрее, можно было расспросить, разобраться и назначить лечение.
– Спасибо!
Аленка исчезла за дверью. Слышно было, как она разговаривает с Ольгой Васильевной, которую и в лор‑кабинете тоже отлично знали.
Марина прописала старушке новые таблетки, и та ушла довольная, в особенности тем, что ей велено было через неделю прийти снова и сообщить о самочувствии.
У Алениной приятельницы в самом деле оказался бронхит, Марина расписала ей схему лечения, не с ромашкой, конечно, а с новым французским антибиотиком.
– Не беспокойтесь, он хорошо действует, точечно, – сказала она, отдавая рецепт. – Я сама принимала. Побочных эффектов практически не дает.
Про «сама принимала» Марина сказала не для пущей убедительности: бронхит у нее этим летом случился сильный, и французское лекарство оказалось просто спасительным.
– А я за себя вообще не волнуюсь. – Аленина подружка улыбнулась и сразу же зашлась кашлем. – Подумаешь, эффекты! Лишь бы помогло. Ребенка в школу отправляю, некогда болеть.
Начавшись размеренно, день и дальше катился ровно.
Пациенты сменяют друг друга, ничего серьезного, скоро приему конец, осталось двое, потом поедет на визиты, их сегодня тоже не много: конец лета, грипп еще не начался и хронические болезни не разыгрались…
Галя отпросилась пораньше – ей надо было проведать мать, которую вчера положили в больницу, – и Марина заканчивала прием одна. Старушка, вошедшая в кабинет последней, напоминала Ольгу Васильевну. То есть внешне, цветом глаз или формой носа, она не была на нее похожа, но по тому облаку‑впечатлению, которое приносит с собою каждый человек, казалась просто‑таки сестрой ее родной; та же смущенная деликатность. Правда, совсем не похоже было, чтобы она испытывала удовольствие от возможности посещать врачей, только в этом смысле от Ольги Васильевны и отличалась. Какой‑то мужчина – сын или, может быть, зять – ввел ее в кабинет, поздоровался и тут же вышел обратно в коридор. Не только она сама, значит, на Ольгу Васильевну похожа, но и обстоятельства ее появления в платном отделении поликлиники.
Звали ее Зинаида Игнатьевна Стрельбищенская, жалоб на здоровье у нее не было, но лишь потому, что «плохое сердце» она болезнью не считала.
– По наследству такое досталось, – объяснила Зинаида Игнатьевна. – Стенокардией и мама моя страдала, и отец. Грудной жабой тогда называли. Оба от нее рано скончались, да в те времена и невозможно было вылечить. Какие тогда лекарства были? Никаких. Ну и обстоятельства, сами понимаете, то война, то вся страна в руинах. А в Сибири у нас хоть и не руины, но тоже не до грудной было жабы.
Пока старушка рассказывала, Марина изучала ее кардиограмму и анализы. По всему было понятно, что идет декомпенсация, состояние ухудшается, и меры надо принимать срочные.
– Сейчас войны нет, – сказала Марина. – А лечение есть, и надо вам его получить. В больницу вам надо лечь, Зинаида Игнатьевна, – пояснила она. – Скрининг сделают, лекарства подберут.
– Что сделают? – переспросила та.
– Полное обследование.
– Так для чего же в больницу? – испугалась старушка. – Я и так анализы сдам. И лекарства в аптеке куплю.
– Анализов много потребуется, – сказала Марина. – А главное, состояние ваше в динамике понаблюдают, иначе лекарства правильно не подобрать.
– Какие теперь больницы! – вздохнула старушка. – В нынешних разве вылечат?
Убежденность, что все больницы теперь плохие и в них не вылечат, каким‑то загадочным образом уживалось у нее со знанием о том, что вылечиться в прежние времена было невозможно, потому что не было лекарств, да и обстоятельства не способствовали. Впрочем, взаимодействуя с людьми каждый день в самой существенной сфере их жизни, Марина уже не удивлялась ни странной человеческой логике, ни полному отсутствию таковой.
– Бассейновая больница – отличная, – сказала она. – Терапевты сильные, кардиологи тоже.
– А бассейн мне зачем?
– Бассейновая – это название. Потому что физиотерапия там разнообразная. Страховка у вас с госпитализацией. Я свое заключение напишу, потом к кардиологу пойдете, он тоже напишет, и, надеюсь, вас положат. Хорошая больница, хорошая, – повторила Марина. – И палату можно взять отдельную.
– Отдельную не надо! – Зинаида Игнатьевна испугалась больше, чем при самом упоминании о больнице. – Что вы! Я и так Андрюшу разорила уже хворями своими.
Андрюша – это, надо думать, сын, который ее сюда привел. Счастливая старость! Что делала бы она, Марина, если бы не папа вечно ей помогал, а, наоборот, самой пришлось бы заботиться о родителях? Каждый раз, когда она думала об этом, ей становилось не по себе. Видеть, как родной человек умирает, знать, что ему можно помочь и одновременно знать, что помочь ему невозможно только потому, что нет денег на лечение… От такого самому умереть впору!
– Какую палату, на месте выясните, – сказала Марина. – Когда получите направление на госпитализацию, то позвоните в больницу, и вам все скажут.
Скорее всего, ей стентирование необходимо. Но это уже не Марине решать.
– Я сына позову, можно? – попросила старушка. – Вы ему все скажете. Я в Москве этой вашей и так не понимаю ничего, а тем более к кому идти, куда звонить.
– Конечно, позовите сына, – кивнула Марина. – Да я сейчас сама позову. Он ведь в коридоре вас ждет?
Она вышла в коридор. Сын Зинаиды Игнатьевны сидел на стуле справа от двери. Марина поняла, что это он, потому что больше никого рядом с кабинетом не было. Он сидел неподвижно, голова его свесилась на грудь. Наверное, уснул, ожидая.
– Добрый день! – сказала Марина. Она забыла спросить его отчество, не Андрюшей же назвать. – Вашей маме надо будет сейчас пойти к кардиологу, чтобы…
Он не вскинулся, не повернул голову, не встал – он, похоже, вообще не услышал ее слов. И не заметил ее появления.
Это выглядело странно. Марина подошла к нему и коснулась его плеча. От ее прикосновения он накренился, как подрубленное дерево, и стал медленно падать в сторону.
– Что с вами?! – вскрикнула Марина.
Она схватила его за плечи, не давая упасть на пол. Хорошо, что у двери стояли в ряд четыре стула – она положила его на них навзничь. Губы у него были синие, лицо белое. От края левой брови поднимался вверх тоненький шрам, от этого даже на мертвенно неподвижном лице выражение оставалось удивленным и то ли насмешливым, то ли недоверчивым. Шрам казался серебряным, это почему‑то бросилось Марине в глаза, хотя не имело никакого значения. В момент растерянности всегда замечаешь мелочи – сознание мечется. Что это может быть? Инфаркт, инсульт, внутреннее кровотечение? Да все что угодно!
Марина крикнула:
– Алена! Да кто‑нибудь же! Помогите!
Из открытой двери кабинета выбежала Зинаида Игнатьевна. Она вскрикнула отчаянно, по‑птичьи, и бросилась к сыну. Ее появление сразу успокоило Марину. То есть не успокоило, а заставило взять себя в руки. Не хватало еще, чтобы у старушки случился сердечный приступ.
– Зинаида Игнатьевна, принесите, пожалуйста, тонометр, – сказала она. – Возьмите у меня на столе.
Та сразу же перестала кричать и побежала в кабинет.
Давление у него было низкое, и Марина решила бы, что это инсульт… Но когда она стягивала пиджак с его левой руки, чтобы надеть манжету, то почувствовала, что все его тело пылает. Температура не меньше сорока, и без термометра понятно.
– Зинаида Игнатьевна, возьмите в шкафу две пеленки и намочите холодной водой. – Марина слышала, что ее голос звучит спокойно и ровно. – Очень холодной. И принесите сюда.
Она ожидала вопроса, зачем это надо, но старушка его не задала. В кабинет, а через полминуты обратно она не шла, а бежала.
Положив одну холодную мокрую пеленку ее сыну на лоб, а вторую на грудь, Марина сказала:
– А теперь посидите здесь. Я за шприцем схожу. И вызову «Скорую».
Когда Марина вернулась с набранным шприцем, рядом с лежащим на стульях человеком стоял хирург Зиновий Ильич и, держа его за руку, считал пульс. Наверное, вышел на шум из своего кабинета. Старушка смотрела на него как на архангела, сошедшего с иконы. И неудивительно: Зиновий Ильич обладал такой внешностью, которая на всех пациентов действовала успокоительно и умиротворяюще – огромный, седовласый, широкоплечий. На Марину он оказывал ровно такое же действие, но не внешностью и не солидным баритоном, а тем, что являлся первоклассным специалистом, и она это знала.
– Что с ним? – спросил Зиновий Ильич.
– Не знаю, – ответила она. – Но температура очень высокая. Наверное, от нее гипоксия. Интоксикация и шок. Давление восемьдесят на сорок. Анальгин сейчас уколю.
– «Скорую» вызвала?
– Конечно.
– Приедут?
– Надеюсь.
– Мне однажды заявили, что в медицинском учреждении можем и сами помощь оказать, – хмыкнул он.
– Нет, сейчас ничего такого не сказали.
Вводя лекарство, Марина видела, что синева, которой были обметаны губы больного, сменилась белизной. Потом его лицо стало светлеть.
– Зинаида Игнатьевна, ваш сын ничем не болен? – спросила она.
– Может, ездил куда‑нибудь? – добавил Зиновий Ильич. – В экзотические страны? Малярии нет у него?
– Господи, да разве я знаю, куда он ездил? – жалобно проговорила старушка. – По дороге голова у него побаливала, таблетку в машине принял, а так ни на что не жаловался…
Она взяла сына за руку. Он открыл глаза.
– Андрюша! – всхлипнула старушка. – Да что ж за горе такое!
– Какое горе, мам?
Он попробовал сесть, но Зиновий Ильич придержал его за плечо и сказал:
– Лежи. Как себя чувствуешь? Дышать можешь? Сердце не болит?
– Нет. А что со мной было?
Говорил он внятно, но у него был взгляд человека, который не может вернуться в жизнь. Марине стало не по себе от такого взгляда.
– У Марины Олеговны надо спросить, – ответил Зиновий. – Она тебя обнаружила. С температурой. Похоже, интоксикация. Сейчас «Скорая» приедет.
– Какая еще «Скорая»? – На этот раз он все‑таки сел, опустил ноги на пол. – Зачем?
– Так ведь плохо тебе стало, Андрюша, – сказала Зинаида Игнатьевна. – Сколько ты без сознания‑то пробыл, пока доктор тебя увидела? Ой, господи! – снова всхлипнула она.
– Ну‑ну, мам.
Он совсем пришел в себя, взгляд сделался осмысленным, исчезло выражение, от которого у Марины мурашки бежали по спине.
Она сразу такое выражение распознавала – после того как на глазах у всей группы умер от острой сердечной недостаточности однокурсник. Вот так же точно потерял сознание прямо в аудитории после лекции, и не стало его в одно мгновение, и перед самым этим мгновением Марина увидела у него в глазах именно то выражение, для которого не знала названия, а вернее, не было для этого названия на языке живых. Они были тогда на первом курсе, после этого две девчонки институт бросили.
– Перестань, мама, – повторил он всхлипывающей Зинаиде Игнатьевне. – Все в порядке. – И, обернувшись к Марине, сказал: – Напугал вас, извините.
– Ничего, – вглядываясь в его лицо, ответила она.
– Спасибо, – сказал он.
– Не за что, – ответила она.
Мертвенность исчезла с его лица, и оно приобрело живой цвет легкого загара, который имеют лица большинства людей в конце лета.
– Вы «Скорую» отмените, пожалуйста, – сказал он Зиновию Ильичу.
– Нет уж, – ответил тот. – Дай вам Бог крепкого здоровья и долголетия, а только я за это ответственность на себя брать не могу.
Может, тот и возразил бы, но дверь, ведущая на лестницу, открылась, и в конце коридора показалась врач «Скорой».
– Вот номер телефона больницы, – сказала Марина, протягивая ему листок. – Это для вашей мамы.
С ее стороны это было теперь довольно глупо. Скорее всего, его отвезут сейчас в инфекционное, с такой‑то температурой. И хорошо, кстати: врачи в инфекционных отделениях обычно наилучшие.
Он взял листок, машинальным движением положил в карман светлого летнего пиджака, который так и надет был на одну его руку после того как Марина измеряла ему давление.
– Ну, что у вас тут? – спросила, подойдя, врач.
Это Марина рассказала ей уже наскоро: появился последний записанный на сегодня пациент, и она ушла с ним в кабинет.
Врач «Скорой» заглянула через пять минут и сообщила, что больного забирает – действительно, в инфекционную больницу, поскольку причину высокой температуры установить не представляется возможным.
– Спасибо вам передает, – добавила она. – Вы ему, может, и жизнь еще спасли.
Приятно спасти кому‑то жизнь, чего уж. Ну, может, жизнь она ему и не спасла, но все‑таки успешно из приступа вывела, это тоже приятно.
Однако ощущение, которое Марина ловила в себе сейчас, не было ни приятным, ни хотя бы нейтральным. Тягостным оно было, и совершенно непонятно, почему.
Эта тягостность была такой необъяснимой и несуразной, что Марина не могла избавиться от размышлений о ней и когда уже закончила прием, и когда вышла на улицу к разъездной машине, которая возила терапевтов на визиты. Хорошо, что сегодняшний водитель, Сережа, был не из говорливых. И первый визит у нее сегодня был в Тушино, дорога давала время для размышлений, хоть и ненужных, но неотвязных. А почему эти размышления не оставляют ее? Марина не знала.
Пока ползли в пробке по Волоколамскому шоссе, начался дождь. Как раз такой, какие бывают не осенью, когда дожди становятся однообразными и привычными, но на излете лета – в каждом еще чувствуется новизна печали.
И догадка о том, почему не оставляют ее мысли о неожиданном сегодняшнем пациенте, оказалась такой же печальной…
Не в нем было дело, совсем не в нем! А в его лице – серебряный шрам придавал ему то самое выражение, которое всегда привлекало Марину в мужчинах, притягивало как магнит. Почему так, ну вот почему? Она обычный, вполне рациональный человек, и не скажешь ведь, чтобы своей рациональностью тяготилась. Совсем наоборот, любая дисгармония в быту сразу же вызывает желание как‑нибудь ее исправить. Развесить и разложить разбросанную одежду, вымыть грязные полы и посуду… И это не маниакальное стремление человека, у которого царит внутри такой хаос, что он стремится привести внешний мир к безжизненной правильности, а потребность спокойная, почти не замечаемая. Нет‑нет, не тяготит ее ровное течение жизни, и бездны не манят. Но изменчивость, но нервный трепет, который она распознает в мужчинах мгновенно, и сегодня снова, и даже на мертвенном лице… Может, это всего лишь тяга к тому, что тебе обратно? Давным‑давно объясненное психологами притяжение к противоположному? Именно так, притяжением к противоположному, мама назвала когда‑то Маринину первую любовь, а мама ведь проницательна и точна в оценках…
А в общем, как ни называй, заканчивается это всегда разочарованием, и самое малое, если разочарованием. И зачем тогда вложено в нее стремление к тому, что приносит одно лишь горе?
Глава 9
Что Толя умеет все, Марина убедилась в первую же неделю, которую провела у него в Мамонтовке.
Его дом преображался на глазах.
– Ты в самом деле майор погранвойск? – смеясь спросила она, выйдя однажды утром на крыльцо. – Как ты умудрился такое построить? А я ничего и не слышала даже!
Крыльцо‑то как раз и преобразилось, притом непонятно когда. Вчера до темноты сидели вдвоем на шатких ступеньках, которые раскачивались от их поцелуев, будто уцелевшие после кораблекрушения обломки. Спать легли поздней ночью, да и разве спать… Перед самым рассветом только уснули.
А утром Марина вышла из дому и обнаружила, что стоит на совершенно новом крыльце – деревянном, свежем, бело‑золотистом, с резным козырьком и с крепкими до звона ступеньками.
– Я‑то майор, – широко улыбаясь, ответил Толя. – Просто спишь ты крепко.
Он стоял у крыльца и любовался плодами труда своего и Марининым изумленным лицом. Потом засмеялся и объяснил:
– У меня все готовое в сарае лежало. Ступеньки, козырек, перила. Утром по‑быстрому собрал. Никаких чудес.
Точно так же – быстро, ладно – он конопатил стены, прокладывая между бревнами пеньковые косички.
– Ловко плетешь, – заметила Марина, когда увидела его за этим занятием.
– Дочки у меня нету, – бросив на нее быстрый взгляд, сказал Толя. – А косички плести тренировка не нужна, за пять минут любой освоит. Сына тоже нету, – добавил он.
– Почему?
– Не сложилось. У жены проблемы были с этим делом.
– Поэтому вы разошлись?
– Может, и поэтому тоже. Но больше по безнадеге.
– По какой безнадеге? – не поняла она.
– Ну а как ты думаешь? – пожал плечами Толя. – Всю жизнь по медвежьим углам какая женщина выдержит? Я к ней, в принципе, без претензий. Уехала и уехала. Чего ради ей в глуши сидеть? Детей нет, перспектив никаких. Про теткину дачу тогда и помину не было.
Разговор этот был не из приятных, но Толину семейную ситуацию прояснил полностью. На душе у Марины стало легко, и она тоже уселась плести косички.
Толю разговор взволновал больше, чем ее. И хотя пеньковые косички он плел с прежней сноровкой, видно было, что делает это без первоначального воодушевления.
– Извини, – сказала Марина.
– За что?
Он усмехнулся невесело. Тревога плеснулась в его глазах темной волной.
– Не надо мне было об этом заговаривать.
– Да ладно, Марин! – Он махнул рукой и признался смущенно: – Ну, разволновался, да. Не знал же, как ты к этому всему отнесешься.
– К чему – ко всему? – спросила она.
Они сидели на двух табуретках посередине пустой комнаты, и бревенчатые стены, как в стихах, глядели на них с печалью.
– К неприкаянности моей, – ответил Толя.
– Разве ты в ней виноват?
– Женщинам без разницы, виноват или нет. Они на сам факт смотрят.
– Ты так хорошо знаешь женщин? – улыбнулась Марина.
Толя посмотрел удивленно, потом улыбнулся тоже.
– А правда! – сказал он. – Опыт у меня не так чтобы очень. В гарнизонах все или замужние, или девчонки малые, или… Ну, сама понимаешь. – И, помолчав, добавил: – Не было у меня такой, как ты, Маринушка.
Он встал и притянул Марину к себе. Сердце его билось быстро и тревожно, вздрагивали руки на ее плечах.
– Может, выпьем? – спросил он. – Для тебя такое вино есть – «ледяное» называется. Я и не знал, что такое бывает. Ничего я не знал… Не умею счастливым быть.
Она видела, чувствовала, что не справится он с волнением, которое вызвало у него их объяснение. Хорошо ей – жизнь с рождения течет ровно, даже слишком. А человеку, у которого долго было не так, мужчине, трудно объяснять свою жизнь, все ее несуразности и неудачи, и тем более трудно объяснять все это женщине, которая ему дорога.
«Я ему дорога».
Марина вдруг поняла это так ясно, так непреложно, что и у нее стремительно и неровно забилось сердце. В такт Толиному.
– Где же ты взял ледяное вино? – спросила она, постаравшись, чтобы слова прозвучали непринужденно.
Трудно было этого добиться: горло сжималось от волнения и счастья.
– А когда в Москву насчет пенсии ездил. – В Толином голосе Марина расслышала то же старание говорить непринужденно, что и у нее самой. – По центру шел – Малая Бронная называется улица, что ли? – вижу, магазин винный. Маленький совсем и такой, знаешь… Шикарный. Я и зашел, не видал же таких никогда. Ну и купил это ледяное. Для тебя…
– Толя! – Горло у Марины перехватило еще сильнее. – Ну разве можно в бутике вино покупать? Оно же там дорогое до неприличия! А разница с обычным если и есть, то кто ее заметит? Я точно не пойму, где айсвайн этот, где обычное белое.
– Поймешь…
У его губ был тонкий винный привкус, немного горечи, немного сладости…
– Неси свое ледяное! – задыхаясь после долгого поцелуя, сказала Марина. – Будем с тобой счастью учиться.
Бутылка айсвайна была уже открыта. Толя признался, что утром выпил с четверть, попробовал, что за вино такое, вдруг его и предлагать стыдно.
– Ну что ты! – улыбнулась Марина, взглянув на этикетку. – Это самый настоящий айсвайн, рейнский. Я читала, как его впервые сделали, в Средние века, кажется. Случайно, представляешь? Виноград ранними заморозками однажды схватило, вино из него делать было уже не положено, но весь урожай ведь погиб, жалко. Ну и сделали из мерзлых ягод, и вдруг вышло хорошо.
– Да, что не положено, то хорошо выходит, – усмехнулся Толя.
Айсвайн он пить не стал, – «нет уж, это для тебя, я и коньячком обойдусь!» – и Марина выпила оставшиеся три четверти бутылки одна. Все‑таки настоящее рейнское ледяное вино отличалось от всякого другого, необъяснимой тонкости был у него вкус.
– У меня в голове сейчас знаешь что? – смеясь сказала она. – Серебряное облако. Нет, правда! Не веришь?
– Верю, – кивнул Толя.
От выпитого коньяка на его щеках вспыхнули алые пятна, но тревога ушла из глаз. И язык развязался, и исчезла извиняющаяся интонация, от которой у Марины сердце сжималось.
– Трудно мне здесь, Маринушка, – начал он. – Вроде и все хорошо, а не то, не то!..
– Что же не то?
Она допила айсвайн, поставила бокал рядом с собой. В глаза ей ударили лучи заходящего солнца – они с Толей сидели уже не в комнате, а на крыльце, на звонких ступеньках.
– Да всё. – Он плеснул себе еще коньяка, быстро выпил. – Кроме тебя, конечно. Но ты особое дело. А остальное… Вот вроде все хорошо, а в сердце, знаешь… Тянет что‑то, ноет, вздохнуть не дает.
– У тебя сердце болит? – встревожилась Марина.
– Хорошая ты. – Он улыбнулся. – Простая, даже не скажешь, что москвичка. Нет, сердце у меня здоровое. Даже слишком.
– Здоровья слишком не бывает, – покачала головой она.
– Еще как бывает! Иной раз и хочешь, чтоб уже… Ну, неважно. – Он налил коньяка в ее пустой бокал. – Все равно словами не объснишь.
– Почему не объяснишь? – Марина пожала плечами. – Самому себе, без слов, объяснить ведь можно все. Значит, слова надо просто искать – и найдутся.
– Может, и так. Если есть для кого их искать, слова‑то. Людей только раздражает, когда им про себя рассказываешь. Женщин особенно.
– Меня не раздражает, – возразила Марина. – Рассказывай, пожалуйста.
Трудно было назвать рассказом то, что слетало с его губ в следующий час. Слова не были бессвязны, но не служили для изложения историй из жизни или чего‑либо подобного. Он говорил об одиночестве, которое больше, чем степь сама, да она и есть дикая степь Забайкалья, как в песне поется, ничего не переменилось, Маринушка, ничего, а душе в ней, в степи этой, деваться некуда, и к чему ж тогда простор такой, ведь гибель же, а не простор, поездом по Транссибу едешь‑едешь, и час, и два, и пять, ни огонька не видно, то тайга, то степь эта проклятая, снеговая, а для чего оно?..
Сначала Марина пыталась что‑то отвечать, но потом поняла: он не ждет ответа, ему достаточно того, что она просто слушает, глядя в его глаза. Ему действительно некому было все это говорить, кто стал бы слушать? Мелькнули на мгновение слова о жене – о том, что была она обычная, самая обыкновенная, а в той жизни, которая выпала ему, обыкновенной женщины мало, такая должна быть, чтобы всё собой могла наполнить, но не встретил он ее, Марину, раньше, в молодости, вот если б встретил, совсем по‑другому жизнь его пошла бы, а теперь – теперь уже и поздно, наверно…
– Но почему же поздно? – попыталась возразить она. – Тебе сорок пять лет всего, вообще не возраст. Целая жизнь впереди, и никакие степи Забайкалья тебя больше не держат.
Пока он говорил, серебряное облако рассыпалось в ее голове на множество льдинок, они подтаивали, становились влажными, тяжелыми, она физически это ощущала. Ей стало тягостно, и она не хотела, чтобы он заметил перемену ее состояния, конечно, только физическую перемену, не хотела, чтобы отнес это на свой счет, решил, что ее, как других, раздражает его желание выговориться.
– Держат, – покачал головой Толя. – Держат они меня, степи эти, не дают к нормальной жизни приладиться, а почему так, не пойму. Не пойму, не пойму, – повторил он.
Взгляд его застыл, глаза стали стеклянными. Марина только теперь заметила, что бутылка коньяка пуста. Ей он тоже наливал, но она коньяк пить не стала. Значит, один выпил всю бутылку.
Марина посмотрела на часы. Долго они сидят на крыльце, оказывается! Не заметила, как зашло солнце, и только теперь почувствовала сумеречный холод.
– Пойдем спать, Толя, – сказала она, вставая.
Он взял ее за руку, снова усадил на ступеньку рядом с собой, попросил:
– Посиди еще. Посиди со мной, Маринушка.
Его рука была горяча, вздрагивала.
– Посижу, – кивнула она.
– Подожди только.
Он ушел в дом, но сразу же вернулся еще с одной бутылкой коньяка.
– Хватит, Толя, – сказала Марина. – Тебе хватит.
– Нельзя это так оставлять.
– Что – это?
– Пожар этот. Вот здесь.
Он коснулся рукой своей груди. Там, наверное, и горит, и, наверное, он ощущает это именно физически. Она ведь ощущает сейчас у себя в груди такую тягость, будто камень там, тяжелый, темный. А у него – пожар.
– Коньяком пожар не зальешь, Толя, – гладя его руку, сказала Марина.
– Залью, моя хорошая. Я себя знаю. Потерпи еще чуток – скоро…
Следующий час Марина действительно только терпела, и если бы не острая жалость к нему – к его беспомощности перед тем, что сжигает душу, – она этого не выдержала бы.
Понять, о чем он говорит, было уже невозможно. От слов, вроде бы и связанных друг с другом, но при этом создающих совершенно бессвязный поток, и особенно от лихорадочности тона, которым эти слова произносились, каждая минута растягивалась для нее, делалась тягучей, долгой, невыносимой. Марине никогда не приходилось такого испытывать, и это было так странно, так даже страшно, что ни ночного холода она не заметила, ни поднявшегося ветра, и только начавшийся после полуночи дождь заставил ее вздрогнуть, и то не сразу.
Она замерзла. Ей хочется уйти. Толина рука сжимает ее руку.
– Отпусти, – сказала Марина.
Он не услышал, хотя не спал – глаза были открыты.
– Отпусти, Толя, – повторила она. – Ты как хочешь, а я замерзла.
Она чувствовала, что не просто замерзла уже, а промерзла насквозь. На крыльцо вышла в легком платье и в тапках на босу ногу, не заметила вовремя, что холодает, и вот теперь не только ноги стали ледяные, но и внутри лед, кажется. Завтра точно раскашляется, у нее всегда так бывает даже от небольшого переохлаждения, она еще в школьные походы вечно простужалась, проведя ночь в палатке…
– Толя, я пойду! – еще громче повторила Марина.
Он лишь сильнее сжал ее руку, так, что ей стало уже просто больно, и отчетливо проговорил:
– Сиди.
К кому относятся его слова? Смотрит не на Марину, а прямо перед собой. И взгляд совершенно мертвый… Ей стало страшно. Не то чтобы она никогда не видела пьяных, не под стеклянным колпаком ведь жила. Да и не делает же Толя ничего такого, что должно было бы ее пугать. Ну, говорит несвязно, ну, смотрит странно… Но ей было именно страшно, и она ничего не могла поделать с собой.
– Сиди, – повторил он тем же пугающим голосом.
Это длилось пять минут, десять… Наконец его голова склонилась, упала на грудь. Марине показалось, что и пальцы, сжимающие ее запястье, разомкнулись. Но как только она попробовала высвободить руку, его пальцы сжались снова, он вскинулся и посмотрел на нее таким взглядом, что не надо было и слов.
Смещенное сознание, вот как это называется. Она наконец вспомнила, где видела такое – во время учебы, когда была практика в наркологической клинике.
Поняв это, Марина успокоилась.
«Бояться нечего, – подумала она. – Мы несколько раз выпивали вместе, и агрессии он никогда не проявлял. Правда, и взгляда такого у него раньше не было… И бессвязности в разговоре. Но не вечно же он будет так сидеть, уснет же когда‑нибудь».
Когда Толя уснул, она не заметила. То ли от холода, то ли от прошедшего уже, но все‑таки бывшего сильным волнения, то ли просто от того, что затекли ноги и сжатое Толиной рукой запястье, Марина впала в состояние, которое не назвала бы ни сном, ни бодрствованием. Это было забытье. Видения, которые появлялись при этом в ее не меркнущем сознании, были как отражения на плывущих облаках. Вся ее жизнь проплывала перед нею какими‑то странными, не совсем точными, но все‑таки похожими на реальность картинами… И картины эти не казались ей отрадными. Однообразны они были, ровны и однообразны.
«И это – всё? – не словами, а какими‑то другими, необъяснимыми единицами смысла думала она в своем тягучем забытьи. – Так было, так есть, и так будет – и только это будет?»
Когда Марина открыла глаза, светло было уже не по‑ночному. Но это ничего не значило – из‑за того, что часы переводить перестали и время летом шло по зимнему порядку, рассвет в июне наступал около четырех часов пополуночи, и казалось, что ночи нет вовсе.
Сначала Марина почувствовала, а потом и увидела, что Толя больше не держит ее за руку. Он лежит, раскинувшись, в траве у крыльца – со ступенек скатился, может быть, – а она так и сидит на верхней ступеньке, прислонившись к резному столбику, на котором держится навес.
Она встала с трудом: ноги совсем онемели. Толя в то же мгновение вскочил, как пружиной подброшенный. Будто почувствовал, что она проснулась.
– Что?! – вскрикнул он.
– Иди в дом, – проговорила она.
И, не глядя на него больше, ушла в дом сама.
Марина не помнила, как сняла с себя мокрое платье, сбросила тапки, тоже мокрые. Уснула она мгновенно, хотя кашель уже начинал ворочаться у нее в груди, рваться из горла…
Глава 10
Когда Марина проснулась, голова у нее раскалывалась от болезненного жара, грудь давило изнутри. Толя сидел на стуле рядом с высоким надувным матрасом, который по‑прежнему служил им кроватью. В сумерках его лицо было таким белым, как будто всю кровь выкачали из него.
– Маринушка… – проговорил он, увидев, что она открыла глаза. – Прости ты меня, а?
Она попыталась ответить, но горло завалило так, что из него донесся только противный свист.
Толя выглядел совершенно трезвым. Сколько же она проспала?
– Плохо тебе? – В его голосе прозвучало отчаяние. – Простыла?
– Д‑да… – с трудом выдавила из себя Марина.
У нее не было сейчас ни малейшего желания выяснять отношения. Просто сил на это не было.
– Я тебе ромашку заварил, – сказал он. – В термосе. Сейчас принесу.
От бронхита – а похоже, что бронхит у нее и начинается, – ромашка не поможет. Но выпить горячего хотелось, и Марина кивнула.
Когда Толя переливал отвар из термоса в чашку, руки у него слегка дрожали. Но это было единственное, что напоминало о вчерашнем вечере. Или уже о позавчерашнем?
– Сколько я спала? – прохрипела Марина.
В ту же секунду ее сотряс кашель. Она пролила бы отвар, если бы Толя сразу же не взял чашку у нее из рук.
– Десять часов сейчас, – сказал он. – Десять вечера.
Летаргический сон какой‑то. Видимо, стресс оказался сильным. Стыдно. Собственной инфантильности стыдно. Увидела пьяного, ах, ужас какой. Встань и уйди – что тебя с ним связывает?
Но встать прямо сейчас она не могла. Да и Толя сейчас, к счастью, был трезв. Необъяснимым образом, кстати.
Марина выпила отвар до дна. Дышать и говорить стало легче. Толя сразу это заметил, хотя она еще не произнесла ни слова.
– Легче тебе, – сказал он. – Так ты спи опять. И совсем здоровая проснешься.
– От ромашки?
Марина пожала плечами и только теперь заметила, что они у нее голые. Да, вчера еле платье ведь сняла, а ночную рубашку надеть не смогла уже. Она подтянула одеяло повыше. Толя заметил этот жест и вздохнул.
– Не простишь, значит, – сказал он. – И правильно. Я и сам себя не прощу.
Ей не хотелось такого разговора. В его голосе звучало настоящее, не для того чтобы ее разжалобить, горе, и ей было неловко от того, что она это слышит.
– Ромашка от бронхита не поможет, – сказала Марина.
– А что поможет? – тут же спросил он.
– Не все ли равно? Здесь этого лекарства нет.
– Так я куплю!
– В аптеке на станции тоже нет.
– Маринушка…
Он взял ее руку – и сразу же отпустил, и отдернул свою. Наверное, вспомнил, как сжимал ее запястье железной хваткой, как цедил «сиди» и смотрел остекленевшими глазами. Да нет, как он мог бы все это вспомнить? Совершенно пьяный ведь был.
Конец ознакомительного фрагмента – скачать книгу легально
Библиотека электронных книг "Семь Книг" - admin@7books.ru