
Сталин и Рузвельт. Великое партнерство | Сьюзен Батлер
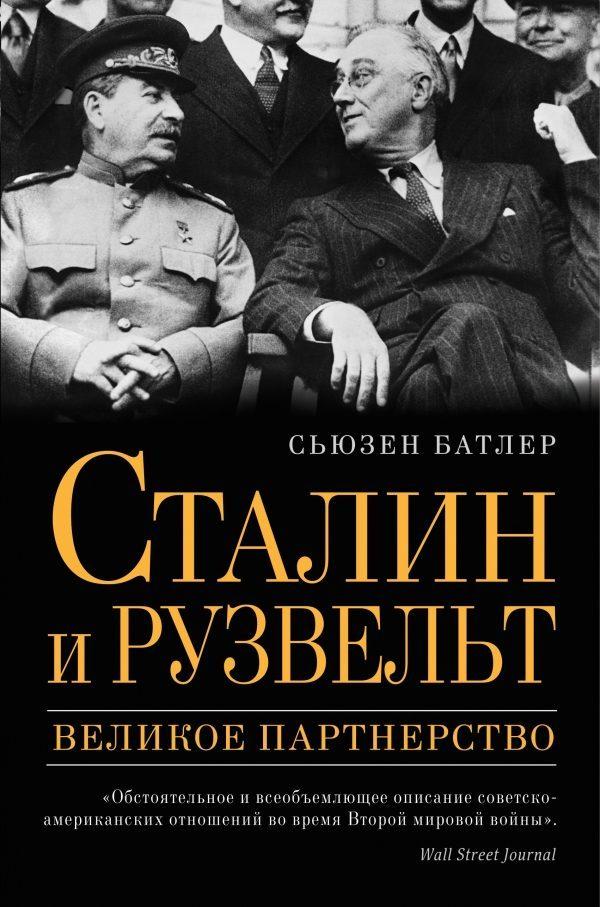
Сьюзен Батлер
Сталин и Рузвельт. Великое партнерство
Глобальная шахматная доска. Главные фигуры
Посвящается 405 000 американцев и 27 000 000 русских,
погибших во время Второй мировой войны
* * *
Глава 1
Через Атлантику во время войны
Утром 11 ноября 1943 года, в четверг, в двадцать пятую годовщину перемирия, положившего конец Первой мировой войне, президент Рузвельт в открытом кабриолете покинул Белый дом и промчался через столицу, со звездно‑полосатым флагом США и президентским флагом, развевавшимися на капоте автомобиля. Он ехал отдать дань памяти могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище. В городе была праздничная атмосфера: флаги украшали витрины, банки в этот день не работали. Как только президентский автомобиль появился на кладбище и проследовал к могиле Неизвестного солдата, прогремел салют: из современных противотанковых пушек был произведен двадцать один выстрел, который был слышен по всей долине Потомака.
В одиннадцать часов (точное время подписания перемирия) Рузвельт стоял с непокрытой головой между генералом Эдвином «Па» Уотсоном, своим старшим военным советником, и вице‑адмиралом Уилсоном Брауном, военно‑морским советником, напротив могилы Неизвестного солдата. День был промозглый и сырой, листва с деревьев почти вся облетела, дул холодный ветер. На президенте была темно‑синяя плащ‑накидка, которую он часто носил в коротких выездах из Белого дома. С одной стороны их группу замыкал армейский горнист, с другой – солдат с большим венком из желтых и красновато‑коричневых хризантем. Военный оркестр исполнил гимн «Усеянное звездами знамя», после чего по традиции наступила минута молчания. Затем адмирал Браун взял венок и от лица президента возложил его на могилу Неизвестного солдата. Четыре раза прозвучала приглушенная дробь барабанов, и горнист протрубил отбой.
После завершения короткой церемонии под звуки повторного салюта из двадцати одного пушечного выстрела, прогремевшие по всей долине, президентский автомобиль покинул кладбище.
В Палате представителей этот день отметили выступлениями в память о данном юбилее, причем большинство выступавших выразили мнение, что необходимо изыскать возможности сделать предстоящий мир более прочным, чем предыдущий. Что же касается Сената, то у него не было сессии.
Шел десятый год нахождения Рузвельта на посту президента США, страна почти два года была участницей Второй мировой войны. Когда стемнело и начался дождь, президент вновь выехал из Белого дома, но, в отличие от утренней поездки, он сделал это на сей раз без лишнего шума. Он направлялся на военно‑морскую базу Куантико (штат Виргиния), где его ждала ослепительно‑белая 50‑метровая президентская яхта «Потомак», которая представляла собой катер береговой охраны с надстроенной верхней палубой и каютой. Она должна была проделать первую часть общего пути длиной в 17 442 мили, пути через нашпигованные подводными лодками воды, пути длиной более чем полмира – в Тегеран (Иран). Там ему предстояло впервые встретиться с Иосифом Сталиным, высшим руководителем Советского Союза, отступником. Это будет знаменательным событием для них обоих и для всего мира.
Рузвельта сопровождали его ближайший советник Гарри Гопкинс, который курировал программу ленд‑лиза по предоставлению Советскому Союзу масштабной помощи, начальник его личного штаба адмирал Уильям Лихи, его личный врач вице‑адмирал доктор Росс Макинтайр, адмирал Браун, генерал Уотсон и его физиотерапевт капитан‑лейтенант Джордж Фокс. Президентский автомобиль появился на темном, казавшемся пустынным причале, где вдали от назойливых глаз его ожидал «Потомак». На борту президентской яхты все было в полной готовности.
Ровно через шесть минут после того, как президент и его окружение ступили на борт яхты, она двинулась вниз по реке Потомак, направляясь к порту Черри‑Пойнт (штат Виргиния) в Чесапикском заливе в шестидесяти трех милях от военно‑морской базы Куантико, где стала на ночь на якорь.
На следующее утро чуть позже 9 часов «Потомак» подошел к линкору «Айова», стоявшему на якоре в бухте на глубокой воде. Он остановился борт о борт, и при легком, прохладном утреннем ветерке Рузвельта поместили в своего рода люльку, которую выбрали с кормовой части верхней прогулочной палубы «Потомака» на главную палубу «Айовы» прямо напротив башни номер три. Когда остальное окружение президента также было пересажено на борт линкора, «Потомак» растаял вдали. Яхте было приказано в течение следующей недели крейсировать вне пределов видимости и подальше от всем известного родного причала, чтобы создать впечатление (в случае, если кто‑либо из журналистов заметит отсутствие президента), что тот совершал очередной частный круиз на борту так называемого «плавучего Белого дома» (такое название яхта получила с учетом того, сколько времени президент проводил на ней).
Рузвельт всегда любил море. Мальчишкой он проводил лето на острове Кампобелло в Канаде и тогда научился ходить на паруснике своего отца «Полумесяц», 14‑метровой одномачтовой яхте, пользуясь для этого каждым выпадавшим случаем и с легкостью управляя им. После того как он в тридцать девять лет заболел полиомиелитом и у него отнялись ноги, он приобрел катер, приспособленный для жилья, который держал в водах Флориды и на котором жил иногда по несколько месяцев.
Теперь он с нетерпением ждал плавания на «Айове», самом новом, самом крупном и самом быстроходном линкоре ВМС. Этот боевой корабль был специально оборудован для пребывания на нем Рузвельта[1]: был установлен лифт, для свободного перемещения его инвалидного кресла над комингсами[2] и другими препятствиями на палубе были надстроены пандусы. Как и во всех других местах, где жил Франклин Д. Рузвельт, ванна была оборудована металлическими поручнями, за которые он мог бы ухватиться, поднимаясь, унитаз был одной высоты с его инвалидным креслом, а зеркало располагалось достаточно низко, чтобы он мог бриться сидя. В каюте Рузвельта находилось также его любимое кресло с откидной спинкой, обитое кожей.
Спустя полчаса после того, как он ступил на борт, огромный корабль был уже в пути. В готовности приветствовать Рузвельта находилось все высшее руководство Вооруженных сил США: начальник штаба армии США генерал Джордж К. Маршалл, командующий военно‑воздушными силами армии США генерал ВВС Г. Х. Арнольд (по прозвищу Счастливчик), начальник снабжения армии генерал Брейон Б. Сомервелл, главнокомандующий военно‑морскими силами США адмирал Эрнест Дж. Кинг и начальник личного штаба президента адмирал Уильям Лихи, а также еще четыре генерала, три адмирала и около пятидесяти штабных офицеров более низкого ранга. Рузвельт отказался от воинских почестей при появлении на борту, и с учетом военного времени не был поднят его флаг. На борту линкора находились восемь сотрудников спецслужб, постоянно обеспечивавших охрану президента.
Так началось путешествие Рузвельта для встречи с Иосифом Сталиным, для встречи, которую он пытался организовать в течение двух лет и ради которой он приложил громадные усилия и преодолел огромные расстояния.
Они вместе с Черчиллем в прошлом январе в качестве места встречи выбрали Касабланку, поскольку полагали, что это окажется подходящим для Сталина вариантом и тот согласится встретиться там с ними.
– Мы пытаемся добиться от Сталина согласия на встречу, – признался Рузвельт Майку Рейли[3], руководителю секретной службы Белого дома, ставя того в известность о своей предстоящей поездке, и твердо добавил:
– Но я не собираюсь ехать на встречу с ним дальше Касабланки.
Однако перед лицом возражений Сталина на все сделанные ему предложения по месту встречи решимость президента угасла, и теперь он направлялся за тысячи километров дальше Касабланки.
Встреча в Тегеране была запланирована для реализации любимой идеи Рузвельта: создания международной организации, более эффективного варианта Лиги Наций, в которую вошли бы все страны. Он верил, что такая организация явилась бы действительно лучшим и единственным способом поддержания мира во всем мире. Она представляла бы собой своего рода дискуссионную площадку, где любая страна могла бы огласить свои жалобы и где всем странам была бы предоставлена возможность разговаривать друг с другом. В определенных обстоятельствах у ней были бы полномочия предпринимать практические действия. По замыслу Рузвельта, четыре великие державы (Соединенные Штаты, Советский Союз, Великобритания и Китай) в рамках этой организации могли бы выступать в качестве четырех международных полицейских. После победы в этой войне четыре сверхдержавы, обладая более широкими полномочиями, чем другие страны, обеспечивали бы порядок в международном масштабе.
Позиция Сталина имела для осуществления президентского плана решающее значение. Война непредсказуемо изменила все страны. После войны должны были остаться только две сверхдержавы: Америка и Россия. И Рузвельт вполне отдавал себе отчет в том, что без членства и поддержки Советского Союза не будет идти и речи о создании какой‑либо международной организации. Формирование этой структуры, Организации Объединенных Наций, как называл Рузвельт планируемую к созданию организацию, ознаменовало бы появление первого поистине мирового правительства.
Рузвельт ожидал в ходе своей первой встречи с советским руководителем услышать от того решительные возражения и был вполне готов справиться с этой задачей. Он предполагал произвести на Сталина впечатление своим интеллектом, твердостью своего характера и, прежде всего, масштабом своей власти. Он был намерен таким образом обеспечить самому параноидальному правителю в мире спокойствие и чувство безопасности. Он должен был устроить все так, чтобы его идеи о послевоенном обустройстве мира не вызвали отторжения у Сталина, поскольку России предстояло принять участие в этом процессе.
Франклин Д. Рузвельт прочитал о Сталине все, что только мог: тот был грузином, чуть более двух лет старше его, родился на юге России в обедневшей семье, где отец спился, а мать, понимая, что сын умен, убедила священника взять того на обучение в церковную школу. Став подпольщиком, он изменил фамилию Джугашвили на Сталин и попал в поле зрения Ленина, преемником которого и оказался. Он был, как и Франклин Д. Рузвельт, инвалидом: два пальца на левой ноге у него срослись, в результате чего у него была походка вразвалку, а левая рука у него была повреждена в результате того, что его сбил конный экипаж, когда он был еще ребенком.
Характеристики Сталина, которые получил Франклин Д. Рузвельт, были противоречивы. Он выспрашивал о нем у тех своих знакомых, которые встречались с советским руководителем. Одна из них, Анна‑Луиза Стронг, основатель «Московских новостей», англоязычной еженедельной газеты для американцев, вспоминала, что Франклин Д. Рузвельт чрезвычайно, с какой‑то одержимостью интересовался личностью Сталина. (В отличие от многих других она находила Сталина «самым простым в общении человеком, которого когда‑либо встречала»[4].) Франклин Д. Рузвельт знал о полном насилия жизненном пути Сталина, о его безжалостности, о том, что тот бросал в тюрьму или убивал любого, кто оказывался на его пути. В 1930 году он сравнил Сталина с Муссолини. Хорошо известно, что в 1940 году, выступая перед группой студентов, собравшихся в Белом доме, он заявил, что диктатура Сталина была «абсолютной, как и любая другая диктатура в мире»[5], и что тот был виновен в «массовых убийствах тысяч ни в чем не повинных людей». Он не питал никаких иллюзий относительно характера советского правителя и не вынашивал никаких идей о вмешательстве во внутренние дела Советского Союза. Сталин был необходим Рузвельту, и, как предполагал Рузвельт, он также (возможно даже, в еще большей степени) был необходим Сталину. Как сказал Рузвельт на борту «Айовы» своему личному врачу, вице‑адмиралу Россу Макинтайру, «я рассчитываю на его реализм. Ему, должно быть, уже надоело сидеть на штыках»[6].
В Египте он организовал своего рода прелюдию к предстоящей встрече: четырехдневные переговоры в Каире с Уинстоном Черчиллем, Чан Кайши и, как он надеялся, Вячеславом Молотовым, советским наркомом иностранных дел, вторым по влиянию человеком в Советском Союзе, а также с соответствующими представителями военных штабов. После этого они с Черчиллем и Молотовым должны были совершить короткий перелет в Иран, чтобы встретиться там со Сталиным. Каирская конференция предполагалась в качестве места, где четыре страны совместно приступили бы к выработке стратегических планов. «Начали свою работу», как представил это Рузвельт Сталину[7]. Эта конференция должна была подчеркнуть идею Рузвельта о том, что Китай признается в качестве четвертой великой державы, хоть он еще и не проявил себя в полной мере: в стране был самый разгар гражданской войны, одновременно ей приходилось отражать японское вторжение. Тем не менее, когда Сталин узнал, что китайский руководитель планирует прибыть в Каир, он отменил поездку туда Молотова, а также российского военного представителя, поскольку опасался, что если Япония узнает, что Молотов встречался с генералиссимусом Чан Кайши, она может блокировать порт Владивостока, имевший важное значение для обеспечения военных мероприятий Советского Союза, или же, еще хуже, развернуть Квантунскую армию на маньчжурской границе. К тому времени, когда Рузвельт узнал об отмене советской стороной своего участия в каирской конференции, он был уже в открытом море.
Хотя для Рузвельта это и явилось ударом, но не трагедией, поскольку каирская встреча была важна в основном с пропагандистской точки зрения. Рузвельт из всех президентов наиболее серьезно относился к информационной составляющей своей деятельности. Отсутствие русского представителя не должно было лишить Рузвельта возможности извлечь выгоду из позитивного для него общественного резонанса в результате его публичного принятия политической фигуры Чан Кайши в таком экзотическом месте.
Его преследовали воспоминания о Лиге Наций, идея о которой провалилась с таким треском. Президент Вильсон мечтал о ней и стремился воплотить свою мечту, но у него не было ни пропагандистских навыков, ни политической смекалки, необходимых для достижения этой цели. Рузвельт присутствовал на Парижской мирной конференции в качестве помощника морского министра при свертывании военно‑морского присутствия США во Франции в рамках Версальского мирного договора. Он был свидетелем того, как Вильсон был вынужден согласиться с реваншистскими условиями договора, на которых настаивали его союзники: это было их ценой за присоединение к Лиге Наций. Он убыл в США вместе с Вильсоном на борту линкора «Джордж Вашингтон». На обеде в кабинете Вильсона он слышал, как президент торжественно произнес:
– Соединенные Штаты должны начать энергично действовать – или же их бездействие разобьет сердце всему миру[8].
Рузвельт лично был убежден в исключительной важности Лиги Наций, но он знал о том, что Вильсону предстояло проинформировать Сенат США о последствиях членства в этой организации и о том, что ключевые сенаторы‑республиканцы, отстраненные Вильсоном от процесса мирных переговоров в Париже и чье мнение он в действительности не брал в расчет, ждали своего часа, чтобы отомстить ему.
Вильсон был подвергнут резкой критике в Сенате и вынес ожесточенные дискуссии по этому вопросу на национальный уровень, разъезжая с выступлениями по стране. Рузвельт был свидетелем того, как тщетно Вильсон боролся за свою идею, теряя здоровье.
Рузвельт унаследовал мечту о мировом правительстве. Он вместе с Госдепартаментом наметил предварительную схему всемирной организации к 1939 году – как раз тогда, когда Гитлер начал завоевывать Европу. Рузвельт сделает все возможное, чтобы добиться поставленной цели. Он твердо уяснил (на очевидном для себя примере поражения Вильсона), что президенту страны недостаточно иметь похвальные цели или объявить их всему миру, пусть даже тот с энтузиазмом внимает тебе. Как‑никак и «Четырнадцать пунктов» Вильсона взбудоражили всю планету. Однако необходимо было также добиться поддержки своих союзников и Сената США, и это следовало сделать до окончания войны.
Рузвельт держал портрет Вильсона у себя над камином в кабинете, которым он пользовался со своими спичрайтерами для работы над выступлениями. Как вспоминал Роберт Э. Шервуд, один из спичрайтеров Франклина Д. Рузвельта, его биограф и друг, тот имел обыкновение поглядывать на этот портрет, работая над очередным выступлением: «Он всегда подсознательно помнил о трагедии Вильсона. Рузвельт никогда не мог забыть о его ошибках»[9].
Рузвельт заранее определял основные группы, которые ему предстояло привлечь на свою сторону, затем добивался в каждой группе единого мнения о том, какие она получает практические преимущества, следуя за ним. И прежде, чем эта группа была готова выработать тот или иной политический курс, Рузвельт был уже во главе нее.
Он принял близко к сердцу совет, данный ему Э. Лоуренсом Лоуэллом, президентом Гарвардского университета, который преподавал ему государственное управление на первом курсе колледжа. Это случилось на ежегодном ужине Гарвардского клуба в Нью‑Йорке, организованном в январе 1933 года в честь Рузвельта, когда тот в качестве избранного президента собрал вместе членов своего кабинета министров и высокопоставленных сотрудников администрации. Лоуэлл, который был основным докладчиком, обратился непосредственно к Рузвельту и сказал, что самым важным принципом для главы исполнительной власти является то, что он всегда должен брать в свои руки и удерживать инициативу в отношениях с Конгрессом, своим кабинетом и в целом с общественностью. Лоуэлл заявил, что если Рузвельт будет всегда придерживаться этого принципа, то он преуспеет. По воспоминаниям гарвардского однокурсника Рузвельта, Луи Уила, который работал вместе с ним в газете «Кримсон», Рузвельт выслушал замечания Лоуэлла «с повышенным вниманием… а по их завершении погрузился в глубокую задумчивость»[10].
За два дня до отъезда в Тегеран Рузвельт председательствовал на пышной церемонии в Восточном зале Белого дома, в ходе которой он и представители сорока четырех стран, сидя за длинным столом, подписали соглашение о создании Администрации помощи и восстановления Объединенных наций (ЮНРРА). Он специально приурочил объявление о создании первой из структур Организации Объединенных Наций ко Дню перемирия, чтобы обеспечить максимальное воздействие данного события на мировую общественность. ЮНРРА, финансируемая за счет взносов в размере 1 процента национального дохода каждой страны, была призвана оказать содействие в обеспечении одеждой, питанием и крышей над головой людей, проживавших в пострадавших от войны центрах сосредоточения населения. Генеральный директор этой структуры, Герберт Леман, губернатор штата Нью‑Йорк, согласно статье, опубликованной в этот день в издании «Нью‑Йорк таймс», был избран четырьмя странами: Соединенными Штатами, Великобританией, Советским Союзом и Китаем. Русские поддержали создание ЮНРРА – благотворительной организации под международным контролем, с международным персоналом и международным управлением[11]. Это была их идея – таким способом поставить на ноги пострадавшие от войны страны. После того как Сталин узнал, что, согласно замыслу Рузвельта, этим четырем странам предстояло управлять послевоенным миром, он поддержал идею о том, чтобы они сформировали исполком ЮНРРА.
Упоминание четырех стран имело для Рузвельта исключительно важное значение. Он хотел ознакомить мир с этой концепцией, поскольку предполагал, что именно основные страны Организации Объединенных Наций, той организации, которой он дал жизнь 1 января 1942 года, должны стать «четырьмя полицейскими». В этот день, первый день нового года, всего спустя три недели после Перл‑Харбора, Рузвельт собрал в своем рабочем кабинете Уинстона Черчилля, который в то время гостил в Белом доме и представлял Великобританию, посла Советского Союза Литвинова и министра иностранных дел Китая Сун Цзывэня для подписания Декларации Объединенных Наций. За Соединенные Штаты он подписал документ сам. Этот первый документ Организации Объединенных Наций явился отправной точкой в великом плане Рузвельта. Он обязал каждую страну «защищать жизнь, свободу, независимость и религиозную свободу», заявлял, «что в настоящее время они участвуют в общей борьбе против диких и зверских сил, стремящихся покорить мир» и что «каждое правительство обязуется… не заключать сепаратного перемирия или мира с врагами». Остальные двадцать две страны, поставившие свою подпись в алфавитном порядке, присоединились к ним на следующий день.
Название организации пришло Рузвельту в голову той ночью, когда Черчилль гостил в Белом доме. Они с Черчиллем рассмотрели и отказались от различных вариантов. Они бились над этим до позднего вечера и, наконец, остановились на фразе о странах, объединенных в борьбе с агрессией. Затем Рузвельт пошел спать, держа в уме слово «объединенные», с ним он и уснул. Рано утром следующего дня он проснулся с решением: «Объединенные Нации».
Рузвельт так спешил сверить это название со своим гостем, что, не дожидаясь завтрака, вызвал помощника, чтобы тот довез его до двери в комнату Черчилля. Премьер‑министр ночевал на том же этаже, недалеко по коридору, в Розовой комнате. Рузвельт постучал. Черчилль пригласил его войти, но предупредил, что принимает ванну. Через несколько секунд премьер‑министр неожиданно вышел из ванной в гостиную, стены которой были украшены сценами в духе викторианской Англии, «совершенно голый»[12]. По выражению Рузвельта, он выглядел как «розовый херувим».
По воспоминаниям Рузвельта, он воскликнул:
– Уинстон, я нашел: «Объединенные Нации»![13]
– Хорошо! – ответил Черчилль.
* * *
В Каире Рузвельт планировал встретиться с генералиссимусом Чан Кайши, главой китайского националистического правительства, чтобы обсудить вопросы участия Китая в войне против Японии. Дела в Китае шли настолько плохо, что Рузвельт опасался, как бы китайцы не вышли из войны. «Несмотря на то что сообщают газеты, войска Чан Кайши совершенно не способны воевать», – признавался он своему сыну Эллиоту[14]. Он хотел подбодрить генералиссимуса и укрепить его дух. Однако не менее важно было также то, чтобы их встреча получила большой общественный резонанс. Это было необходимо для того, чтобы представить Китай в качестве четвертой великой державы в Объединенных Нациях – «четвертым полицейским». Интуиция и предчувствие подсказывали Рузвельту, что для того, чтобы Организация Объединенных Наций в полной мере олицетворяла весь мир, Азия также должна быть представлена в ней на равных правах. Он осознавал, что ни Черчилль, ни Сталин не понимали этого в отличие от него. Они согласились с присутствием Китая только по его настоянию.
Тем не менее президент, вероятно, не направился бы в Каир, если бы не перспектива встретиться в Тегеране со Сталиным. Чан Кайши можно было бы пригласить в Вашингтон. Мадам Чан уже гостила в Белом доме прошлой весной. Черчилль также неоднократно навещал его в Соединенных Штатах. Однако Рузвельт принял решение организовать встречу с Черчиллем и Чан Кайши в Каире после того, как госсекретарь Корделл Хэлл несколько недель назад телеграфировал ему из Москвы после встречи со Сталиным, сообщив, что маршал становится более сговорчивым, что встреча с ним на Ближнем Востоке вполне вероятна и что, самое главное, Сталин просил передать Рузвельту: «Сразу же после окончания войны в Европе… он [Советский Союз] начнет войну против Японии»[15]. Каир был хорошим местом, чтобы подготовить почву для поездки в Тегеран.
Во время войны всем встречам на высшем уровне присваивались кодовые имена. Кодовым именем для встречи в Тегеране стало – «Эврика». По мнению Рузвельта, это была весьма удачная находка, поскольку именно это, как утверждалось, торжествующе воскликнул Архимед, когда он выскочил из ванны, открыв основной закон природы об объеме вещества. Эта встреча также являлась триумфом для Рузвельта: он пытался организовать ее вот уже более года. Он вел переписку со Сталиным, архивируя его послания (к этому моменту они обменялись уже более чем ста письмами, касавшимися в основном американских и британских военных планов, хода поставок стрелково‑пушечного вооружения, продуктов питания, самолетов, танков, топлива, а также сырья для советских заводов, в последнее время – условий капитуляции Италии), в ходе которой предлагал, где и когда они могли бы встретиться. Сталин постоянно отвечал ему отказом, всегда на том основании, что в качестве Верховного Главнокомандующего вооруженными силами СССР и главы Государственного Комитета Обороны, а также руководителя Генерального штаба он должен быть в постоянном контакте со своим Генеральным штабом, готовым принять необходимые решения каждый день, каждую минуту. Поэтому он не мог покинуть страну.
Это было именно так, особенно в начале войны, когда Россия оказалась в смертельной опасности. Сталин ежедневно проводил совещания с маршалом Александром Василевским, начальником Генерального штаба Советской армии, и с генералом Георгием Жуковым, заместителем Верховного Главнокомандующего, храбрым и талантливым руководителем, который организовывал оборону Москвы и Ленинграда. Сталин вначале не отличался военным талантом, но он научился слушать своих генералов и перерабатывать огромное количество информации, чтобы как следует продумывать планы ведения боевых действий. Жуков в последующем напишет о Сталине, что, являясь «выдающимся организатором», тот «раскрыл способности как Верховного Главнокомандующего, начиная со Сталинградской битвы … овладел основными принципами организации фронтовых операций… и руководил ими со знанием дела, хорошо разбирался в больших стратегических вопросах»[16].
Однако теперь, к концу 1943 года, крайней необходимости в такой практике уже не было. Ленинград все еще находился в блокаде, но Красная армия уже вернула себе две трети территории, захваченной немцами. В феврале она одержала блистательную победу под Сталинградом после окружения девяноста двух тысяч плохо одетых, голодных германских солдат, представлявших собой последние остатки армии, наносившей удар. В июле она восстановила контроль над Курском, юго‑западнее Москвы. В этой грандиозной битве принимали участие два миллиона человек, шесть тысяч танков и четыре тысячи самолетов. После Курской битвы германская армия уже не проводила наступательных операций. К осени 1943 года русские стали называть завершавшийся год переломным[17].
Наиболее явным признаком этой перемены было то, что в сентябре Сталин, наконец, решил, что теперь он может выехать за пределы страны, возложив необходимую ответственность на своих генералов, и лично встретиться с Рузвельтом. Тем не менее он принял план Рузвельта относительно этой встречи только за день до того, как Рузвельт покинул Вашингтон. За последний год руководители двух стран обсудили различные варианты по возможному месту встречи. Рузвельт предложил несколько дат и мест, где они могли бы собраться вместе. В этом списке фигурировала Исландия, юг Алжира, Хартум, Берингов пролив, Фэрбенкс на Аляске, Каир и Басра. (Предложив Берингов пролив, президент в высшей степени проявил широту души, написав: «Я думаю, мы могли бы встретиться либо на Вашей, либо на моей стороне Берингова пролива»[18].)
Сталин отверг все эти предложения. В одном из редких ответных писем, собственноручно написанных им, которое Франклин Д. Рузвельт получил 8 августа, Сталин вначале нелюбезно предложил в качестве места встречи Архангельск (на крайнем севере России на берегу Белого моря) или Астрахань (на юге России), а затем продолжил: «Если Вас лично это не устраивает, то Вы могли бы направить в один из названных пунктов вполне ответственное доверенное лицо… Я уже г‑ну Дэвису говорил в свое время, что не имею возражений против присутствия г‑на Черчилля на этом совещании»[19]. Наконец, в сентябре Сталин написал, что он может выехать на встречу, но «момент встречи должен быть уточнен дополнительно, считаясь с обстановкой на советско‑германском фронте[20]», и предложил Тегеран в качестве места встречи. Рузвельт ответил, что участие во встрече в Тегеране было бы для него весьма затруднительным, ссылаясь на свои обязанности, закрепленные в конституции: «Я не могу допустить задержек, которые могут возникнуть при полетах в обоих направлениях через горы в ложбину, где расположен Тегеран. Поэтому с большим сожалением я должен сообщить Вам, что не смогу отправиться в Тегеран. Члены моего кабинета и руководители законодательных органов полностью согласны с этим»[21]. Именно тогда Рузвельт предложил Басру и Багдад в Ираке или Анкару в Турции, завершив свое послание следующей фразой: «Выручите меня в этом критическом положении».
Свой ответ Сталин дал только через две недели. Он сообщил Рузвельту, что единственным подходящим местом встречи считает Тегеран. «Для меня, как Главнокомандующего, исключена возможность направиться дальше Тегерана».
Рузвельт неохотно согласился и решил‑таки предпринять дальний перелет в Тегеран. Через три дня, 8 ноября, он написал Сталину, что готов встретиться с ним там.
Рузвельт всегда очень высоко ценил роль средств массовой информации и понимал, насколько важна эта встреча для формирования общественного мнения, поэтому не упустил возможности упомянуть этот аспект, стремясь сыграть на представлении Сталина о собственной значимости: «Весь мир ожидает этой встречи нас троих»[22].
Со свойственным ему кипучим оптимизмом Франклин Д. Рузвельт стал энергично готовиться к этой поездке. Если у него и были какие‑то сомнения в том, что Сталин и в самом деле приедет на эту встречу, то он держал их при себе. Сталин выбрал страну, расположенную далеко от американских берегов, но она находилась под контролем американцев, и такой выбор был далеко не случайным, как могло показаться на первый взгляд. Через Иран проходило огромное количество грузов по ленд‑лизу. Объем поставок был так велик, что американский генерал был назначен начальником штаба иранской армии, высокопоставленный американский полицейский был советником в иранской жандармерии, еще один американец был назначен главным советником по финансовым вопросам в правительстве Ирана. Кроме того, двумя лагерями на окраине Тегерана была расположена тридцатитысячная группировка американских войск из контингента командования в зоне Персидского залива.
Рузвельт любил путешествовать и на машине, и на поезде, но особенно на корабле. Несмотря на все заботы, сама перспектива отправиться куда‑либо по морю на современном военном корабле поднимала ему настроение.
Гарри Гопкинс был единственным гражданским советником в его окружении на борту линкора. Рузвельт настороженно относился к профессиональным дипломатам из Госдепартамента, многие из которых были республиканцами консервативного толка. Отдел Госдепартамента по Восточной Европе, отличавшийся своими резко выраженными антисоветскими настроениями, был расформирован, однако подавляющее большинство профессиональных дипломатов выступали против признания президентом США Советского Союза в 1933 году. Несмотря на значительные кадровые перестановки в Госдепартаменте, противостояние этого ведомства президенту страны и его политической линии было по‑прежнему весьма сильным. Исправить положение дел не помогло и направление Гопкинса непосредственно в европейские представительства США, где он должен был проконтролировать работу дипломатической службы. Гопкинс обнаружил, что во многих американских посольствах и дипломатических миссиях на стенах все еще висят портреты бывшего президента Гувера вместо Франклина Д. Рузвельта. (Джордж Кеннан, в то время молодой сотрудник дипломатической службы, который позднее стал известен как автор «политики сдерживания» времен «холодной войны», весьма типичным образом отреагировал на признание Рузвельтом Советского Союза в 1933 году: «Мы не должны иметь с ними каких‑либо отношений… Никогда, ни в то время, ни позднее, я не считал Советский Союз подходящим реальным или потенциальным союзником, или партнером для нашей страны»[23].) Рузвельт как‑то сказал председателю Совета управляющих Федеральной резервной системой США Марринеру Экклсу: «Чтобы понять, как трудно добиться, чтобы профессиональные дипломаты как‑либо изменили свое мышление, политику или действия, нужно в этом убедиться только на собственном опыте, пытаясь внести эти изменения в их мышление, политику и действия»[24]. И другие передовые личности тоже считали, что сотрудники дипломатической службы были сверх меры консервативны. «Общаться с кем‑либо при посредничестве представителей Государственного департамента – это все равно, что заниматься любовью через одеяло», – пошутил как‑то британский экономист Джон Мейнард Кейнс[25].
Не принесло желаемых результатов и обвинение, которое выдвинул против сотрудников Госдепартамента министр финансов Генри Моргентау[26]. Он заявил, что те умышленно «затягивают самым вопиющим образом решение всяческих вопросов»[27] для попустительства истреблению евреев, которое вел Гитлер.
Кроме всего прочего, Франклин Д. Рузвельт был сторонником личного ведения дипломатических дел. Он был высокого мнения о собственном даре убеждения и считал себя лучшим дипломатом Америки. Он знал, к какому результату стремился: ему было необходимо установить прочные связи с Россией. Он надеялся начать предварительные переговоры со Сталиным по вопросу о возможности создания мирового правительства в то время, пока они все еще были союзниками, для того чтобы достичь консенсуса по данному вопросу: «прийти по большинству позиций к общему соглашению по целям»[28]. Он был убежден, что это был первый шаг, который необходимо было сделать для создания мирового правительства. Он считал, что такое правительство сможет положить конец мировым войнам и что только мировой лидер (он лично) может справиться с задачей проведения таких переговоров.
Отсутствие на борту корабля персонала Госдепартамента являлось подтверждением тому, какое уникальное положение занимал Гопкинс в «ближнем кругу» президента. У пятидесятитрехлетнего Гопкинса было много привлекательных качеств: он был обаятелен, умен, обладал хорошей интуицией и высокой трудоспособностью и являлся бездонным кладезем новостей и сплетен. Некоторые называли его помощником президента. Его карьера было во многом построена на его бесспорной способности оценивать настроения и потребности Рузвельта. Если президент находился в подавленном настроении, Гопкинс собирал вокруг него компанию; если президенту требовалось развлечься, он чувствовал это; если президент хотел общения (а это случалось достаточно часто, поскольку он ненавидел одиночество), Гопкинс всегда оказывался рядом. Если возникала какая‑либо важная проблема, которой необходимо было заняться, Рузвельт поручал Гопкинсу найти необходимое решение.
Гопкинс, родившийся в штате Айова, по окончании Гриннелл‑колледжа избрал карьеру в социальной сфере. Он был превосходным управленцем. Рузвельт, находясь в 1929 году на должности губернатора штата Нью‑Йорк, создал первую программу оказания помощи в масштабах всего штата с целью облегчить положение миллионов безработных в период Великой депрессии. Гопкинс настолько успешно реализовал эту программу, что Рузвельт пригласил его в Вашингтон для содействия в формировании и внедрении новой программы помощи безработным. Когда началась война, Рузвельт назначил Гопкинса главой Совета по распределению вооружения, который занимался распределением всех поставок вооружения союзникам Соединенных Штатов и непосредственно Вооруженным силам США. Он также отвечал за направление больших объемов американской помощи Советскому Союзу.
Одевался Гопкинс ужасно. «Его одежда была поразительно неопрятной и выглядела так, будто он имел обыкновение в ней спать, а шляпа – будто он обычно на ней сидел», – подметил начальник личного штаба Уинстона Черчилля, генерал сэр Гастингс Исмей[29]. Газета «Нью‑Йоркер» сравнивала его с «ожившим жгутиком из крученой пшеничной соломки»[30]. У него были серьезные проблемы с пищеварением, из‑за чего он отличался заметной худобой. Он не мог похвастать крепким здоровьем. В 1937 году ему была сделана операция, и, несмотря на то что это значительно улучшило его состояние, у Гопкинса по‑прежнему случались приступы боли в желудке, из‑за чего он то и дело попадал в больницу.
10 мая 1940 года, в день, когда немецкая армия вторглась в Голландию и Бельгию, а Черчилль стал премьер‑министром, Рузвельт пригласил его на торжественный обед в Белом доме. Гопкинс проделал очень большую работу в ходе подготовки к этому визиту, вникая в ситуацию и вырабатывая меры, которые необходимо было предпринять, и ввиду позднего часа Рузвельт пригласил Гопкинса остаться заночевать в Белом доме. Гопкинс, одолжив пижаму, устроился на ночь в одной из многочисленных спален, и с тех пор так больше и не возвращался к себе домой. Ему выделили апартаменты Линкольна, где Авраам Линкольн когда‑то подписал манифест об освобождении рабов. Эти апартаменты, расположенные на втором, «семейном», этаже Белого дома, находились через две комнаты от апартаментов самого президента и состояли из большой, с высокими потолками, спальни с камином и с видом на Южную лужайку и памятник Вашингтону, небольшой гостиной и просторной ванной комнаты. Рабочим столом Гопкинсу служил карточный столик. В июле 1942 года, когда Гопкинс женился на Луизе Мэйси, бывшем редакторе парижского отделения издания «Харперс базар», церемония бракосочетания состоялась в кабинете Рузвельта, перед камином, специально убранным по такому случаю цветами. И Луиза Гопкинс поселилась в апартаментах Линкольна. Элеонора Рузвельт была сначала не уверена в том, что Луизе нужно переезжать сюда, но Рузвельт был непреклонен, убеждая ее, что «это совершенно необходимо для того, чтобы Гарри по‑прежнему оставался в доме»[31]. Никто и никогда не был так близок к Рузвельту, как Гопкинс. Тем не менее Рузвельт сохранял между ним и собой определенную дистанцию. Гопкинс называл его «господин Президент», а не «Франклин», как обращались к нему Элеонора и премьер‑министр Черчилль, или «Фрэнк», как называл его Феликс Франкфуртер, член Верховного суда[32].
Андрей Громыко, посол СССР в Соединенных Штатах в годы войны, вспоминал, что Рузвельт, «как правило, советовал мне… поговорить с Гарри Гопкинсом по тому или иному непростому вопросу. Возможно, он не сможет сразу ответить на любой вопрос, но сделает все, что будет в его силах, а впоследствии даст мне точный отчет»[33]. Многие называли Гопкинса «глазами и ушами Рузвельта», Громыко же отмечал, что он был также и его ногами.
Гопкинс занял место Корделла Хэлла. Это был всеми уважаемый высокий, седой человек родом из штата Теннесси, внушительный и исполненный достоинства. Хэлл по‑прежнему оставался важным связующим звеном между Рузвельтом и консервативными сенаторами‑демократами южных штатов, чьи голоса ему были нужны для принятия законодательных актов для реализации программы «Нового курса». В правительстве США он занимал уникальное положение, поскольку обладал большим влиянием в Конгрессе, что, по наблюдению президента, делало его «единственным членом кабинета, благодаря которому у меня появляется серьезное влияние среди политиков правого крыла, которым я сам не располагаю»[34].
– Помните, как Вильсон проиграл борьбу за Лигу Наций? – спросил президент однажды у своего министра труда, Фрэнсис Перкинс, первой женщины, которая вошла в кабинет министров. – И упустил для США возможность принять участие в наиболее важных из когда‑либо задуманных международных начинаниях. Он проиграл, потому что ему не удалось заставить Конгресс принять в этом участие[35].
В 1930 году Хэлл был избран в Сенат после длительной работы в Палате представителей, но отказался от своего места в Сенате, когда Рузвельт предложил ему пост госсекретаря. Президент рассчитывал, что Хэлл будет держать в узде своих коллег‑сенаторов из южных штатов. Рузвельт никогда не забывал, что Сенат проголосовал против членства в Лиге Наций. Хэлл должен был сделать так, чтобы Сенат не проголосовал против Организации Объединенных Наций.
На людях Рузвельт ублажал Хэлла, но в частном порядке игнорировал, что безумно раздражало последнего, однако он, тем не менее, сохранял лояльность президенту. Рузвельт не только самостоятельно принимал решения по внешней политике: порой Хэлл даже не знал, каков будет его следующий шаг. Пользующийся большим уважением высокопоставленный дипломат Лой Хендерсон говорил, что Рузвельт «сам составлял правила, по которым играл. Вследствие этого господин Хэлл просто не мог во многих случаях принимать решения»[36]. Некоторые полагали, что подобное отношение было вызвано личной предвзятостью Рузвельта к немного занудному и имевшему замашки судьи Хэллу (даже его жена всегда так и обращалась к нему – «судья»). Высказывалось предположение, что Рузвельт, которому легко было наскучить с его быстротой реакции и развитой интуицией, потому и держал Хэлла на расстоянии из‑за его медлительности и скованной манеры общения, и это, безусловно, отчасти было фактором, который мог сыграть свою роль. Кроме того, Хэлл говорил с некоторым пришепетыванием, что, как говорили осведомленные об этом люди, очень резало Рузвельту слух и раздражало его. После вступления Соединенных Штатов в войну Рузвельт возвел целую «китайскую стену» между внешней и военной политикой и не вел при Хэлле никаких разговоров по военным вопросам. Как ни ранило Хэлла такое отстранение от дел, он с этим свыкся, как и со многим другим. «Я узнавал не от президента, а из других источников, какие события происходили на конференциях в Касабланке, Каире и Тегеране», – не раз признавал он[37].
Война увеличила роль Рузвельта. После Перл‑Харбора он сам себя назначил главой военного, а также гражданского планирования, быстро освоившись в своей новой роли и звании главнокомандующего. Ему очень нравилось это звание, он был «в своей стихии»[38], как сказал об этом его старый друг Луи Уил. И Хэлл не мог этого не заметить.
– Пожалуйста, постарайтесь называть меня «главнокомандующий», а не «президент», – велел Рузвельт Хэллу, который как раз собирался провозгласить за него тост во время обеда, устроенного кабинетом министров по случаю годовщины вступления в войну[39].
Всегда преданный, Хэлл присутствовал на Московской конференции министров иностранных дел трех держав в октябре 1943 года. Это событие стало кульминацией его профессиональной карьеры дипломата. В ходе мероприятия он заложил основы для Тегеранской конференции, к которой Рузвельт уже вовсю готовился. В Москве министры иностранных дел договорились о необходимости создания всемирной организации для поддержки международного мира и безопасности.
На Московской конференции в ходе единственной встречи со Сталиным Хэлл и сопровождавшая его делегация добились блестящего результата. Наиболее многообещающим успехом было то, что Хэлл смог одержать верх над советской делегацией, вынудив ее согласиться с тем, что, как сказал Сталин Рузвельту, он даже не был намерен включать в повестку дня: с участием Китая. За несколько недель до конференции Сталин писал Рузвельту: «Если я Вас правильно понял, то на Московской конференции будут обсуждаться вопросы, касающиеся только трех наших государств, и, таким образом, можно считать согласованным, что вопрос о декларации четырех держав не включается в повестку совещания»[40]. Рузвельт просто проигнорировал это заявление. Вместо этого он написал Сталину об итальянских событиях, проблемах с французской стороной и предложил ряд мест, где могла бы состояться их встреча.
Хэлл решительно отстаивал позицию Рузвельта. Ему удалось не только вынести вопрос о Китае на обсуждение участниками конференции, но и обеспечить подписание китайским послом в Москве Фу Бинчаном совместной декларации четырех держав, Декларации по вопросу о всеобщей безопасности, вместе с Молотовым, Энтони Иденом, министром иностранных дел Великобритании, и Хэллом. Молотов, по‑видимому, следуя указаниям, которые он получил от Сталина, пытался изменить такой поворот событий. Он неохотно согласился с тем, что не будет возражать, если китайская сторона подпишет документ позже, продолжая при этом настаивать на идее подписания этой декларации тремя державами. Хэлл проявил неожиданное упрямство, заявив Молотову, что если советская сторона не согласится с участием Китая в подписании данного документа, то он, госсекретарь, упакует чемоданы и вернется в Вашингтон. Молотов после этого направил записку Сталину, и встреча была возобновлена. Чтобы дождаться решения вопроса, не голосуя по нему, госсекретарь взял слово и в определенном смысле «занимался обструкцией», всячески затягивая встречу, пока не был получен ответ от Сталина. Молотов открыл ответную записку, широко улыбнулся и заявил: «Советское правительство приветствует включение Китая в число четырех держав, которые подпишут декларацию»[41]. Переводчик делегации Великобритании Э. Г. Бирс, наблюдавший всю эту сцену, отметил, что по мере продолжения конференции складывалось впечатление, что Сталин все время незримо находится за сценой.
Декларация предусматривала единство действий против общего противника, единые условия его капитуляции и создание международной организации по поддержанию мира, «основанной на принципе суверенного равенства всех миролюбивых государств». Это был первый случай, когда Сталин уступил пожеланиям Рузвельта.
Вслед за этим последовала еще одна победа. Сенат принял резолюцию Коннели, которая предусматривала послевоенное международное сотрудничество и создание всеобщей международной организации. Этот законопроект, означавший, что Сенат дает «зеленый свет» Организации Объединенных Наций, существенно прибавил душевного спокойствия Франклину Д. Рузвельту. Президент был настолько доволен принятием этой резолюции, а также итогами Московской конференции, что лично прибыл в Вашингтонский Национальный аэропорт, чтобы приветствовать Хэлла, когда тот сошел с борта большого военно‑транспортного самолета, доставившего его домой. Это было большой и неожиданной честью. «Мы дадим Вам ключи от города», – процитировал журналист «Нью‑Йорк таймс», освещавший это событие, слова президента, обращенные Хэллу.
На время поездки в Тегеран место Корделла Хэлла занял Гарри Гопкинс. Рузвельт знал, что он мог рассчитывать на преданность Хэлла и что тот в отличие от Гарри Гопкинса физически не был готов к очередной длительной поездке в такие сжатые сроки.
Элеонора Рузвельт, заядлая путешественница, также хотела отправиться в Тегеран и умоляла президента взять ее с собой, однако Рузвельт отказался. Никаких женщин, категорически распорядился он. Их дочь, Анна Беттигер, которая присутствовала при этом разговоре, сообщала своему мужу Джону: «Ст. [старик] выбранил ее и обидел»[42]. Энн тоже попросилась поехать вместе с ним. У него для нее уже был готов ответ: на борту корабля запрещено присутствие женщин. Анна была разгневана, особенно с учетом того, что двое из ее братьев, Эллиот, армейский полковник, и Франклин‑младший, лейтенант ВМС, были приглашены в эту поездку. («Ст. совершенно подло обращается с женщинами в своей семье», – писала Анна мужу, который также должен был присоединиться к окружению президента в Каире.)
Итак, отправившись в поездку на встречу с Иосифом Сталиным, чтобы согласовать стратегию войны трех держав и наметить план для послевоенного устройства мира, Рузвельт взял с собой своих генералов, адмиралов, личных поваров, стюардов, свою обслугу и своего блестящего друга Гарри.
Кроме Гопкинса, в Тегеран должен был прибыть еще один гражданский советник Рузвельта по вопросам внешней политики, Гарриман, с которым Рузвельт был близок. Рузвельт направлял Гарримана в Лондон согласовывать с Черчиллем первый этап программы ленд‑лиза, а затем в октябре 1941 года – в Москву, определить совместно со Сталиным и Молотовым необходимые потребности советской стороны. Гарриман, который месяц назад был назначен послом в России и успел принять участие в Московской конференции, ожидал Рузвельта в Каире. Как описывало его издание «Нью‑Йоркер», энергичный, постоянно странствующий, аристократичный, обаятельный, даже на фоне остальных дипломатов, Гарриман был стройным, ростом под метр девяносто, темноволосым, с глубоко посаженными карими глазами и резко выраженными чертами лица[43]. Он не владел никакими иностранными языками. «У меня превосходный французский, – сказал как‑то Гарриман, – за исключением глаголов». Редко кто‑либо когда‑нибудь слышал от него более удачную шутку. Он был чрезвычайно богат, являлся партнером в финансовой организации «Браун Бразерс энд Гарриман» и председателем правления железной дороги «Юнион Пасифик». Он был хорошим спортсменом, в молодости был игроком в поло с восьмиголевым гандикапом, считаясь по рейтингу четвертым в стране.
Как и президент, он вначале окончил привилегированную школу в Гротоне, но затем выбрал Йельский университет, где стал членом легендарного тайного студенческого общества «Череп и кости». Его семья владела поместьем «Арден хаус» на западном берегу реке Гудзон, вверх по течению от поместья Рузвельта «Спрингвуд». Он принадлежал к Демократической партии, что было необычно для представителя его класса и бизнесмена такого уровня. Поскольку Рузвельт поднял налоги, создал программу «Социальное обеспечение» и установил минимальную заработную плату (все эти шаги были направлены на удовлетворение потребностей рабочего класса), а в последующем создал Комиссию по ценным бумагам и биржам для регулирования фондового рынка, подавляющее большинство состоятельных консервативных американцев презирали его, называя «предателем своего класса». Когда до приятелей Гарримана с Уолл‑стрит дошли новости, что тот пошел работать на Рузвельта, они были в ужасе. «Настроения неприязни к Рузвельту достаточно сильны. Когда я шел по Уолл‑стрит, те, кого я знал всю свою жизнь, переходили на другую сторону, чтобы им не пришлось пожимать мне руку», – вспоминал Гарриман.
Для Гарримана, которому, как и Рузвельту, не хватало терпения заниматься деталями и который питал неприязнь к официальным каналам, было чрезвычайно удобно действовать в обход бюрократических структур Государственного департамента и его номинального руководителя, Хэлла. Он принимал за норму то, что по указанию президента он докладывал непосредственно ему. Он был на год моложе Гопкинса, и они являлись большими друзьями. Гопкинс сделал своей жене предложение в номере «люкс» Гарримана в отеле «Мэйфлауэр» в Вашингтоне, когда они с Луизой собирались на ужин с Гарриманом и его женой Мэри. По выходным в доме Гарримана в Сэндс‑Пойнте на Лонг‑Айленде, когда предоставлялась такая возможность, двое мужчин с увлечением играли в крокет, в котором Гарриман одерживал верх. Гарриман ожидал президента в Каире.
Во время поездки президента были приняты чрезвычайные меры предосторожности. Девять эсминцев и один авианосец по очереди сопровождали линкор «Айова», который имел на вооружении 157 орудий, две катапультные установки и три самолета‑разведчика. Шесть эсминцев постоянно создавали противолодочные заслоны. Другие корабли, в том числе эскортный авианосец «Сенти», входили в состав оперативного соединения, которое находилось в двадцати пяти милях к северу. Постоянное наблюдение осуществляли также истребители, которые совершали полеты в зоне линкора. Линкор «Айова» в среднем делал двадцать три узла, находясь в готовности «три», что означало, что треть его экипажа постоянно была на вахте на боевых постах. Выйдя в море, «Айова» могла получать сообщения, но не могла их отправлять. Донесения в Вашингтон передавались с линкора через эсминцы, которые отходили на некоторое расстояние, прежде чем организовать радиосвязь с внешним миром. Сообщения были сведены к абсолютному минимуму, поскольку безопасность Рузвельта зависела от сохранения в тайне его местонахождения. Одно из сообщений, полученных «Айовой», касалось желания Черчилля перенести конференцию из Каира на Мальту. Поскольку не было никаких оснований для такого переноса, сотрудники службы безопасности расценили данное пожелание как «одну из причуд премьера». Такое же мнение было и у Рузвельта. Ознакомившись с сообщением, он немедленно ответил: «В моих планах относительно Каира нет никаких изменений. Повторяю, в моих планах относительно Каира нет никаких изменений».
Единственный серьезный инцидент (и он чуть не привел к гибели президента) произошел на второй день плавания, когда противолодочный эсминец «Уильям Д. Портер», находившийся с правого борта линкора и имитировавший для главнокомандующего применение бортового вооружения, по необъяснимым причинам неожиданно для всех произвел пуск торпеды прямо в направлении «Айовы». Согласно записям самого Рузвельта об этом инциденте, «эсминец из конвоя производил учебные пуски торпед, используя “Айову” в качестве цели. Вопреки правилам заряд был оставлен в торпедной трубе. Выпущенная торпеда, к счастью, не попала в цель. Адмирал Кинг, конечно, был сильно расстроен, и я боюсь, что он примет достаточно жесткие дисциплинарные меры. Вспомогательная артиллерия нашего корабля вела огонь, чтобы увести торпеду с курса. Наконец, мы увидели, как она взорвалась в миле или двух позади корабля»[44].
Очевидец этого инцидента, молодой помощник штурмана Джон Дрисколл, также оставил о нем запись. Как он вспоминал, на фоне аметистового моря, при теплой погоде, «в то время, как президент сидел на прогулочной палубе у левого борта, в темно‑бордовой рубашке‑поло, серых фланелевых брюках, белой рыбацкой шляпе и солнцезащитных очках, а адмирал Кинг, Маршалл, Лихи и другие находились на мостике, наблюдая за демонстрационными стрельбами по воздушным шарам, с «Уильяма Д. Портера» просигналили: «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». Я услышал приказ капитана в боевую рубку: «Право на борт!» – и мы начали поворачивать, сильно раскачиваясь. В нашем направлении, не более 5 узлов от нас, тянулся бурун «рыбы»[45]. Я посмотрел вниз на прогулочную палубу подо мной, где сидел президент. Пока корабль продолжал поворачивать на правый борт, торпеда, казалось, отклонилась, словно нацелившись ударить нас слева по корме. Я снова взглянул на президента, Гопкинса и Приттимена [Артур Приттимен, камердинер президента]. Гопкинс наклонился далеко за бортовой леер, следя за курсом торпеды у нашей кормы. Приттимен катил по корме инвалидную коляску президента [ «Отвези меня на правый борт!» – воскликнул Рузвельт[46]], также наблюдая за кормой корабля. Правой рукой он схватил леер со своей стороны, его голова была высоко поднята, на лице была решимость, любопытство и бесстрашие. Это была весьма впечатляющая картина, и я смог прийти в себя, только услышав, как торпеда взорвалась, и почувствовав сотрясение слева по корме. Раздался сигнал боевой тревоги, и я поспешил на боевой пост в штурманскую рубку, задаваясь вопросом, попала ли торпеда в корабль… На капитанский мостик доложили, что корабль не получил повреждения слева по корме и что торпеда взорвалась в кильватерном следе, возникшем после нашего поворота, очевидно, сдетонировав в результате огня, который вели батареи с левой кормы»[47].
Согласно документам ВМС, торпеда двигалась со скоростью 46 узлов. Максимальная скорость «Айовы» была 33,5 узла. По словам моряков, командир корабля капитан 1‑го ранга Джон Л. Мак‑Кри «едва не перевернул “Айову”, стремясь уйти от торпеды».
Отменив приказ адмирала Кинга, Рузвельт велел, чтобы виновные в случившемся моряки не понесли наказания. Но это решение было продиктовано исключительно прагматизмом. Масштабы данного инцидента были таковы, что, как опасался Рузвельт, если бы капитану эсминца стало известно, что на борту линкора находились адмирал Кинг, генерал Маршалл и вся верхушка военного командования США, да еще и президент, он мог бы «броситься на морское дно, чтобы не нести ответственности за ужасные последствия, которых удалось избежать».
Большинство дней, проведенных на море, были тихими. Температура, как правило, была около двадцати двух градусов, что позволяло президенту находиться на палубе и дышать свежим воздухом, что он любил делать. «Все идет хорошо, и до сих пор поездка очень комфортная. Погода приятная и достаточно теплая, чтобы сидеть только в свитере поверх старой пары брюк и рыбацкой рубашки», – писал он Элеоноре[48]. По вечерам после ужина в каюте президента, как правило, показывали фильмы.
«Это станет очередной одиссеей, и гораздо более дальней на земле и на море, чем у стойкого храбреца, чье имя я использовал в Гротоне, когда боролся за школьные призы», – писал Рузвельт в своем дневнике, который он начал вести во время поездки[49].
В течение нескольких дней Объединенный комитет начальников штабов ВС США провел ряд совещаний по стратегическим вопросам, а также ряд встреч с президентом. На заседании, состоявшемся в каюте президента 19 ноября, когда генерал Маршалл задал вопрос относительно послевоенной Германии, Рузвельт ответил:
– Безусловно, будет гонка за Берлин… Но Берлин должны взять Соединенные Штаты[50].
Рузвельт нарисовал на карте из журнала «Нэшнл Географик» американскую зону, которую он хотел иметь (северо‑западная часть Германии) и которая граничила бы на востоке в Берлине с российской зоной.
В Объединенном комитете начальников штабов ВС США ожидали возникновения проблем с Черчиллем. Американское командование хотело быть уверенным в том, что Рузвельт не примет аргументов Черчилля относительно отсрочки операции «Оверлорд» (кодовое название операции по высадке войск союзников на побережье Франции), особенно сейчас, когда он направлялся на встречу со Сталиным, которому он обещал открыть «второй фронт» (как называли его русские) уже более года. Ранее Рузвельт уступил тактике проволочек Черчилля относительно начала операции, и теперь все проявляли обеспокоенность, от Гопкинса до Маршалла и Лихи, что это может повториться. Военный министр Генри Л. Стимсон, который был на пятнадцать лет старше Франклина Д. Рузвельта и которого президент уважал как патриотичного республиканца с широкими взглядами, пригласил Гопкинса на обед в своем кабинете в Пентагоне накануне отъезда того в Тегеран. Очевидной целью встречи было обсуждение того, как они могли бы укрепить решимость президента. «Прежде всего, мы обсудили вопрос об операции “Оверлорд”, которая, с чем мы оба согласились, была в настоящее время самой важной проблемой для всего мира и стала для нас обоих предметом беспокойства в связи с весьма сомнительной позицией премьер‑министра Великобритании. Моя цель заключалась в том, чтобы подбодрить Гарри и поделиться с ним своими идеями о том, каким образом ему бы следовало по мере возможности удерживать президента в нужном русле… У меня нет сомнений в том, что англичане выступают за операцию, однако их премьер‑министр упирается», – написал Стимсон в своем дневнике[51].
Тактика проволочек Черчилля приняла форму требования, чтобы войска продолжали усилия по захвату островов Додеканес в Средиземном море и организации отвлекающих ударов в Италии. Осознавая, что с британскими коллегами могут возникнуть разногласия по вопросу единого командования всеми операциями в зоне Европы, Лихи, Маршалл и Кинг приняли решение о том, что их стратегия будет заключаться в требовании немедленного назначения общего командующего, американца, который имел бы полномочия отвергнуть какую‑либо операцию еще до этапа ее планирования. Результатом их совещаний на борту корабля явилось единогласное решение о том, что «это командование должно быть возложено на одного командующего и он должен осуществлять руководство командующими силами союзников в зоне Средиземного моря, на северо‑западе Европы, а также стратегическими военно‑воздушными силами»[52].
Когда линкор «Айова» был еще в море, в радиорубке приняли сообщение о том, что немцы стали применять на входе в Гибралтарский пролив свои новые планирующие торпеды. Эти торпеды, которые после пуска направлялись на цель путем магнитного воздействия, вызвали панику среди кораблей союзников, действовавших в узком проливе. Линкору «Айова» предстояло проходить через пролив, чтобы достичь пункта назначения, порта Оран на средиземноморском побережье Алжира. Линкор получил указание быть готовым изменить курс на Дакар, Сенегал. Через час после этого указания стало известно о существенной концентрации немецких подводных лодок в районе Дакара, с учетом чего было решено придерживаться первоначального плана и направляться в Оран. Адмирал Кент Хьюитт, командующий соединением военно‑морских сил США в зоне Северо‑Западной Африки, получил приказ сосредоточить авиацию, подводные лодки и «все, что возможно», для того чтобы очистить пролив и обеспечить свободу передвижения по нему. И он сделал это. Американский самолет обнаружил и потопил одну немецкую подводную лодку, других в этом районе не оказалось. Соблюдая меры маскировки, «Айова» прошла ночью через пролив. Испанские власти на Гибралтаре внесли завершающий вклад в нагнетание напряженности в ситуацию, выхватив контур линкора лучами прожекторов, когда корабль прошел в Средиземное море.
После восьмидневного плавания «Айова» в ясное субботнее утро стала на военно‑морской рейд вблизи Орана. Два сына Рузвельта, Эллиот и Франклин‑младший, уже ожидали его. Они видели, как его посадили в моторный вельбот «Айовы». Высадившись через несколько минут на берег, Рузвельт тепло поздоровался с ними, приветствовав их сияющей улыбкой на выдубленном морем лице. Затем отец и сыновья сразу же направились вместе с генералом Эйзенхауэром, командующим операцией «Факел» (операция по высадке союзных войск в Северной Африке на территории Марокко и Алжира), который ожидал их в своей машине, в ближайший аэропорт, где они сели в президентский самолет, четырехмоторный «Дуглас» «С‑54». Им предстояло вначале приземлиться для дозаправки в Тунисе, чтобы затем совершить длительный перелет в Каир. После проведения там необходимых совещаний Франклин Д. Рузвельт вылетит в Тегеран, чтобы встретиться с трудноуловимым премьером Сталиным.
Глава 2
На пути к Тегерану
За доставку президента и его сопровождающих отвечал майор ВВС Отис Брайан. Военный самолет, который он пилотировал, летел вдоль 650‑мильной береговой линии Северной Африки в направлении на Тунис. Его сопровождала группа истребителей. На аэродроме их ожидал сын Гопкинса, сержант Роберт Гопкинс, фотограф войск связи.
Планировалось, что Рузвельт останется переночевать на гостевой вилле генерала Эйзенхауэра, которая была расположена в непосредственной близости от руин Карфагена на берегу Тунисского залива. До того как стать резиденцией Эйзенхауэра, эта вилла принадлежала фельдмаршалу Эрвину Роммелю, но в начале 1943 года его армия была разбита Восьмой армией генерала Бернарда Монтгомери. Утром Рузвельт должен был вылететь в Каир, но вылет был перенесен на поздний вечер следующих суток. Официально было объявлено, что этот перенос был связан с тем, что ночью лететь было безопаснее, поскольку немцы все еще удерживали остров Крит. Но Рузвельт и в самом деле не торопился с отъездом в Каир и не спешил увидеться с Черчиллем, поскольку, оставаясь в Тунисе, он мог воспользоваться возможностью поближе узнать генерала Эйзенхауэра. Президент уже сообщил всем, что высадкой войск в Европе будет командовать генерал Маршалл. Но пока Рузвельт еще не принял на этот счет окончательного решения и использовал день до отъезда в Каир для того, чтобы вместе с Эйзенхауэром объехать места сражений. Их автомобиль вел привлекательный молодой водитель генерала Кей Саммерсби, который был водителем «Скорой помощи» во время немецких налетов на Лондон. Он был приписан к британскому Механизированному транспортному корпусу и в 1942 году был назначен личным водителем Эйзенхауэра. По пути Рузвельт заметил небольшую рощу, в которой они решили остановиться и устроить небольшой привал. Они сидели и разговаривали втроем. Конечно же, они были не одни: на некотором расстоянии от их машины кольцом встали три грузовика и восемь мотоциклов военной полиции. Кроме того, их охраняли сотрудники службы безопасности. Пока они втроем сидели в центре этого кольца охраны, отдыхали и поглощали сэндвичи с курицей, Рузвельт, как вспоминал Саммерсби, рассказывал им всякие истории, отвечал на вопросы и сам расспрашивал: он устроил генералу проверку[53].
Тем же вечером, в 22:40, в сопровождении генералов, адмиралов, сотрудников службы безопасности, Гопкинса, Лихи, Макинтайра, а также личного камердинера Рузвельта Артура Приттимена президент поднялся на борт «Дугласа» «C‑54» и направился в Каир, до которого было 1851 миля пути. На борту военного самолета ему соорудили спальное место: на два сиденья, с которых сняли спинки, положили резиновый матрас и все это отгородили зеленым занавесом, чтобы президент мог поспать.
Когда они приближались к египетской береговой линии, начался ясный, красивый рассвет. Рузвельт попросил Брайана отклониться от маршрута к югу и велел Рейли разбудить его на рассвете, чтобы, как станет достаточно светло, он смог увидеть, как течет Нил по направлению к Каиру, а также посмотреть на самые южные пирамиды и на Сфинкса. Рейли разбудил его в 7 утра. По мере того как перед ними разворачивался захватывающий вид реки и исторических памятников, майор Брайан сделал несколько кругов, чтобы Рузвельт мог как следует насладиться этой величественной панорамой. Рузвельт сказал, поглядев на пирамиды: «Человеческое желание оставить в памяти след – колоссально»[54].
Рузвельта, похоже, не беспокоило, что из‑за его склонности к экскурсиям самолет более чем на два часа отстал от графика, а две группы истребителей «Р‑39», которые должны были встретить его на подлете и сопровождать его самолет до посадки, так и не нашли его. Но Рузвельт был не слишком озабочен возможной физической опасностью.
Говорили, единственное, чего он боялся, так это огня. Ему пришлось не раз столкнуться с этой опасностью. В детстве, года в три, он гостил у деда Делано в Ньюберге, штат Нью‑Йорк, в доме «Альгонак», который был расположен вниз по течению Гудзона от Гайд‑парка. Младшая сестра его матери, Лаура, завивала волосы слишком близко от масляной лампы. Она вдруг выбежала на крыльцо и бросилась на лужайку, ее одежда была объята пламенем. Родные увидели это и попытались ей помочь, но ее уже нельзя было спасти. В возрасте семнадцати лет Рузвельт помогал смотрителю фермы в Спрингвуде разбирать часть пола в гостиной и заливать водой загоревшиеся балки подвала. Той же зимой в Гротоне он был в пожарной бригаде, которая пытались спасти лошадей на конюшне. Животных там было много, и Рузвельт вспоминал это «ужасное зрелище… бедные лошади… лежали под обломками, шкура на них полностью сгорела»[55]. Когда он учился в Гарварде, там сгорели два верхних этажа Тринити‑Холла. Когда он был редактором газеты «Кримсон», он боролся за то, чтобы в здании общежития были установлены пожарные лестницы. В 1915 году, когда была восстановлена ферма в Спрингвуде, он добивался, чтобы стены были сделаны огнестойкими. В президентской резиденции «Шангри‑Ла» (штат Мэриленд) в его домике рядом с дверью спальни был сделан люк, ведущий прямо наружу. Он был закреплен на шарнирах и откидывался наружу, образуя пандус, по которому президента можно было выкатить на инвалидной коляске или же он мог сам выбраться наружу.
* * *
Рузвельт был страстным путешественником, ему всегда было любопытно лично взглянуть на те места, о которых он так много знал, будучи хорошо подкован в географии. Интерес к ней пробудился, а затем постоянно укреплялся благодаря коллекционированию марок, которыми Рузвельт увлекался с десяти лет. Теперь в его коллекции насчитывалось уже более миллиона марок, хранившихся в 150 одинаковых кляссерах. Всякий раз, когда у него появлялась такая возможность, Рузвельт продолжал работать над своей коллекцией. Куда бы он ни ехал, среди его вещей обязательно было несколько кляссеров, которые неизменно оказывались самой тяжелой частью багажа. До этого, в январе 1943 года, совершая перелет из Батерста (Канада) в Касабланку, Рузвельт велел сделать крюк, чтобы он мог посмотреть на Дакар, морской порт на западной оконечности Африки. Этот порт глубоко выдавался в воды Атлантического океана и обеспечивал контроль за морскими путями как Северной, так и Южной Атлантики. Он имел первостепенную важность для осуществления задач союзников, вот почему они любой ценой стремились захватить этот порт в ходе операции «Факел».
В Каире Рузвельта разместили на вилле, расположенной на самом берегу канала неподалеку от подножия Великой пирамиды Хеопса и Сфинкса. Вилла принадлежала Александру Кирку, послу США в Египте. Вилла Черчилля находилась на полмили дальше. Каир был наводнен шпионами стран гитлеровской коалиции, в городе постоянно вспыхивали беспорядки. Было крайне необходимо соблюдать повышенные меры безопасности. По приказу Рейли обе резиденции были обнесены колючей проволокой и находились под круглосуточной охраной надежных подразделений. Проводникам экскурсий и их верблюдам доступ в район пирамид был закрыт, а слуг на обеих виллах заменили на американский и британский обслуживающий персонал.
В Каире Рузвельта с нетерпением ожидали Уинстон Черчилль и впервые встречавшийся с президентом США Чан Кайши с супругой. Все трое готовились к переговорам с Рузвельтом и его основными советниками: генералом Маршаллом, адмиралом Кингом, генералом Арнольдом, адмиралом Лихи и, конечно же, с Гопкинсом. Для них эти переговоры имели первостепенное значение, но теперь Рузвельт, узнав, что Молотова там не будет, не проявлял к ним такого же интереса.
Каирская конференция была запланирована в силу различных причин. Во‑первых, требовалось привлечь внимание международной общественности к важной роли Китая в военных действиях, во‑вторых, дать возможность Черчиллю и британским военным посовещаться с Рузвельтом и высокопоставленными американскими военными, а также дать Молотову представление о том, что будет происходить в Тегеране. Однако была и еще одна причина: несомненно, эта конференция являлась оправданием на случай, если бы Сталин не приехал на встречу в Тегеране, поскольку Каирская конференция сама по себе была достаточным поводом для того, чтобы президент совершил это длительное плавание через океан. Как написал впоследствии Роберт Шервуд, при отсутствии представителей советской стороны на конференции в Каире «влияние встреч, организованных в ее рамках, на ход войны и истории было незначительным, не считая объявления свободы и независимости Кореи»[56].
Черчилль был доволен, что Молотов не приедет на конференцию в Каир. Британский премьер‑министр полагал, что до встречи с русскими начальники объединенных штабов США и Великобритании должны выработать совместную тактику и стратегию. Таким образом, он предполагал, что за четыре дня переговоров в Каире между военными представителями двух государств будет проведено «множество встреч», в частности, с учетом того факта, что начальники объединенных штабов не проводили совместных совещаний уже более трех месяцев. Черчилль хотел, по сути дела, возвести стену, по одну сторону которой были бы он сам и президент Рузвельт, а по другую – Сталин. Но Рузвельту это было как раз совершенно не нужно. За несколько дней до встречи он вежливо уведомил премьер‑министра, что собирается максимально ограничить дискуссии по вопросам стратегии, потому что «будет непростительно, если Д. Дж. [Рузвельт и Черчилль иногда между собой называли Сталина «Дядюшка Джо»] решит, что мы задумали вести против него военные действия»[57]. Рузвельт тщательно и последовательно ограничивал связи с Черчиллем, не позволяя им стать дружескими и сохраняя на уровне партнерских. Премьер‑министр всячески этому противился, равно как и министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден.
По мнению Рузвельта, Великобритания была таким же союзником, как и две другие державы, Китай и Россия, а он был руководителем этих союзников. В связи с этим Рузвельт не допустил, чтобы работа Каирской конференции открылась двусторонним англо‑американским заседанием. Сделал он это очень просто: пригласил на конференцию Чан Кайши. Он также распорядился, чтобы Маршалл, Лихи и Кинг провели встречу с Чан Кайши, не приглашая на нее британских представителей и организовав ее до начала встречи с ними. Энтони Иден позже с большим раздражением описывал эту ситуацию военному кабинету министров Великобритании: «Было крайне печально, с нашей точки зрения, что конференция в Каире была открыта обсуждением войны с Японией в связи с присутствием Чан Кайши»[58].
Рузвельт проводил с Чан Кайши долгие встречи. (Великобритания все еще имела экстерриториальные права в Шанхае, Кантоне и Гонконге, и Чан Кайши хотел, чтобы британские военные корабли по окончании войны покинули китайские порты; Рузвельт обещал ему, что «так и будет»[59].) Позже Черчилль жаловался, что обсуждение китайского вопроса, «продолжительное, непростое и малозначительное … вышло в Каире на первый план вместо последнего»[60]. Рузвельт вел себя столь уклончиво, что члены делегации США на переговорах давали комментарии, которые заставили британцев поверить, как вспоминал начальник личного штаба Черчилля лорд Исмей, что китайцы приехали раньше назначенного срока, хоть это было совсем не так. «Американские начальники штабов совершенно не огорчены преждевременным прибытием китайской делегации, казалось, они несомненно рады, что у них появилась компания»[61], – отметил Исмей.
* * *
Ни для кого из американского командования не являлось секретом, что Черчилль не поддерживал операцию «Оверлорд», которая предполагала высадку войск во Франции. Все также хорошо знали, что Рузвельт ориентировался почти исключительно на рекомендации Маршалла, а основным принципом плана войны Маршалла в Европе была организация операции «Оверлорд». Рузвельт еще в апреле 1939 года выбрал в качестве своего основного советника Маршалла, поскольку тот был умен, демонстрировал, как и сам Рузвельт, независимость в суждениях и еще со времен Первой мировой войны имел обыкновение открыто высказывать свое мнение по тому или иному вопросу. Не консультируясь с кем‑либо, даже с Гарри Вудрингом, который в то время занимал пост военного министра, Рузвельт решил повысить Маршалла в должности и назначить его начальником штаба армии, хотя на тот момент на военной службе находились четыре генерала выше того по званию.
По воскресеньям и в вечернее время Рузвельт любил встречаться с посетителями в Овальном кабинете на втором этаже Белого дома. Он достаточно часто пользовался этим кабинетом, который был весьма удобен для него, поскольку его спальня находилась рядом. Кабинет был красив и отличался неформальной обстановкой: на некоторых столах были навалены книги, на других были расставлены модели известных парусников. Кроме стола, там были также расставлены удобные кресла и большой кожаный диван, на котором Рузвельт сидел, принимая компанию. Перед диваном лежал ковер из тигровой шкуры. Стены были украшены гравюрами и картинами с изображением знаменитых парусников девятнадцатого и начала двадцатого веков, и это была лишь небольшая часть коллекции Рузвельта, которая включала в себя более тысячи двухсот гравюр и картин на морскую тему. Это был кабинет того, кто любит море. За столом находилась связка свернутых в рулон карт, устроенных таким образом, чтобы Рузвельт мог достать их. Присутствовали также две женщины, которые сопровождали его по жизни: на противоположных стенах друг на друга смотрели портреты его жены и матери.
В одно из воскресений апреля 1939 года Рузвельт вызвал в свой кабинет Маршалла, чтобы сообщить тому о его назначении на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов. Маршалл, являвшийся довольно жестким человеком, как говорится, «служакой», ответил, что он «хотел бы иметь право говорить то, что думает, и это часто может оказаться неприятным»[62].
– Это вас устроит? – поинтересовался он.
– Вполне, – ответил Рузвельт.
С точки зрения Рузвельта, Маршалл являлся идеальным кандидатом на эту должность: у него была репутация независимого, неутомимого, деятельного и знающего человека. Его мнение редко подвергалось сомнению, поскольку все признавали, что он всегда был прав. О его назначении было объявлено 1 сентября 1939 года, в день нападения Германии на Польшу.
Маршалл был уверен, что для победы над Гитлером необходимо сформировать группировку войск союзников в Англии, переправить ее через Ла‑Манш, вторгнуться во Францию и организовать наступление на Берлин. По его мнению, это был кратчайший путь, способный привести к наименьшему количеству жертв. Военный министр Генри Стимсон был с этим согласен. Рузвельт полностью поддержал этот план, получивший кодовое название «Оверлорд», который находился на этапе планирования в течение двух лет. Сталина уверили в том, что он будет осуществлен в 1942 или 1943 году.
Черчилль же, напротив, как говорится, в лучшем случае был равнодушен к идее организации операции по высадке десанта на другом побережье Ла‑Манша. Он желал вести наступление через Балканы. Кроме того, по утверждению врача Черчилля, который являлся его доверенным лицом, премьер‑министра Великобритании преследовали воспоминания о битве на Сомме в период Первой мировой войны, в ходе которой погибло так много британских солдат.
Когда, наконец, начальники штабов провели в Каире совещание без президента и премьер‑министра, предметом их переговоров была почти исключительно война в Азии. Генерал Исмей пожаловался на то, что «не было времени достичь соглашения относительно четкой позиции, которой следовало придерживаться с русскими по вопросу об открытии “второго фронта” в Европе»[63]. Это было планом Рузвельта. Окружение президента научилось этой тактике у своего босса. Он всегда прибегал к ней, когда хотел пресечь дебаты так, чтобы это не бросалось в глаза, и достичь договоренности при наличии разногласий. Он просто упреждал разговор на какую‑либо тему либо предлагал новую тему для беседы. Он мог на совещании или встрече тянуть время, болтать о разных вещах, рассказывать различные истории – с тем чтобы решение принималось в последние минуты. Затем, из‑за отсутствия времени, решение, которого он добивался, даже если оно было непопулярным или неожиданным, уже не могло быть оспорено.
Черчилль пытался скрыть от Гопкинса отсутствие у себя энтузиазма относительно плана высадки морского десанта после форсирования Ла‑Манша, но он не был в этом достаточно искусен.
– Уинстон сказал, что он на все сто процентов за «Оверлорд». Но крайне важно вначале захватить Рим, а затем мы обязаны отвоевать и Родос, – с насмешкой отметил Гопкинс за два дня до того, как они должны были прибыть в Тегеран[64].
Гопкинс, вероятно, не был бы удивлен, узнав, что британский план, согласно генерал‑майору сэру Джону Кеннеди, помощнику начальника Имперского генерального штаба Великобритании, заключался в следующем: «Продолжить наступление в Италии для увеличения масштабов помощи партизанам на Балканах, спровоцировать хаос, чтобы содействовать отрыву балканских стран от Германии и вступлению в войну Турции, и обеспечить отсрочку операции «Оверлорд»[65]. (Кеннеди в последующем напишет: «Я думаю, можно было не сомневаться, что будь у нас такая возможность, высадки войск во Франции в 1944 году не было бы».)
Черчилль постоянно и настойчиво выступал против операции «Оверлорд» и по другой причине: он не доверял Сталину. Как он объяснил Гарриману в начале года, «неослабевающее давление Сталина, добивавшегося открытия “второго фронта” в 1943 году, связано с его планами относительно Балкан. Разве существует более удобный способ удержать западных союзников от развертывания войск на Балканах, чем вынудить их увязнуть в длительных и кровопролитных сражениях в Западной Европе?»
До сих пор его усилия по переносу сроков операции «Оверлорд» были достаточно эффективными. Его упорное стремление выработать и согласовать противоречивые военные планы на самом деле являлось тактическим ходом, попыткой развязать военные действия, в которых были бы задействованы союзные войска и необходимые десантные корабли (строго говоря, где угодно), чтобы эти силы и средства уже не могли принять участия в десантной операции на Ла‑Манше.
Рузвельт, уже привыкший к спорам с Черчиллем, покинул Каир в хорошем настроении. Тем не менее он был настороже, и это явствовало из той записки, которую он направил своему секретарю Грейс Талли на следующий день после Дня благодарения: «Конференция проходит довольно хорошо, моя роль заключается в миротворчестве. Я видел пирамиды и стал близким другом Сфинкса. Конгрессу следовало бы с ним познакомиться»[66].
Все это являлось подготовкой к Тегерану.
Президент не знал, где он будет жить в Тегеране и как долго он там останется: и то и другое зависело от Сталина. Стремясь проявить максимум гостеприимства, с тем, чтобы у Сталина не появилось мотивов уклониться от встречи, он переступал границы осторожности. Утром 22 ноября, в понедельник, прибыв в Каир, Рузвельт направил Сталину сообщение о том, что он мог бы прибыть в Тегеран 29 ноября и готов «остановиться на срок от двух до четырех дней, в зависимости от того, на какой срок Вы сможете оторваться от исполнения Ваших неотложных обязанностей»[67]. Затем он обратился к Сталину с просьбой дать знать, «какой день Вы хотите установить для встречи» и отметил, что советская и британская дипломатические миссии в Тегеране были расположены близко друг от друга, «в то время как моя миссия находится от них на некотором расстоянии», что означало, что они «подвергались бы ненужному риску», отправляясь на заседания и возвращаясь с них. В конце своего послания Рузвельт задал, казалось бы, случайный, но острый вопрос, зондируя возможность быть приглашенным в российское посольство в качестве гостя Сталина. «Где, по Вашему мнению, мы должны жить?» – спросил он.
Это была очаровательно дерзкая стратегия: продемонстрировать свою веру в Сталина, изъявив готовность предоставить себя в его распоряжение в надежде как можно быстрее завоевать его доверие. Он мог бы, конечно, остановиться в британском посольстве, если бы это определялось лишь соображениями безопасности. Черчилль уже обратился к нему с соответствующей просьбой и был бы крайне рад, если бы Рузвельт согласился. Но поскольку Франклин Д. Рузвельт намеревался предстать перед Сталиным как исключительный и достойный доверия руководитель, а Америку представить в качестве основной движущей силы в мире, он хотел быть уверенным в том, что он воспринимается как полностью самостоятельная личность, – и поэтому отказался. Он не хотел, чтобы премьер‑министр Великобритании, бывший министр по делам колоний самой большой колониальной империи в мире, повис бременем у него на шее. Вот почему Рузвельт начал «дистанцироваться» в Каире от англичан, уведомив их тем самым о том, что он желает иметь свободу действий в Тегеране. Такое поведение доставило Черчиллю немалую душевную боль.
* * *
Команда президента прибыла в аэропорт «Каир‑Западный», дождалась, пока не рассеялся последний туман, и в семь утра с минутами взлетела. Майор Брайан на этот раз преодолел, направляясь на восток, к Тегерану, тысячу триста миль. Он пролетел над Суэцким каналом и сделал, снизившись, два круга над Иерусалимом, чтобы Рузвельт мог увидеть достопримечательности. Они миновали Вифлеем, Иерихон, реку Иордан, Мертвое море, пролетели над пустыней, которой была Палестина, и, продолжая путь на восток, снизились, оказавшись над реками Тигр и Евфрат. Затем Брайан повернул на северо‑восток, покружил над Багдадом и направился к Ирану. Находясь в воздушном пространстве Ирана, они видели товарные составы с американскими поездными бригадами, которые доставляли по Трансиранской железной дороге грузы по программе ленд‑лиза, а также американские и британские конвои, также перевозившие американские грузы по автомагистрали Абадан – Тегеран в рамках ленд‑лиза. Их путь начинался в Басре в зоне Персидского залива и завершался в Тегеране. Через Иран в Россию ежемесячно перевозилось более ста тысяч тонн грузов.
Тегеран, столица Ирана, расположен в южных предгорьях горного массива Эльбурс, который тянется параллельно Каспийскому морю и имеет высоту почти шесть тысяч метров.
В январе, когда они собирались попасть на конференцию в Касабланке, перелетев через Атласские горы, Росс Макинтайр хотел, чтобы Рузвельт, который страдал от хронического синусита, надел кислородную маску. Опасаясь, что президент откажет ему в этой просьбе, Макинтайр прибег к хитрости: он заручился поддержкой адмирала МакКри, попросив того надеть кислородную маску, после чего надел ее и сам. Он объяснил: «Если я предложу ему это, он наверняка откажется. Но если он увидит, что мы надели маски, он, возможно, последует нашему примеру»[68]. Хитрость удалась: Рузвельт надел свою кислородную маску, «и мы преодолели горы».
Теперь, когда они приблизились к Тегерану и увидели горы, окружавшие город, Макинтайр был готов вновь воспользоваться кислородной маской, но идеальная видимость позволила Брайану остаться на высоте одной тысячи восьмисот метров и успешно провести свой самолет через извилистые горные перевалы.
Самолет приземлился на военном аэродроме Гейле‑Морге, находившемся в советской военной зоне в восьми километрах к югу от города, в субботу, 27 ноября 1943 года, в три часа дня. Выйдя из самолета, президентская команда увидела, что поле было «усеяно» множеством самолетов американского производства, недавно прибывших по ленд‑лизу, на фюзеляже каждого из них красовалась огромная, блестящая красная звезда.
Американская миссия была полностью готова к приему и размещению Франклина Д. Рузвельта и его команды. Американских дипломатов, в том числе посланника США в Иране Луиса Г. Дрейфуса, держали в неведении относительно предстоящей конференции до самого последнего момента. Дрейфус, вернувшись из поездки, обнаружил, что военнослужащие устанавливают в посольском комплексе новую телефонную систему, а на лужайке миссии – армейские палатки. Затем ему сообщили, что прибывает президент, который остановится в миссии, и что ему, посланнику, необходимо выехать.
Когда самолет с Рузвельтом на борту приземлился, аэродром Гейле‑Морге был окружен иранскими подразделениями. В интересах безопасности генерал‑майор Д. Х. Конноли, командующий группировкой войск в зоне Персидского залива, в одиночестве стоял на бетоне взлетно‑посадочной полосы, чтобы приветствовать самолет президента и сопроводить президента и его команду в автомобиль для поездки в американское посольство.
Рузвельт проделал длинный и полный опасностей путь в Тегеран, чтобы познакомиться со Сталиным, и, чтобы его план реализовался, было необходимо дистанцироваться от Черчилля и поддерживать то исключительно положительное впечатление, которое сложилось о нем у русских. С самого начала своего пребывания в должности Рузвельт как президент, выработавший и проводящий «Новый курс», заслужил одобрение газеты «Правда» и Сталина. Рузвельт проигнорировал повсеместные антикоммунистические настроения в США и добился признания Соединенными Штатами Советского Союза в том же году, когда он вступил в должность. Сталин ждал четырнадцать лет, пока это произойдет. Теперь Рузвельт был намерен ясно и детально продемонстрировать Сталину, что Соединенные Штаты проводят свой собственный политический курс и что он действует в своих собственных интересах. Он инстинктивно понимал, что для этого были крайне важные детали. Учитывая параноидальный, подозрительный характер той личности, с которой Рузвельт имел дело, в ретроспективе его решение преодолеть такие расстояния, чтобы с самого начала выстраивать отношения на правильной основе, представляется совершенно продуманным и мудрым.
Рузвельт направил Сталину телеграмму с вопросом о том, где ему следует остановиться (по существу, напрашиваясь на приглашение), всего за пять дней до своего планировавшегося прибытия. Эта телеграмма была направлена из Штабной комнаты Белого дома 22 ноября в 14:55. Посольство США доставило телеграмму в Кремль (как было зафиксировано) 24 ноября (конкретное время получения не было проставлено). Затем она была переведена и доставлена Сталину. Таким образом, с момента ее отправления прошло два дня. К этому времени Сталин был уже в пути, направляясь на поезде в Тегеран, а поездка на поезде всегда сопровождалась серьезными проблемами с обеспечением связи.
В то же время Андрей Вышинский, первый заместитель наркома иностранных дел, позвонил президенту и, возможно, после некоторых намеков предложил ему остановиться в российском посольстве в Тегеране. Вышинский, человек небольшого роста с блестящими черными глазами, в роговых очках, с редеющими рыжеватыми волосами и усиками, вел печально известные показательные Московские процессы 1936–1938 годов и был известен как «подобострастно льстивый» с высшим начальством. В документах Государственного департамента и в президентских записях отсутствуют какие‑либо пометки относительно реакции на его предложение в период пребывания Рузвельта в Каире, но было очевидно, что это приглашение не было одобрено Сталиным и не являлось официальным.
Тем не менее на следующий день, 24 ноября, Рейли побывал в посольстве СССР, а также в британском и американском посольствах, чтобы проверить вопросы, касавшиеся обеспечения безопасности и соответствия другим требованиям. Советское и британское посольства не только располагались в центре Тегерана, но и примыкали друг к другу лужайками через улицу. Таким образом, с учетом возможности убрать забор, который тянулся вдоль улицы, оба этих посольства могли быть объединены. Американское посольство, находившееся в полутора километрах, был оценено Рейли как «адекватное». Он заявил, что поездки к другим посольствам не представляли никаких проблем с точки зрения безопасности, хотя позднее упомянул расстояние, которое пришлось бы преодолевать, в качестве основной причины, почему Рузвельт остановился в комплексе советского посольства. (Уличное движение в Тегеране было действительно ужасным. Улицы были запружены людьми, автомобилями и дрожками, что чрезвычайно замедляло его.)
– Мы не давали никаких обязательств относительно места пребывания президента, – заявил Рейли. – Он может остановиться и в посольстве США, и в посольстве Великобритании, и в посольстве Советского Союза, если будет сделано приглашение[69].
Британское посольство было бы, очевидно, наименее комфортным из перечисленных трех, судя по описанию лорда Исмея этого здания как «ветхого дома, построенного Департаментом общественных работ Индии»[70].
Генерал‑майор Патрик Херли, бывший военный министр США, который имел представительный вид и являлся мастером разговорного жанра (Рузвельт назначил его посланником в Новой Зеландии), был в Тегеране в качестве личного представителя Рузвельта. Утром 26 ноября, в пятницу, он телеграфировал президенту, что советский поверенный в делах Михаил Максимов обратился с официальным приглашением: «Российское Правительство приглашает Вас на время пребывания в стране стать гостем в его посольстве»[71]. Однако, поскольку это приглашение все еще не было официально санкционировано Сталиным, оно было отклонено.
После осмотра комплекса советского посольства Херли выяснил, что конференц‑зал и жилые помещения, предполагаемые к возможному размещению в них Рузвельта, находились в главном здании посольского комплекса, который включал также несколько меньших по размеру строений. Главное здание было большим, красивым, квадратной формы, из светло‑коричневого камня, его лицевая сторона была украшена широким портиком с белыми дорическими колоннами. Оно располагалось в центре большого парка с озером, фонтанами, цветниками и сетью пешеходных дорожек. Херли признал его идеальным местом для пребывания Рузвельта, которое только можно было отыскать в Тегеране. У него имелось дополнительное преимущество: во всем городе только в этом здании имелось паровое отопление. Все остальные постройки обогревались портативными масляными обогревателями. Это было важным фактором, потому что, хотя дни стояли теплыми, по ночам прилично холодало. Из здания открывался приятный вид: окна выходили на кедры, ивы и пруды среди садов, окружавших посольство. Помещения, предназначенные для президента, включали просторную спальню, гостиную рядом с конференц‑залом, который должен был стать основным местом для встреч, большую столовую, кухню (в которой вполне могли справиться со своими обязанностями вестовые‑филиппинцы, готовившие для президента блюда в резиденции «Шангри‑Ла», расположенной в парковом комплексе гор Катоктин в штате Мэриленд, где президент бывал на отдыхе в годы войны), а также несколько меньших по размеру спален.
В действительности у русских возникли достаточно серьезные проблемы с размещением и обустройством Рузвельта. Всему советскому персоналу, который работал в посольстве и проживал в жилом комплексе на его территории, было приказано к исходу 17 ноября вместе с вещами переехать в город. Опасаясь, что ширины обычных дверных проемов может оказаться недостаточно для инвалидной коляски Рузвельта, русские провели соответствующий ремонт всех дверных проемов, которыми Рузвельт мог воспользоваться. Херли убедился также в том, что значительные изменения претерпела и ванная комната. Прежняя ванна, туалет и умывальники были демонтированы, а новая сантехника находилась в готовности к установке. Если бы Рузвельт заранее знал о тех работах, которые были организованы, о тех скрупулезных приготовлениях, которые были начаты в первый день ноября и в полном объеме развернуты к середине месяца, то он бы беспокоился гораздо меньше.
Херли сообщил: «С точки зрения Вашего удобства и комфорта, с точки зрения обеспечения связи в конференц‑зале и безопасности эти помещения гораздо более предпочтительны, чем в Вашей собственной дипломатической миссии». Он предоставил советской стороне список мебели, которая могла потребоваться Рузвельту. Тем не менее, даже несмотря на то что русские, как он сообщил президенту, «по‑прежнему сердечно просят Вас принять их приглашение», он дал знать советской стороне, что Рузвельт планировал остановиться в дипломатической миссии США. Помещения еще не были готовы. И от Сталина пока еще не было ни слова.
* * *
Рузвельт и его команда сразу же направились в посольство США, где их уже ждали посланник Дрейфус и Херли. Во второй половине дня адмирал Браун и Дрейфус прибыли в советское посольство, где их встретил временный поверенный в делах СССР Максимов, который сообщил, что у него самого нет никакой информации от маршала. С учетом того что все советские представители были практически парализованы отсутствием исходных данных со стороны Сталина, Браун и Дрейфус были вынуждены отступить, сообщив, что Рузвельт остановится в своем посольстве. Когда же Рузвельта проинформировали, что Сталин, наконец, прибыл, президент взял инициативу в свои руки. По‑видимому, уверенный, что Сталин вовсе не предполагает обидеть своим молчанием в ответ на высказанное им пожелание остановиться в советском посольстве, Рузвельт продолжил свои усилия и через Гарримана пригласил маршала на ужин. Тот отказался, объяснив это тем, что у него был «напряженный» день и что будет лучше придерживаться первоначального плана и встретиться завтра.
Цитируя Джона Мейнарда Кейнса, у Рузвельта был дар интуитивного решения, и он его проявлял.
* * *
У Сталина действительно была трудная поездка. Если бы он не был заинтересован в форме послевоенного устройства мира и в месте России в нем (а он намеревался выработать эти принципы совместно с Рузвельтом), он бы не подверг себя этому испытанию: он ненавидел путешествовать.
Когда он был молодым революционером, ему приходилось бывать в Стокгольме, Лондоне и Берлине на партийных съездах, но последний раз он совершил заграничную поездку в 1913 году, присоединившись к Ленину в Вене. Фронт он посетил только один раз, хотя и намекал Рузвельту и Черчиллю, что бывал там неоднократно. Сталин редко выезжал дальше своей дачи в Кунцево, находившейся на удалении около девяти километров от Кремля. В качестве исключения он иногда бывал в своей резиденции в Сочи, замечательном туристическом месте на побережье Черного моря в предгорье Кавказских гор с их покрытыми снегом вершинами. У Сталина был там дом для зимнего отпуска, поскольку это место было известно своими серными ваннами. Он был ипохондриком, а кроме того, на различных этапах своей жизни болел псориазом, тонзиллитом, нефритом, плевритом, астмой. Еще со времен сибирской ссылки он страдал также от ревматизма. Именно с учетом всех этих болезней он так много времени проводил в Сочи: он был уверен, что Черное море и сочинский климат оказывали на него укрепляющее действие. (Вполне возможно, что одна из причин, по которой он настаивал на встрече в Тегеране, заключалась в его желании отдохнуть от занесенной снегом Москвы.)
Сталин покинул Москву вечером 22 ноября в специальном поезде, замаскированном под вполне обычный товарный состав. Чтобы обеспечить необходимое впечатление, длинные «салон‑вагоны», в которых ехали сопровождавшие его лица, чередовались товарными вагонами с песком и гравием. В зеленом бронированном пуленепробиваемом вагоне Сталина, который, предположительно, весил девяносто тонн, была спальня/рабочий кабинет, отделанный красным деревом, с кроватью, письменным столом, стулом и зеркалом, ванная комната с туалетом, три двухместные спальни, конференц‑зал и кухня с электрической плитой.
Из советников он решил взять с собой на конференцию лишь двух человек, что резко контрастировало со значительным количеством лиц, сопровождавших Рузвельта и Черчилля.
Первым из них был Вячеслав Молотов, второй по иерархии человек в Советском Союзе, с которым Сталин мог обсуждать вопросы стратегии и политики. Молотов являлся его ближайшим советником. Сталин обычно совещался с ним в Кремле по несколько часов каждый день. Он был единственным, к кому Сталин обращался фамильярно на «ты». При рождении его звали Вячеславом Михайловичем Скрябиным, однако в соответствии с распространенной в то время среди революционеров практикой он изменил фамилию на «Молотов». Его называли «молотом Сталина».
Когда началась революция, Молотов учился в Санкт‑Петербурге. В стране начались беспорядки, и он стал революционером‑бомбистом. Он арестовывался «охранкой», тайной полицией царя, почти столько же раз, сколько и Сталин.
Молотов являлся заместителем председателя Государственного Комитета Обороны и народным комиссаром иностранных дел. Сталин полагался на него так же, как Рузвельт полагался на Гопкинса. Молотов, однако, в отличие от Гопкинса, не имел полномочий говорить что‑либо от имени своего шефа. Рузвельт уважал Гопкинса и полагался на его суждения, в то время как Сталин, не колеблясь, мог заявить об ошибочности мнения Молотова.
– Я всегда согласен с маршалом Сталиным, – быстро сказал Молотов Эрику Джонстону, главе Торговой палаты США, после того, как Сталин в присутствии Джонстона заявил, что высказывание Молотова неверно и что журналисты могут посещать фронт[72].
– Господин Молотов всегда согласен со мной, – сказал Сталин с легкой усмешкой.
Как отметил сэр Стаффорд Криппс, посол Великобритании в СССР в 1941 году, Молотов даже не рисковал высказать мнение по тому или иному вопросу, если он не обсудил это заранее со Сталиным: «У нас, как всегда, состоялся весьма неинформационный разговор, поскольку М [олотов] не брал на себя каких‑либо обязательств без необходимых консультаций, и даже не решался выразить какое‑либо мнение… На самом деле не имеет смысла встречаться с ним, пока кое‑кто заранее не проинформирует его, в каком направлении ему следует двигаться»[73].
Молотов и Сталин встретились в 1912 году в Санкт‑Петербурге во время подготовки первых изданий большевистской газеты «Правда». Сталин был ее первым главным редактором. Молотов, которому было только двадцать два года, был поражен этой встречей. «Он просто изумляет. У него внутренняя красота революционера, он большевик до мозга костей, он умен и очень хитер как конспиратор», – сказал он одному своему другу. Он всегда испытывал перед Сталиным благоговейный трепет.
Кабинет Молотова в Кремле был рядом с кабинетом Сталина, трехкомнатная квартира Молотова в Кремле также располагалась рядом с апартаментами Сталина. Молотов был коренастым человеком с темно‑каштановыми волосами и карими глазами. У него было квадратное лицо с усами, он носил круглое пенсне без оправы. Он всегда был одет в аккуратный темный костюм и белую рубашку с темным галстуком. Как и Сталин, Молотов был невысокого роста. Он редко улыбался. Он был трудоголик и получил известность самого прилежного члена Политбюро. Джордж Кеннан писал, что Молотов был воплощением живой машины. Черчилль считал, что Молотов подобен Макиавелли, потому что «жил и преуспевал в обществе, где процветали всевозможные интриги, которым сопутствовала постоянная угроза физической ликвидации… Он более, чем кто‑либо другой, подходил на роль исполнителя и орудия политики непредсказуемой государственной машины»[74]. По всеобщему мнению, он был человеком сдержанным и трудолюбивым. Молотов говорил глухим, монотонным голосом, слегка заикаясь, причем это заикание становилось более заметным, когда его слушал Сталин. Владимир Павлов, переводчик Сталина, к услугам которого вождь чаще всего прибегал, сам предпочитал работать не со Сталиным, а с Молотовым: «С ним было легче работать… Сталин ценил людей, которые сразу понимали, какие вопросы обсуждаются, но которые одновременно были бы скромны и не пытались этим знанием кичиться»[75]. Но более важно, по мнению Павлова, было то, что Молотов не только с видимым наслаждением устраивал разносы своим соратникам, но никогда не пытался защитить человека, против которого НКВД выдвигало какие‑либо обвинения. Наоборот, он всегда сразу соглашался с арестом этого человека. Тем не менее на похоронах Сталина Молотов плакал – единственный из всех, кто нес гроб с телом вождя. Коммунизм был его религией, как и религией Сталина. Молотов возглавлял проведение коллективизации на селе и ликвидации класса кулаков, хозяев своих земельных наделов, которым было предложено вступать в колхозы и передавать в их распоряжение (за небольшое вознаграждение) свою собственность. В знак протеста многие предпочитали сжечь всю свою продукцию. («Кулаки – самые зверские, самые грубые, самые дикие эксплуататоры, не раз восстанавливавшие в истории других стран власть помещиков, царей, попов, капиталистов», – писал Ленин[76].) Молотов осуществлял и обосновывал уничтожение кулаков и других несогласных с коллективизацией российских и украинских крестьян, которых коммунистическая доктрина причисляла к классу капиталистов, подлежащему ликвидации во благо общества. После высылки множества крестьян их заменили партийные работники, совершенно не разбиравшиеся в методах ведения сельского хозяйства, что привело к еще более стремительному падению урожайности, стало не хватать даже посевного материала для сельскохозяйственных культур. В результате этого эксперимента в области социальной инженерии многие миллионы россиян и украинцев умерли от голода. Даже Сталина это потрясло. «Создание колхозов проходило в страшной борьбе… Десять миллионов… Это было что‑то ужасное и продолжалось четыре года. Все четыре года руководил этим Молотов. Для того чтобы избавиться от периодических голодовок, России было абсолютно необходимо пахать землю тракторами», – таково знаменитое объяснение Сталина Черчиллю[77]. После коллективизации, в конце концов, сельское хозяйство стало более продуктивной и стабильной отраслью по сравнению с тем, каким оно было при традиционном способе ведения частных хозяйств, но плата за это была огромной.
Лишь в одном Молотов был уязвим, а его поведение нетипично – у него была стройная, следящая за модой жена, к тому же еврейка. Полина Жемчужина, которая до войны была хлебосольной хозяйкой, курировала советский трест, занимавшийся производством и распространением косметики и туалетных принадлежностей. Ее задача состояла в том, чтобы научить русских женщин носить макияж. «Мой муж работает над их душами, а я – над их лицами», – как‑то сказала она. (Незадолго до смерти Сталина Полина была арестована и брошена в тюрьму вместе с другими евреями, которых он подозревал в сионизме. Положение Молотова при этом не изменилось.)
Вторым советником Сталина на конференции был маршал Климент Ефремович Ворошилов, светловолосый, голубоглазый, добродушный и чванливый бывший кавалерист, который носил элегантные усы. Герой гражданской войны и [заместитель. – Прим. пер.] председателя Совета Народных Комиссаров, он с давних пор был в хороших отношениях со Сталиным. Еще в 1906 году в Стокгольме они снимали одну комнату на двоих. Однако Ворошилов был скорее другом, чем советником. «Молодец, но не боец», – так Сталин говорил о нем[78]. Его преданность вождю не подлежала сомнению, и Сталин чувствовал себя с ним комфортно; это был один из немногих оставшихся первоначальных членов Политбюро, из узкого круга из восьми членов и пяти заместителей, которые правили Россией. Однако прежнего уважения к Ворошилову больше уже не испытывали. Ворошилов был наркомом обороны, когда в 1939 году Советский Союз вторгся в Финляндию. В этой кампании финны проявили себя так блестяще, а Красная армия действовала настолько неэффективно, что Ворошилов был смещен со своей должности. После вторжения Гитлера Сталин назначил его главнокомандующим Северо‑Западным фронтом, ответственным за оборону Ленинграда. Но и с этой задачей он тоже не справился. В какой‑то момент, полагая, что надежда удержать город была ничтожна, он был готов сдать его, уверенный в неизбежности поражения.
Сталин назначил вместо него Георгия Жукова, который сразу предпринял необходимые героические меры. Жуков, блестящий генерал, приказал снять орудия с российских военных кораблей в Балтийском море и передислоцировал их для защиты города. Голодающих жителей Ленинграда он воодушевил, сплотил на оборону города, мобилизовав имеющиеся ресурсы, и в конечном счете спас Ленинград. В январе 1944 года после того, как блокада Ленинграда была снята, Сталин издал приказ, согласно которому «товарищ Ворошилов направлялся на организацию оборонной работы в тылу»[79]. В том же 1944 году, но позже, его исключили из состава Государственного Комитета Обороны.
Свою спасительную роль в судьбе Ворошилова, вероятно, сыграл его отличный голос. Под конец вечера, когда Сталин бывал уже навеселе, он любил расслабиться и спеть с Ворошиловым и Молотовым, который не только обладал хорошим голосом, но и играл на скрипке и на пианино. В течение многих лет они устраивали такие совместные посиделки, которые длились зачастую до самого утра. Молотов был очень важен для Сталина, так же, как Гопкинс для Рузвельта, а Ворошилов был преданным придворным шутом.
Вместе с ними в поезде также ехал Лаврентий Берия, глава НКВД. Он не собирался принимать участие в работе конференции, а нес ответственность за личную безопасность Сталина. Берия был личностью сомнительной. Он был внешне непривлекательным. По одному из описаний, он был «несколько пухловатым, с бледной, почти до зеленоватого оттенка, кожей и с мягкими влажными руками»[80]. Дочь Аверелла Гарримана, Кэтлин, писала, что он был «низеньким и жирным и носил очки с толстыми линзами, которые придавали ему зловещий вид»[81]. Дочь Сталина Светлана Аллилуева ненавидела его, как и ее мать. Пока Надежда Аллилуева была жива, Берию у них в доме не принимали.
Кроме того, тем же поездом следовали генерал Александр Голованов, летчик, который должен был пилотировать самолет Сталина из Баку в Тегеран, генерал Сергей Матвеевич Штеменко, позже начальник Оперативного управления Генерального штаба, в обязанности которого входило держать Сталина в курсе всех новостей с фронта, а также врач Сталина, профессор Виноградов.
Черчилль и Рузвельт привезли с собой в Тегеран лучшие умы из военного и гражданского руководства своих стран. Если не считать Молотова, свои лучшие умы Сталин оставил в России. Он объяснил это во время конференции, сказав, что не ожидал, что будут обсуждаться военные вопросы, и, следовательно, не привез с собой своих военных экспертов, но «тем не менее, маршал Ворошилов постарается сделать все, что сможет». Однако, как было отмечено, за исключением пленарных заседаний, которые представляли собой длительные по времени официальные мероприятия, Ворошилов часто отсутствовал. До последнего дня конференции он почти нигде не появлялся.
На протяжении всего пути над поездом Сталина барражировали истребители. Всего через три часа после отправления, проехав лишь около шестидесяти километров, поезд сделал остановку на станции Голутвин недалеко от Рязани. При осмотре состава были обнаружены трое неизвестных, ехавших на тендере[82] поезда. Их задержали, установили их личности. Оказалось, что это обычные уголовники, которые рассчитывали незаметно в темноте проехать на поезде, совершенно не зная, что на этом поезде едет сам Сталин.
Поезд проследовал дальше на юг, но ехал очень медленно, потому что в дороге то и дело возникали проблемы. Железнодорожные пути и все оборудование находилось в ужасном состоянии. Подшипники постоянно плавились, буксы горели, приходилось также внимательно следить за состоянием полотна дороги и то и дело заниматься ремонтом поврежденных рельсов, поскольку ехать нужно было через разрушенную, разоренную войной местность. Поездной бригаде с большим трудом удавалось выполнять график движения. Когда поезд остановился на станции Грязь недалеко от Липецка, в ночном небе вдруг появились немецкие бомбардировщики. Советские летчики‑истребители находились возле своих самолетов и могли немедленно по тревоге подняться в небо, а зенитные расчеты стояли возле своих орудий, готовые в любой момент открыть стрельбу, но бомбардировщики исчезли вдали.
Поддерживать связь с поездом тоже было сложно. Повреждены были не только рельсы, но и телеграфные провода. Они обрывались, когда после внезапного потепления растаявший было снег вдруг замерзал на них ледяной коркой, поэтому закрытые линии связи («кремлевка») после Рязани работали с большими перебоями. Когда поезд, продолжая двигаться на юг, подъехал к Сталинграду, к тому времени лежавшему в руинах после жесточайших боев за город, в ходе которых погибли 500 000 русских и 200 000 немцев, поезд потерял всякую связь с Главным командованием. Берия был так разгневан, что хотел немедленно наказать «виновных». Утром двадцать шестого ноября поезд прибыл на станцию Килязи на берегу Каспийского моря, в восьмидесяти километрах от Баку. Сталин со своим сопровождением сразу же поехал в аэропорт. Там его уже ожидали четыре американских самолета «C‑47», готовые доставить их в Тегеран, расположенный в 540 километрах. Сталин направился было к предназначенному для него самолету, рядом с которым стоял его пилот, генерал Голованов, но вдруг, не останавливаясь, пошел в другом направлении, к самолету Берии. Пилот Берии был полковником, а «генералы не часто управляют самолетами, нам лучше лететь с полковником, – объяснил Сталин Голованову, – не обижайтесь»[83].
Это было проявлением классической сталинской паранойи: безопаснее лететь с тем пилотом, который постоянно летает. Кроме того, безопаснее изменить свои планы в последний момент, чтобы спутать карты любым заговорщикам.
Лететь из Баку до Тегерана было около часа, маршрут проходил то над побережьем Каспийского моря, то над коричневыми просторами Азербайджана, затем над разбросанными по округе маленькими глинобитными домиками Тебриза. Но Сталин, в отличие от Рузвельта, путешествию на самолете не был рад. Он едва взглянул в иллюминатор на проносящийся внизу пейзаж. Однако, несомненно, он внимательно проследил за тремя группами истребителей, одной слева, одной справа и одной над своим самолетом, поскольку полет проходил в неблагоприятных условиях: была сильная болтанка, и Сталину было не по себе. Когда самолет попадал в очередную воздушную яму, «он вцеплялся в подлокотники с выражением крайнего ужаса на лице»[84].
В полдень Сталин прибыл на аэродром Гейле‑Морге. Перед выходом из самолета он немного поговорил с пилотами. В благодарность он послал каждому из них форму нового образца с погонами, по которым можно было определить звание. Такую форму по его приказу с начала года уже носили высокопоставленные военные в Красной армии. Сталин хотел, чтобы его летчики были щеголеватыми и хорошо одетыми.
После приземления он увидел также стоящие рядами самолеты «P‑39», которые Америка по ленд‑лизу поставляла Советскому Союзу. У всех на бортах ярко выделялись красные звезды. Точно не было известно, какой именно автомобиль был предназначен для маршала, но из десяти машин, ожидавших в аэропорту советскую делегацию и выделенных для обслуживания их визита в Тегеран, три были американского производства: специально бронированные для этих целей «Паккард», «Линкольн» и «Кадиллак».
Использование американской техники оказалось неизбежным.
Глава 3
Тегеран
Раскинувшись от подножия горного массива Эльбурс на севере до начала пустыни Деште‑Кевир на юге, Тегеран был самым крупным городом на Ближнем и Среднем Востоке. Горный хребет с покрытой снегом вершиной Демавенд в его центре, самой высокой горой в Иране, занимал основную часть панорамы. Сверху город выглядел как вполне современный западный мегаполис с широкими асфальтированными проспектами, обрамленными зелеными посадками. Просматривались также мечети и минареты, а также одноэтажные белые и коричневые домики, многие из них – с обнесенными стеной зелеными садами. В городе имелись относительно современные больницы, университеты, музеи, телефонная связь. Однако Тегеран был городом контрастов. Проезжая часть улиц была заасфальтирована, но, поскольку тротуары оставили, какими были, в воздухе стояла пыль. Водоснабжение было примитивным. Вода приходила с гор и бежала по открытым стокам вдоль главных улиц. Поскольку эти потоки были единственным источником городского водоснабжения, жители столицы были вынуждены использовать эту воду и для стирки, и для приготовления пищи, а также пить ее. Как результат – свирепствовал брюшной тиф.
По этой причине британское, советское и американское посольства направляли в горы автоцистерны, чтобы набрать воду из горных источников. Среди многочисленных мер предосторожности, принятых русскими на время проведения конференции, было изменение порядка обеспечения посольства водой: автоцистерны, направлявшиеся в горы, набирали воду каждый день из разных источников.
Гарриман и Молотов согласовывали график работы конференции до семи часов вечера субботы, 27 ноября. Необходимо особо отметить, что в ходе этой первой встречи были безоговорочно учтены пожелания Рузвельта относительно необходимости четкого согласования вопросов, касавшихся временных рамок дискуссий и планируемых к обсуждению тем. Гарриман представил Молотову следующий план, предложенный Рузвельтом для первого дня работы конференции: звонок Сталина Рузвельту в 15:00, начало первого пленарного заседания в 16:00, обед Сталина, Молотова, Черчилля, Идена, британского посла в СССР Арчибальда Кларка Керра, Гопкинса, Гарримана и трех переводчиков вместе с Рузвельтом в 19:30.
Затем Гарриман передал Молотову концепцию Рузвельта в отношении конференции, чтобы Сталин был в курсе дела. Рузвельт, сообщил Гарриман, «прибыл вместе с Черчиллем без намерений навязать какие‑либо идеи, но готов представить маршалу различные стратегические планы… Основным вопросом станет обсуждение необходимости организации оперативных действий в зоне Средиземного моря до или же после операции «Оверлорд»[85]. Намек Рузвельта был понятен: принятие решения о высадке морского десанта союзников во Франции теперь зависело от Сталина, поскольку ему было необходимо сломить сопротивление Черчилля. После этого Гарриман и Молотов расстались.
Уже после полуночи Молотов позвонил Гарриману и Кларку Керру с просьбой незамедлительно приехать в советское посольство. Когда они прибыли, Молотов сообщил им, что, согласно только что полученной информации от советских источников, в Тегеране находятся немецкие агенты, которые знают о присутствии в городе Рузвельта, на него возможно покушение, и в сложившихся обстоятельствах самым безопасным местом для него является посольский комплекс Советского Союза. Передвижение по городу для проведения встреч теперь сопряжено с опасностью. Молотов заявил, что Рузвельту следует переехать.
Его утверждение было правдоподобным. Несколько лет назад, когда в Иране правил шах Реза, который испытывал симпатии к фашизму и являлся большим поклонником Гитлера, в Тегеране было несколько сотен немецких агентов, в результате чего многие опасались, что Германия может получить полный контроль над страной. Чтобы предотвратить это, Советский Союз и Великобритания организовали совместное военное вторжение в Иран, заставили шаха отречься от власти и посадили на трон его двадцатиоднолетнего сына Мохаммеда Резу Пехлеви. Наряду с этим в течение двух лет из страны были депортированы все вызывавшие подозрение немцы.
Молотов проявил твердость, настаивая на необходимости переезда Рузвельта в советское посольство, и продолжал утверждать о возможном существовании у немецкой стороны плана по организации покушения на него, обосновывая этим свое приглашение. Вполне возможно, что Сталин по прибытии в посольство, наконец, взял ситуацию в свои руки и приказал Молотову пригласить Рузвельта переехать, даже если помещения для него пока еще и не были готовы. Возможно также, что для того, чтобы придать этой версии дополнительный вес, генерал Артыков, занимавший в НКВД должность, аналогичную должности Майка Рейли, позже заявил последнему, что несколько недель назад в пригородах Тегерана высадились тридцать восемь немецких парашютистов и что шестеро пока еще не были нейтрализованы.
После того как Молотов заявил о необходимости переезда Рузвельта, хотя бы и с некоторым опозданием, чем это следовало бы сделать, он показал Гарриману и Кларку Керру планируемые для президента помещения, которые находились в основном здании посольского комплекса рядом с конференц‑залом, где предполагалось проводить пленарные заседания. Проведенная экскурсия, по крайней мере, дала частичный ответ на вопрос, почему Молотов только сейчас обратился с приглашением к президенту остановиться в посольстве: помещения еще не были готовы. Хотя было уже далеко за полночь, рабочие завершали в ванной комнате установку ванны. Действительно, проволочка в вопросе приглашения Рузвельта остановиться в советском посольстве была вызвана задержкой в оборудовании необходимых комнат. Но это имело мало отношения к тому, была ли опасность его жизни реальной или воображаемой. Появление опасности для всех заинтересованных сторон расставило все на свои места. Рузвельт теперь был свободен в принятии решения. Даже его самые суровые критики (крайне правое крыло в США, представители которого полагали, что он симпатизирует коммунистам) не могли выдвинуть против него каких‑либо обвинений в связи с выбором места пребывания.
На следующее утро, судя по всему, крайне довольный данной перспективой Франклин Д. Рузвельт объявил, что в 14:30 он переедет и что готовить для него будут вестовые‑филиппинцы ВМС США, которые готовили для него в резиденции «Шангри‑Ла» и которых он привез с собой. Поскольку все продукты были уже доставлены для американских военнослужащих и на местном рынке ничего не закупалось, обеспечение президентской команды продовольствием не являлось проблемой.
Не полагаясь на волю случая, Рейли с учетом информации НКВД и необходимости обеспечить безопасность президента принял меры по организации переезда президента в советское посольство, который предполагалось осуществить на лимузине. Днем Рейли сформировал кортеж, в голове и в хвосте которого должны были двигаться вооруженные джипы, разместил личную охрану президента с автоматами на подножках президентского автомобиля и выстроил на улицах вдоль маршрута движения кортежа американских военнослужащих, стоявших плечом к плечу. Когда кортеж медленно, величественно проезжал по улицам, иранцы приветствовали его. Но в автомобиле под видом Рузвельта на самом деле сидел агент Секретной службы США. После того как кортеж отправился в путь, Рейли быстро усадил Рузвельта, Лихи и Гопкинса в неприметный автомобиль. Этот автомобиль, впереди которого ехал джип, на повышенной скорости направился по второстепенным улочкам в советское посольство, оказавшись там еще до кортежа.
– Шеф, как всегда, был в восторге от организации фиктивной поездки официальной кавалькады, – вспоминал Рейли[86]. Начальник президентского штаба Лихи и, конечно же, Гопкинс переехали в советское посольство вместе с президентом.
Сталин остановился в одном из менее крупных зданий в советском посольском комплексе, который напоминал парк. Молотов и Ворошилов остановились еще в одном.
При переезде в советское посольство Рузвельт хорошо осознавал, что его комнаты будут прослушиваться русскими, что будет подслушано каждое его слово и каждое слово, сказанное ему. Администрация США и сам Рузвельт уже в течение многих лет предполагали, что в Советском Союзе прослушивается каждое здание, представлявшее государственную значимость, каждая гостиница и каждое посольство. В 1934 году, направляя в Советский Союз в качестве первого американского посла Уильяма Буллита, Рузвельт дал ему следующий совет:
– Вы, конечно, предупредите весь персонал как посольства, так и консульства в России, что за ними будут постоянно шпионить[87].
В 1936 году на чердаке особняка «Спасо‑хаус», резиденции посла США в Москве, был обнаружен мужчина, подвешивавший микрофон над тем местом, которое располагалось примерно над рабочим столом посла Джозефа Э. Дэвиса. В фильме «Миссия в Москву», который Дэвис привез в Москву весной 1943 года и который был показан Сталину и членам Политбюро, была сцена, в которой высмеивалось повсеместное подслушивание дипломатов советскими властями. Рузвельт должен был предполагать, что все, что будет произноситься им и его сотрудниками, будет докладываться Сталину, и ему в связи с этим следовало продумывать все свои разговоры, хотя подслушивающая аппаратура и не была видна. Действительно, микрофоны были настолько совершенны и настолько малы, что руководитель НКВД Лаврентий Берия хвастался, что их было «невозможно» обнаружить. Президент, имея хорошие актерские навыки, вероятно, решил воспользоваться ими.
По утверждению Берии, который каждое утро в восемь часов докладывал Сталину о том, что было подслушано в комнатах президента, Сталин весьма серьезно относился к изучению записанных разговоров. Сталин «даже выспрашивал о деталях разговоров, в частности об интонации: “Он сказал это убежденно или без энтузиазма? А как отреагировал Рузвельт? Сказал ли он это решительно?.. Как вы думаете, знают ли они, что мы их подслушиваем?”» Рузвельт всегда давал Сталину высокую оценку. «Сталин как‑то заметил, видимо, озадаченный: “Они знают, что мы можем их подслушать, и все же они говорят откровенно!.. Это странно. Они высказывают все, со всеми подробностями. В результате прослушки я установил, что Рузвельт испытывал к Сталину большое уважение и симпатию. Адмирал Лихи несколько раз пытался убедить его быть тверже с советским руководителем. И каждый раз он получал от Рузвельта следующий ответ: “Это не имеет значения. Не думаете же вы, что вы можете разбираться в этом лучше меня? Я провожу такую политику, потому что, как я полагаю, это более выгодно. Мы не собираемся таскать каштаны из огня для англичан“».
Ничто так убедительно не подтверждает маниакальные черты характера Сталина и его дотошность, как ежедневный анализ им вроде бы частных высказываний и настроений Рузвельта. Наряду с этим ничто так наглядно не подтверждает способность Рузвельта правильно оценивать людей и его актерский талант, как его стремление стать гостем в советском посольстве и его поведение во время пребывания там. Сталин узнал только то, что хотел Рузвельт. Последний был бы несказанно рад, если бы узнал о неведении Сталина, что Рузвельт был в курсе дела о скрытом прослушивании его разговоров.
Проживание Рузвельта в советском посольстве вызвало паранойю у англичан. «Очевидно, ему [Сталину] удобно держать президента постоянно в поле зрения, чтобы тот не мог замышлять что‑либо совместно с британским премьер‑министром», – отмечал личный врач Черчилля, лорд Моран[88], высказывая общее мнение английской делегации на конференции, умалявшее интеллект Рузвельта.
Вселяя в окружающих страх, место обслуживающего персонала в помещениях президента заняли вооруженные пистолетами сотрудники НКВД. Достаточно было взглянуть на тех, кто застилал постели и убирал комнаты, как все сразу же становилось ясно. Рейли вспоминал: «Куда бы вы ни пошли, вы везде могли натолкнуться на черт знает кого в белом халате прислуги, деловито протирающего безукоризненно чистые стекла или сметающего пыль с мебели, на которой не было ни пылинки. Когда они взмахивали руками, чтобы протереть стекла или смахнуть пыль, на их бедре можно было отчетливо различить холодный контур самозарядного пистолета “люгер“»[89].
Капитан 2‑го ранга Уильям Ригдон, помощник военно‑морского советника, который после убытия президентской команды остался, чтобы завершить необходимые дела, был поражен, увидев, что некоторые лица из обслуги, сбросив свои белые халаты, оказались на самом деле советскими офицерами, в форме и со знаками различия, в званиях до генерала включительно. Здоровенные советские солдаты были буквально везде. Двести солдат, вооруженных автоматами, окружили территорию посольства. Другие, «все действительно очень крупные, каждый не ниже метра девяносто»[90], находились в районе посольского здания, в котором поселился Рузвельт. Казалось, за каждым деревом в парке также скрывается советский охранник. Улица между советским и британским посольствами превратилась в контролируемый переезд, поскольку между посольскими территориями установили высокие стены. Сам парк на территории советского посольства был окружен каменной стеной. Каждое утро Лаврентий Берия в шинели с поднятым воротником и фетровой шляпе, надвинутой на глаза, объезжал посольский парк в «бьюике» с тонированными стеклами.
Президент, вероятно, никогда не чувствовал себя в большей безопасности. Обсуждая впоследствии обстоятельства своего переезда в советское посольство, Рузвельт всегда опускал тот момент, что это именно он попросил у Сталина совета, где ему следует остановиться. Он рассказал Фрэнсис Перкинс только половину правды, сообщив, что ни при каких обстоятельствах он бы не поверил в существование какого‑либо заговора. Наряду с этим, как он сказал ей, для него было ясно, что Сталин желал, чтобы он остановился в советском посольстве, но (продолжал он расписывать свою историю) данный шаг причинил Сталину беспокойство, поскольку для того, чтобы реализовать этот план, тот был вынужден переехать в небольшой коттедж на территории посольства.
Пока несколько лет спустя не была опубликована полная переписка между Рузвельтом и Сталиным, никто, за исключением лишь Гопкинса, не знал о том, что еще на предварительном этапе Рузвельт обратился к Сталину с вопросом, где ему следует остановиться. Черчилль был бы ошеломлен, если бы узнал об этом. Но Сталин знал об этом, знал также и Молотов, и как раз в этом‑то и было все дело. Рузвельт хотел, чтобы Сталин увидел и оценил, какой путь он, Рузвельт, прошел, чтобы заложить основу для их встречи. Это был «не такой уж и большой шаг, который требовалось сделать, чтобы угодить им… Если бы мы могли добиться их расположения таким образом, возможно, это было бы самым незначительным из того, что мы могли бы сделать… Было важно продемонстрировать мое доверие к ним, мою полную уверенность в них. И это, несомненно, польстило им», – скажет он позже Перкинс[91].
Рузвельт пошел на этот шаг, желая, чтобы Сталин согласился с политической программой, выносимой на обсуждение, в полном объеме. У Рузвельта имелись также определенные военные соображения: он должен был определить четкий срок для начала операции «Оверлорд» (вторжение союзников в Европу, или «второй фронт», как называли эту операцию русские). И хотя в октябре Сталин уже сказал Хэллу в Москве, что Советский Союз присоединится к США в войне против Японии, Рузвельт хотел услышать это от Сталина. Следовало согласовать советские военные планы с операцией «Оверлорд».
Однако для Рузвельта был в высшей степени важен, прежде всего, эндшпиль, определение послевоенного устройства мира, и для этого ему было необходимо полное сотрудничество со Сталиным. Он всегда помнил о Версальском мирном договоре 1919 года, об ужасе и бессмысленности послевоенной мирной конференции, на которой он был заключен. Он чувствовал, что сможет выработать схему послевоенного мира лишь на конференции победителей, которая состоится в то время, когда будущие победители еще сражаются плечом к плечу, все еще нуждаются друг в друге.
Сколько раз Рузвельт предлагал Сталину встретиться? Бесчисленное количество. К весне 1943 года, когда перспективы встречи еще не прорисовывались, Рузвельт серьезно обеспокоился: баланс сил в ходе войны стал очевидно смещаться в пользу союзников, а ни одной встречи так и не было запланировано. Он решил прибегнуть к новой тактике. Он предложил провести встречу без Черчилля, потому что, как он сказал премьер‑министру Канады Макензи Кингу, с которым он поддерживал дружеские отношения еще со времен учебы в Гарварде и который посетил Белый дом, «у меня есть ощущение, что Сталин не хочет видеть нас обоих вместе, по крайней мере на начальном этапе, и что он хотел бы поговорить со мной наедине»[92]. Рузвельт предполагал организовать такую встречу на Аляске, возможно в городе Ном, в августе. У него сложился следующий план: он встретится с Макензи Кингом в Оттаве, затем они оба поедут на север по Аляскинской трассе (Франклин Д. Рузвельт дал указание о ее строительстве в 1942 году, инженерные части сухопутных войск, вопреки всему, завершили ее прокладку спустя восемь месяцев, и Рузвельт страстно желал увидеть ее), а затем он один продолжит путь на Аляску, чтобы встретиться со Сталиным.
Кинг, который знал Черчилля, по крайней мере так же хорошо, как и Рузвельта, сказал Франклину, что он не предвидел никаких возражений со стороны премьер‑министра, поскольку Черчилль был в России «и уже видел там Сталина». Однако Кинг оказался неправ (Черчилль энергично возражал), и Рузвельт позже, в июне, будет опровергать перед Черчиллем тот факт, что он писал Сталину с просьбой о личной встрече. Рузвельт утверждал, что это была идея Сталина: «Я не предлагал Д. Дж. [Дядюшке Джо. – Прим. пер.] встретиться наедине, однако он сказал Дэвису, что он считает само собой разумеющимся (а), что мы встретимся тет‑а‑тет и (б) что он согласен с тем, что нам не следует брать с собой своих помощников на предполагаемую предварительную встречу»[93].
Чтобы подчеркнуть для Сталина важность встречи только их двоих, президент поручил Джозефу Дэвису доставить его послание лично. Дэвис, близкий друг президента, который установил хорошие отношения со Сталиным в то время, когда он был послом США в Советском Союзе (с 1936 по 1938 год), прибыл в Москву в конце мая 1943 года.
В своем письме Рузвельт продемонстрировал прекрасное знание географии:
«Уважаемый г‑н Сталин,
направляю Вам это личное письмо с моим старым другом… Оно касается лишь одного вопроса, о котором, по‑моему, нам легче переговорить через нашего общего друга… Я хочу избежать трудностей, которые связаны с конференциями с большим количеством участников… Об Африке почти не может быть речи летом, и при этом Хартум является британской территорией. Исландия мне не нравится, так как это связано как для Вас, так и для меня с довольно трудными перелетами, кроме того, было бы трудно в этом случае, говоря совершенно откровенно, не пригласить одновременно премьер‑министра Черчилля. Поэтому я предлагаю, чтобы мы встретились либо на Вашей, либо на моей стороне Берингова пролива»[94].
Рузвельт надеялся преодолеть гнев и разочарование Сталина в связи с отсутствием конкретных планов относительно «второго фронта», который, как уверял Молотов, должны были открыть этим летом.
Когда Дэвис приехал в Москву в 1943 году, Сталин организовал ему специальный прием. Их встреча состоялась 20 мая и длилась два с половиной часа, а через три дня Сталин устроил Дэвису торжественный ужин в Кремле. На ужине было Политбюро практически в полном составе, в заключение был показан фильм «Миссия в Москву». Фильм производства «Уорнер Бразерс» был снят по одноименной книге Дэвиса и являлся, по существу, голливудским пропагандистским фильмом, призванным вызвать сочувствие к русским, находившимся в сложных обстоятельствах. Он ставил перед собой задачу показать «факты так, как я [посол Дэвис] видел их». Звездный состав исполнителей был представлен Уолтером Хьюстоном, «самым любимым» актером Рузвельта, в роли Дэвиса, Энн Хардинг в роли его жены, Марджори Мерриуэзер (в замужестве Дэвис), и Оскаром Хомолкой в роли Максима Литвинова. В фильме были также изображены Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и британский министр иностранных дел Энтони Иден. Фильм являлся гимном мужеству советского народа, твердости его характера и героической борьбе советских людей и Советской армии против немецкой агрессии. В фильме было показано, что у советских рабочих, которые выполняли свои производственные планы и материально вознаграждались за это, было много общего с американскими рабочими. Колхозы, согласно фильму, производили горы продовольствия. Были показаны драматические фотографии взорванных в результате актов саботажа заводов – в качестве оправдания Московских процессов 1936–1938 годов. Далее следовала инсценировка показательного суда, на котором высокопоставленные советские ответственные лица признавались в том, что выполняли приказы предателя Льва Троцкого, который, опираясь на правительство Германии, стремился свергнуть советскую власть. Даже если бы этот фильм снимался по прямому указанию Кремля, он не смог бы так активно прославить советский строй.
Когда показ фильма был завершен и включили свет, после аплодисментов все повернулись, чтобы посмотреть на реакцию Сталина. Как вспоминал один британский дипломат, тот выглядел довольно ошеломленным и, в конце концов, предложил: «Давайте выпьем!»[95] Приятно пораженный восторженным и упрощенным изображением советской действительности, Сталин дал указание о демонстрации этого фильма на всей территории Советского Союза. (Фильм ему настолько понравился, что в последние годы он стал одной из картин, которые он больше всего любил смотреть.)
Дэвис считал, что Сталин принял решение встретиться с Рузвельтом. «Что касается конкретной задачи, которой я занимался, то считаю, что результат совершенно успешен», – уверял он Рузвельта. Сталин телеграфировал Рузвельту, что, по его мнению, они могли бы встретиться в июле или августе, отметив, что он заранее, за две недели, уведомит президента о точной дате: «Я согласен с Вами, что такая встреча необходима и что ее не следует откладывать»[96]. Но он также предупредил, что «летние месяцы будут исключительно ответственными для советских войск». Необычно то, что это сообщение завершалось фразой Сталина: «С искренним уважением».
Затем, 11 июня 1943 года, Сталин писал Рузвельту, чтобы сообщить тому о своем разочаровании, охватившем его, когда он узнал, что на только что завершившейся Третьей Вашингтонской конференции «Вами вместе с г. Черчиллем принимается решение, откладывающее англо‑американское вторжение в Западную Европу на весну 1944 года… Это Ваше решение создает исключительные трудности для Советского Союза».
Рузвельт не стал непосредственно отвечать на высказанные претензии. Вместо этого он написал, что американская сторона наращивает поставки алюминия, крайне необходимого Советскому Союзу, и что, «помимо нового протокольного соглашения, я дал указания, чтобы Вам было отправлено в течение оставшегося периода 1943 года дополнительно шестьсот истребителей… самых маневренных, что у нас есть… Я также дал указания направить дополнительно семьдесят восемь бомбардировщиков «B‑25»[97]».
24 июня Сталин направил президенту еще одно жесткое послание в связи с переносом вторжения союзников, аналогичное письмо (практически дубликат того, что было отправлено Рузвельту) получил и Черчилль:
«Вы пишете мне, что Вы полностью понимаете мое разочарование. Должен Вам заявить, что дело идет здесь не просто о разочаровании Советского Правительства, а о сохранении его доверия к союзникам, подвергаемого тяжелым испытаниям.
Нельзя забывать, что речь идет о сохранении миллионов жизней в оккупированных районах Западной Европы и России и о сокращении колоссальных жертв советских армий, в сравнении с которыми жертвы англо‑американских войск составляют небольшую величину»[98].
Два дня спустя, однако, находясь, судя по всему, под влиянием хвалебного письма Рузвельта в связи со второй годовщиной вторжения Гитлера в Советский Союз (потребовалось два дня, чтобы это письмо попало к Сталину), в котором президент упомянул о «вероломном акте», «исторических подвигах вооруженных сил Советского Союза», «почти невероятных жертвах, которые столь героически несет русский народ» и «подходе к ответственным задачам установления мира, которые победа поставит перед всей планетой»[99], Сталин направил президенту выдержанное в дружеском тоне послание, которое отразило его состояние на тот момент. Характерно, что вразрез со своей практикой он взял на себя труд вычеркнуть из первоначального текста формулировку «вражеский» по отношению к германской стороне и заменить ее на слово «захватчик»[100]:
«Благодарю Вас за высокую оценку решимости и храбрости советского народа и его вооруженных сил в их борьбе против гитлеровских захватчиков.
В результате двухлетней борьбы Советского Союза против гитлеровской Германии и ее вассалов и серьезных ударов, нанесенных союзниками итало‑германским армиям в Северной Африке, созданы условия для окончательного разгрома нашего общего врага»[101].
В июле Рузвельт нетерпеливо напомнил Сталину, что он все еще ждет точной даты встречи. Однако это совпало с германским контрнаступлением, к которому готовился Сталин. Гитлер собрал огромное количество танков и артиллерии для подготовки операции под Курском, юго‑западнее Москвы, в расчете на решающую победу германской армии, которая должна была поразить мир. В этом сражении принимало участие четыре тысячи самолетов, шесть тысяч танков и более двух миллионов солдат. Красная армия отразила наступление германской армии, затем постепенно вынудила ее отступить и нанесла ей поражение. К пятому дню сражение было завершено, Красная армия полностью контролировала ситуацию. Это было решающим моментом: завершение наступательных операций гитлеровской Германии на территории Советского Союза. Почти сразу же после этого Красная армия перегруппировалась и устремилась вперед, быстро отвоевав Орел и Белгород, а затем начала крупными силами продвигаться к Днепру и далее.
8 августа Сталин, наконец, ответил на письмо Рузвельта. Он пояснил, что не мог предпринять длительную поездку: «Бои в полном разгаре… Советские армии отбили июльское наступление, взяли Орел и Белгород и осуществляют дальнейший нажим на врага… Я… не смогу, к сожалению, в течение лета и осени выполнить своего обещания, данного Вам через г‑на Дэвиса»[102]. Однако, продолжал он, Рузвельт мог бы сам приехать к нему: «В настоящей военной обстановке ее [встречу. – Прим. пер.] можно было бы устроить либо в Астрахани или в Архангельске».
Предложение Рузвельта встретиться вдвоем Сталин, очевидно, воспринял как уловку: «Я не имею возражений против присутствия г‑на Черчилля на этом совещании при условии, что Вы не будете возражать против этого». Хотя Рузвельт и не мог знать этого, но Сталин с большим вниманием отнесся к этому своему письму: это был тот редкий случай, когда он собственноручно написал его текст.
Рузвельт воспринял это как намек на то, что Сталин хотел сделать приятное Черчиллю, и его следующие две телеграммы с просьбой о встрече были подписаны также и Черчиллем. В очередной телеграмме от 4 сентября Черчилль был упомянут в качестве третьего участника планируемой конференции. «Я лично мог бы выехать для встречи в столь отдаленный пункт, как Северная Африка». Наконец, 8 сентября Сталин согласился с тем, что теперь у него есть время встретиться, но он отклонил Северную Африку в качестве места встречи: он мог выехать не дальше Ирана.
Рузвельт не хотел ехать туда по уважительной причине. Как он написал Сталину 14 октября, поездка в Тегеран являлась проблематичной, поскольку Конституция США предусматривала, что «в отношении новых законов и резолюций я должен принимать решения после их получения, и они должны быть возвращены Конгрессу в подлиннике до истечения срока в десять дней… Всегда возможны задержки при перелете через горы сначала по пути на восток, а затем по пути на запад».
Сталин ответил: «К сожалению, я не могу принять в качестве подходящего какое‑либо из предлагаемых Вами взамен Тегерана мест для встречи»[103].
В конце октября Рузвельт был крайне расстроен в связи с настойчивым стремлением Сталина определить Тегеран в качестве места возможной встречи. В длинном, эмоциональном письме он перечислил все препятствия, с которыми ему пришлось столкнуться при организации встречи: «Я был бы рад для встречи с Вами проехать в десять раз большее расстояние, но я должен выполнять обязанности, налагаемые на меня конституционной формой правления, существующей более ста пятидесяти лет… Будущие поколения сочли бы трагедией тот факт, что несколько сот миль помешали Вам, г‑ну Черчиллю и мне встретиться… Я снова заявляю, что я охотно бы отправился в Тегеран, если бы мне не мешали ограничивающие меня обстоятельства, которые я не могу контролировать… Пожалуйста, выручите меня в этом критическом положении»[104].
Его письмо по времени было приурочено к конференции министров иностранных дел трех великих держав в Москве, чтобы Хэлл мог лично доставить его Сталину. Состояние напряжения в связи с неведением и стремлением соблюсти приличия сказалось на президенте. 19 октября он слег с гриппом, в течение нескольких дней у него была температура под 40 градусов.
25 октября Хэлл в сопровождении Гарримана встретился в Кремле со Сталиным. Кабинет Сталина находился в великолепном дворце в золотых и белых тонах, построенном при царе Николае I и имевшем вид на Москву‑реку. Они прошли по длинным коридорам с зелеными коврами в просторный и просто меблированный кабинет Сталина на втором этаже с видом на реку. На окнах были тяжелые шторы, в стенах – русские печи, это было необходимо с учетом морозных русских зим, поскольку Сталин был весьма чувствителен к холоду. На полу лежал толстый красный ковер. Со стен смотрели портреты Ленина, Маркса и Энгельса. В одном из углов в витрине находилась белая посмертная маска Ленина.
Когда Хэлл и Гарриман сели за большой стол для совещаний напротив Сталина на жесткие, неудобные стулья, Хэлл подчеркнул всю важность встречи с Франклином Д. Рузвельтом, которая пока еще так и не была спланирована. Сталин ответил, что он не понимает, почему двухдневная задержка в доставке официальных документов может оказаться так жизненно важна, что способна помешать приезду Рузвельта в Тегеран, в то время как неверный шаг в военных операциях может стоить жизни десяткам тысяч людей. Хэлл попытался объяснить это. Хотя он и подозревал Сталина в неискренности, его, по крайней мере, успокоило замечание Сталина о том, что тот не против встречи «в принципе», а также его дальнейшие пояснения, что отсрочка им встречи вызвана тем, что он не мог упустить имевшуюся возможность нанести немцам решающее поражение, «возможность, которая может выпасть только раз в пятьдесят лет».
Прошло еще три дня. Не получив от Сталина никакой информации, 28 октября Рузвельт телеграфировал Хэллу, что тот должен предложить Сталину вылететь «не дальше Басры хотя бы на один день»[105], а остальное время с Черчиллем и президентом мог бы провести Молотов. Хэлл телеграфировал в ответ, что такая организация встречи была бы «сомнительна». Еще один день прошел в этом отношении впустую. Несколько оправившись от гриппа и будучи в состоянии провести пресс‑конференцию, Рузвельт оказался под давлением журналистов, стремившихся прояснить ситуацию относительно Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании. Один из журналистов спросил его:
– Уверены ли вы теперь в готовности России к сотрудничеству с нами в деле поддержания мира?
Рузвельт ответил:
– Я бы не ставил вопрос таким образом. Лично я всегда был уверен в этом. И конференция подтверждает мое мнение. Моя убежденность в этом окрепла.
Вопрос: «Конференция подтвердила ваше мнение? Ваша убежденность действительно окрепла?»
Рузвельт: «Да, несомненно»[106].
В тот же день Рузвельт позвонил своему хорошему другу Дейзи Сакли, у которой был дом в городе Райнбек (штат Нью‑Йорк), и выразил ей свое отчаяние.
– Все дела в полном беспорядке. Все вверх дном, – пожаловался он[107].
«Я не могу задавать ему вопросы по телефону», – написала она позже. Затем она добавила: «Он намерен отправиться в Длительное Путешествие и рассчитывает довести дело до конца, но оно все никак не может проясниться».
Сакли была на десять лет моложе президента. Она являлась одной (самой младшей) из шести кузин и кузенов Рузвельта и его ближайшим компаньоном в годы войны. Ее роль в жизни Рузвельта малоизвестна, потому что только после того, как она умерла в 1991 году, в чемодане под ее кроватью обнаружили ее дневник объемом в несколько тысяч страниц, ее письма к президенту и тридцать восемь рукописных писем ей от него. Ее дневник под названием «Ближайший компаньон» был опубликован в 1995 году под редакцией Джеффри Уорда. Она впервые положила глаз на Рузвельта на балу в канун Нового года, когда она была впечатлительной восемнадцатилетней девушкой, а ему было двадцать восемь. Как сообщила она своей подружке, она никогда не забывала, «как он, высокий, смеющийся, неустанно кружил по танцплощадке одну партнершу за другой». Он был любовью всей ее жизни. Она жила в «Уайлдерштейне», в большом, но обветшавшем пятиэтажном семейном особняке с башенками в стиле королевы Анны. Он находился по течению реки Гудзон выше поместья «Спрингвуд» в Гайд‑парке, которое было отстроено отцом Франклина Д. Рузвельта и затем перестроено самим Рузвельтом и которое Рузвельт считал своим настоящим домом. Она была умной, начитанной, вдумчивой. На этом этапе жизни президента она была, вероятно, его лучшим другом. Она проводила с ним больше свободного времени, чем кто‑либо другой. Кроме того, она использовала свои глубокие знания жизни Франклина Д. Рузвельта, чтобы организовать большую коллекцию фотографий в его новой президентской библиотеке, первой президентской библиотеке в стране, которую он создал в своем поместье в Гайд‑парке и которую подарил стране.
Сакли была стройной, имела чопорный вид, всегда была одета немного старомодно. Была ли у них когда‑либо связь, неизвестно, хотя однажды что‑то случилось, когда они были в Верхнем Коттедже, исключительно личном коттедже президента для отдыха, который был спроектирован им и построен в его поместье в Гайд‑парке. Как бы там ни было, этого было достаточно для Дейзи, чтобы связать ее и Рузвельта и делить с ним все беды и радости.
Она смогла быть самой безобидной из тех женщин, которыми президент окружил себя, и была безропотно принята Элеонорой, которая сказала своему другу и биографу Джозефу П. Лэшу, что Франклин с самого начала стрелял глазами, когда они еще проводили свой медовый месяц: «Для отдыха и удовлетворения его бесконечного желания иметь аудиторию, которая каждую секунду восхищалась бы им, всегда была Марта [имеется в виду норвежская принцесса Марта, супруга будущего короля Улафа V. – Прим. ред.]»[108]. Дейзи подарила Рузвельту черного скотч‑терьера по кличке Фала, который стал известен после того, как президент, отвечая на обвинения республиканцев в том, что он впустую потратил деньги налогоплательщиков на перевозку Фалы (которые, как он доказал, оказались ложью), сделал блестящий ответный выпад, подчеркнув, что если порочить его, президента, было низко, то уж поливать грязью собаку было вообще за гранью допустимого: «Как истинный шотландец, он впал в настоящую ярость. С тех пор мой пес сам не свой»[109]. Должно быть, он сам был отчасти влюблен в Дейзи, поскольку он всегда держал ее письма к нему при себе, замаскировав их среди кляссеров для своей коллекции марок, которые путешествовали с ним, куда бы он ни направлялся.
Рузвельт прибыл в Гайд‑парк 29 октября, все еще продолжая болеть гриппом, что нашло отражение в дневниковой записи Дейзи: «Он готовится к Длительному Путешествию в надежде, что ему не придется отправляться в Тегеран, который кишит болезнями и до которого можно добраться, лишь перелетев через горы высотой более четырех с половиной километров. Он опасается и того и другого – как для себя, так и для всей своей команды»[110]. Хуже всего было то, что он до сих пор не знал, действительно ли состоится эта встреча. 1 ноября он писал Макензи Кингу: «Я все еще надеюсь, что мы сможем увидеть “Дядюшку Джо“. Однако, по‑видимому, мои конституционные проблемы мало что значат для него, хотя я пытался десятки раз объяснить ему, что в то время, как у моего Конгресса проходит сессия, я должен иметь возможность получать законопроекты, принимать по ним решения и возвращать в Конгресс оригиналы документов в течение десяти дней»[111].
От Сталина пришла очередная телеграмма: «Для меня… исключена возможность направиться дальше Тегерана. Мои коллеги в Правительстве считают… вообще невозможным мой выезд за пределы СССР в данное время… Меня мог бы вполне заменить на этой встрече… г‑н В. М. Молотов»[112].
В тот же день Рузвельт узнал также и некоторые хорошие новости: Сенат подавляющим большинством голосов (85 – за, 5 – против) утвердил дорогую его сердцу резолюцию Коннели, предусматривавшую создание Организации Объединенных Наций: «Сенат признает существующую необходимость создания в возможно кратчайшие сроки всеобщей международной организации, основанной на принципе суверенного равенства всех миролюбивых государств и открытой для членства любых государств, больших и малых, для поддержания международного мира и безопасности». Он преодолел первое препятствие – то, с которым Вильсону не удалось справиться: он получил поддержку законодательной власти. Теперь Сенат будет оказывать ему содействие в реализации планов по послевоенному обустройству мира.
На следующе утро Рузвельт завтракал вместе с Самнером Уэллсом, до последнего времени занимавшим пост заместителя Госсекретаря, второй по иерархии должности в Госдепартаменте. До войны он возглавлял в этом ведомстве группу планирования, которая занималась вопросами международной миротворческой организации. Как вспоминал Уэллс, был теплый пасмурный ноябрьский день. Рузвельт сидел в постели среди груды бумаг, в темно‑синей накидке на плечах, и курил сигарету через длинный мундштук из слоновой кости. Несмотря на сырой из‑за тумана воздух, окна были полуоткрыты. Они проговорили в течение двух часов, обсудив общий характер организации, которую предстояло представить Сталину, когда, наконец, состоится встреча с ним Рузвельта.
– Мы не обеспечим никакой сильной международной организации, если не сможем выработать принципы, на основе которых Советский Союз и Соединенные Штаты смогут обеспечить многолетнее сотрудничество по ее созданию и функционированию, – сказал ему Рузвельт[113].
«Это являлось для него ключевым вопросом», – напишет Уэллс впоследствии. Тем же утром президент отправился в резиденцию «Шангри‑Ла», взяв с собой для отвлечения внимания судью Верховного суда Уильяма О. Дугласа и его жену, Нельсона Рокфеллера вместе с женой – и Дейзи.
На следующий день, когда Дейзи, согласно записям в ее дневнике, вышла на закрытую веранду коттеджа, Рузвельт приветствовал ее и поделился с ней своими последними мыслями о Сталине. По его словам, поскольку Сталин руководил советскими войсками, он «не мог быть далеко от Москвы, он должен был иметь возможность вернуться в считаные часы… Рузвельт предположил, что Сталин, возможно, страдает от комплекса неполноценности… Это связано с его «стратегией» относительно внешнего мира: Россия в настоящее время настолько велика и настолько сильна, что может навязывать свою волю, и к ней должны относиться, по крайней мере, как к равной. Эта идея засела в нем, скажем так, десять лет назад, и Сталин, должно быть, сам воспринимает ее весьма серьезно»[114].
Рузвельт прекрасно понимал, что послевоенные планы надо было строить до окончания боевых действий. Подспудно он опасался, что война может завершиться раньше, чем ожидается. «Вполне возможно, что Германия может рухнуть в любой момент», – сказал он Макензи Кингу[115] в декабре прошлого года, когда Жуков начал сжимать кольцо вокруг Сталинграда, и объяснил, что у него есть много сведений от германских источников «как о нехватке продовольствия, так и о недовольстве среди народа». Он должен был добиться согласия на проведение встречи.
Наблюдательная Дейзи заметила, что его руки дрожали больше, чем обычно. Он объяснил это тем, что выпил слишком много кофе. Однако дать какое‑либо объяснение тому, что его лодыжки опухли, он не смог. По словам Дейзи, было даже похоже, что «его мало беспокоил отек лодыжек, что случалось, когда он уставал. Фокс [капитан‑лейтенант Джордж Фокс, физиотерапевт президента] растирает их перед обедом и ставит на них перед сном электрический вибромассажер»[116].
Рузвельт изложил свою проблему, связанную с исполнением конституционных обязанностей во время длительного путешествия, генеральному прокурору Фрэнсису Биддлу, выпускнику, как и он сам, Гротона и Гарварда, и тот решил ее, написав служебную записку. В ней отмечалось, что, где бы президент ни находился, он должен в течение десяти дней (за исключением воскресений) вернуть законопроект в Конгресс, начиная с того момента, когда тот был ему представлен. Поскольку проблема была решена, он решился на поездку. В понедельник Франклин Д. Рузвельт телеграфировал в посольство США в Москве Гарриману, чтобы тот передал Сталину его послание. Сталин, однако, был недоступен, и послание получил Молотов, который сообщил, что у премьер‑министра был легкий грипп и что он не мог принять американского представителя. У Гарримана был перевод послания, который он вручил Молотову, – на тот случай, как он объяснил, если возникнут какие‑либо вопросы, на которые он мог бы ответить.
«Я выработал метод, при помощи которого, в случае если я получу сообщение о том, что закон, требующий моего вето, прошел через Конгресс и направлен мне, я вылечу в Тунис, чтобы получить его там, а затем вернусь на конференцию, – писал Рузвельт. – Поэтому я думаю, что сопровождающие лица должны начать свою работу 22 ноября в Каире, и я надеюсь, что г‑н Молотов и Ваш военный представитель, который, я надеюсь, может говорить по‑английски, прибудут в Каир к этому времени»[117].
Молотов попытался выяснить у Гарримана, какие вопросы будут обсуждаться на предварительных переговорах в Каире, поскольку он должен был участвовать в них в качестве советского представителя. Гарриман признался, что не располагал информацией об этом. После этого Молотов ледяным тоном поинтересовался, было ли принято президентом к сведению пояснение, данное маршалом Сталиным в своей телеграмме от 5 ноября о том, что коллеги маршала «считают вообще невозможным его выезд за пределы СССР». Гарриман ответил, что проинформирует об этом президента. Наряду с этим он подчеркнул, что президент «придает этой встрече исключительное значение»[118].
* * *
Обмен посланиями с Рузвельтом и Черчиллем очень много значил для Сталина. Мир больше не держал его и его страну на расстоянии вытянутой руки. Понимая, что Рузвельт и Черчилль обращаются с ним как с равным, он теперь сосредоточился на обеспечении Советскому Союзу после войны статуса великой державы. Еще до Тегерана он предпринял ряд шагов принципиального характера. В то же самое воскресенье, когда президент находился в резиденции «Шангри‑Ла» вместе с Дейзи, мучаясь вопросом, ехать или не ехать в Тегеран, Сталин выступал с ежегодной речью в честь Великой Октябрьской социалистической революции. Он впервые признал заслуги союзников и отдал им должное: «Конечно, нынешние действия союзных армий на юге Европы не могут еще рассматриваться как второй фронт. Но это все же нечто вроде второго фронта… Понятно, что открытие настоящего второго фронта в Европе, которое не за горами, значительно ускорит победу над гитлеровской Германией и еще более укрепит боевое содружество союзных государств»[119]. Только неделю назад, на Московской конференции, он признал, что «угроза открытия второго фронта на севере Франции летом 1943 года сковала на западе порядка двадцати пяти немецких дивизий».
Сталину, великому ученику истории, особенно нравилось думать о себе как о правителе, предшественником которого был Иван Грозный, который превратил Россию в великую страну. Когда в 1940 году министр иностранных дел Литвы поздно вечером шел вместе с ним по коридорам Кремля, Сталин сказал ему: «Здесь ходил Иван Грозный»[120]. Теперь, в 1943 году, он приказал талантливому советскому кинорежиссеру Сергею Эйзенштейну снять фильм «Иван Грозный». Фильм, сценаристом и режиссером которого стал Эйзенштейн, явился буффонадой, где Иван Грозный изображался жестоким, но мудрым государственником, который объединил страну. В этой картине Россия была представлена варварской, замечательной, сильной страной. Как отметил Александр Верт, корреспондент Би‑би‑си и лондонского издания «Санди таймс» во время войны, Иван Грозный в таком виде, в каком он был изображен, являлся «очевидным предшественником» Сталина. У Алексея Толстого, автора романа о другом легендарном царе, Петре Великом, был аналогичный опыт. Сталин редактировал его работу, стремясь добиться того, чтобы Петр напоминал его: «“Отец народов“ пересмотрел историю России. Петр Великий стал без моего ведома “пролетарским царем“ и прототипом нашего Иосифа!»[121]
Сталин много думал о роспуске Коминтерна, организации, которая отвечала за разжигание революции в других странах: он считал, что она уже изжила себя. Еще в апреле 1941 года он сделал официальное заявление для печати о том, что коммунистические партии в других странах вместо членства в Коминтерне должны быть преобразованы в национальные партии: «Членство Коммунистических партий в Коминтерне облегчает буржуазии возможность преследовать их»[122]. «Барбаросса» (кодовое название операции по вторжению германских войск в Россию) приостановила реализацию этой идеи. Теперь же у Сталина было время и необходимая политическая платформа. Молотов сообщил Георгию Димитрову, главе Коминтерна, что организация перестанет существовать. 21 мая, на заседании Политбюро в кабинете Сталина в золотистом дворце, Молотов зачитал следующую резолюцию:
«Мы переоценили свои силы, когда создавали Коммунистический интернационал [Коминтерн. – Прим. пер.] и думали, что сможем руководить движением во всех странах. Это была наша ошибка. Дальнейшее существование КИ – это будет дискредитация идей Интернационала, чего мы не хотим… Есть и другой мотив для роспуска КИ… Это то, что компартии, входящие в КИ, ложно обвиняются, что они являются якобы агентами иностранного государства… С роспуском КИ выбивается из рук врагов этот козырь»[123].
Этот роспуск был совершен не просто для вида, однако при этом он не был и всеобъемлющим. Молотов сообщил Димитрову, что различные мероприятия и функции Коминтерна будут распределены среди других структур. Рузвельт, проявляя цинизм, расценивал данный шаг как внушающий надежду, как жест дружбы, как шаг в правильном направлении. На самом же деле эта организация не прекратила своей деятельности, просто у нее теперь не стало централизованного руководства: ее структуры были объединены со структурами НКВД.
Роспуск Коминтерна со всей очевидностью продемонстрировал прежнюю двуличность Советов. Советское правительство всегда утверждало, что Коминтерн действовал независимо от него, когда фактически им руководил Сталин. В течение многих лет в его письмах к Молотову содержались рекомендации о том, что Коминтерну следовало делать, а от чего воздерживаться. Утверждение о независимости Коминтерна (как оказалось, фиктивной) теперь было полностью опровергнуто. Когда Джозеф Дэвис появился в Москве, чтобы согласовать встречу Сталина с Рузвельтом, процесс роспуска организации был в самом разгаре. Сталин увидел в этом шанс произвести фурор в средствах массовой информации: обнародовать данный факт в то время, как Дэвис находился в Москве. «Мы должны поспешить с публичным заявлением», – призывал Сталин Димитрова[124]. Димитров принялся за работу, и о роспуске Коминтерна было объявлено накануне торжественного ужина, организованного Сталиным в честь Дэвиса, и демонстрации фильма «Миссия в Москву». Дэвис был крайне взволнован этим событием. Во время ужина он отметил, что, «когда он был послом в Москве, он часто говорил Литвинову, что Коминтерн – палка, которой все били Советский Союз, – являлся реальным источником всех бед»[125].
Сталин извлек из этого шага максимум выгоды. Гарольд Кинг, корреспондент информационного агентства «Рейтер» в Москве, поинтересовался у него, что означал роспуск организации. 28 мая Сталин ответил: «Он разоблачает ложь гитлеровцев о том, что “Москва” якобы намерена вмешиваться в жизнь других государств и “большевизировать” их. Этой лжи отныне положен конец»[126].
В соответствии с новой концепцией Сталина (поощряемой Рузвельтом), предполагавшей, что Россия завершит войну в качестве мировой державы, а не потрепанным в боях пролетарским изгоем, чем она являлась до войны, советский руководитель осознал, что России необходим профессиональный, элитный офицерский корпус, к которому относились бы так же, как и в других странах. Он заявил английскому переводчику Э. Г. Бирсу: «У нас в Советской армии хорошие генералы. Им только не хватает воспитания, и у них плохие манеры. Нашим людям предстоит еще долгий путь»[127]. В августе 1943 года было создано девять суворовских военных училищ, названных так в честь Александра Суворова, великого русского генерала XVIII века, который не проиграл ни одного сражения. Эти училища были сформированы по образцу дореволюционного кадетского корпуса с тем, чтобы создать офицерскую касту, существовавшую до революции. Юноши должны были получить военное и среднее образование, которое включало в себе житейские навыки, знание иностранных языков и социальные навыки, такие, как хорошие манеры и бальные танцы. Они покидали стены училища хорошо подготовленными к жизни, искушенными в житейских делах и образованными. Они выглядели весьма привлекательно: их форма была создана по образцу формы военнослужащих Красной армии, с погонами и другими знаками отличия. В общем, следующее поколение советских военных не должно было уступать представителям военных структур Великобритании, Франции и США, в Советском Союзе оно пользовалось большим уважением.
Сама форма у офицеров в 1943 году, когда Красная армия начала наносить германской стороне поражения, существенно изменилась. В ходе Сталинградской битвы, в самый ее разгар, когда советские войска стали одерживать верх, на офицерской форме появились золотистые эмблемы и погоны (заимствованные из Великобритании). Раньше этого не было (погоны были сорваны с плеч офицеров царской армии в 1917 году), однако после Сталинграда к офицерам стало принято относиться как к кадровому составу. «Достойная форма во время отступления выглядела бы нелепо»[128], – отмечал Верт, но когда закаленные в боях солдаты Красной армии выдержали германский натиск и заставили вермахт отступить под Сталинградом, офицерство как общественный класс восстановило уважение к себе, которого ему не хватало в России, поскольку социальный гнев во время революции сравнял все классовые различия. Отличившиеся офицеры были отмечены и награждены новыми орденами, названными в честь великих русских полководцев (живших еще до коммунистического режима): орденами Александра Суворова, Михаила Кутузова, победившего Наполеона, Федора Ушакова, служившего при Екатерине Великой, князя Александра Невского, героя XIII века, который освободил Русь от тевтонцев. Был введен кодекс поведения для офицеров выше определенного ранга, чтобы определить их отличие от рядового состава: они не могли пользоваться общественным транспортом, заниматься такими недостойными их делами, как, например, доставка различных бумаг и документов. Если генерал посещал в Москве театр, то ему следовало сидеть в одном из первых пятнадцати рядов от оркестра. Если же эти места были распроданы, то он не мог присутствовать на театральном мероприятии. Рядовой состав должен был сидеть на балконе.
Произошли и другие, еще более глубокие изменения в жизни офицеров, хотя впоследствии они будут отменены: был упразднен институт политических комиссаров, чья работа заключалась в том, чтобы контролировать офицеров и шпионить за ними, а также обеспечивать их соответствие политической идеологии советского режима. Их деятельность подрывала престиж офицерства. После отмены этого института офицеры впервые получили всю полноту ответственности за принимаемые ими военные решения.
Были также предприняты шаги и по улучшению имиджа дипломатического корпуса. У дипломатов неожиданно появилась новая форма: серо‑голубого цвета костюмы с позолоченными пуговицами, фуражка, жилет, черные шелковые носки, белая рубашка со стоячим воротником, жемчужные запонки, белые лайковые перчатки и небольшой кинжал на ремне.
Однако наиболее существенные шаги, получившие одобрение со стороны Франклина Д. Рузвельта, Сталин предпринял в религиозной сфере. За два месяца до Тегеранской конференции Сталин официально отказался от своей антирелигиозной политики. Ему было известно, что негативное отношение Советского Союза к религии являлось постоянной проблемой для Рузвельта. Президент знал, что это предоставляло широкие возможности врагам Советского Союза в США (и особенно католической церкви) для критики в адрес советского строя, но это оскорбляло и его лично. Только наиболее близкие к Рузвельту люди были осведомлены о его глубокой религиозности. Рексфорд Тагуэлл, близкий друг Рузвельта и член «Мозгового треста» (группы академиков) Колумбийского университета, который разработал первые рекомендации для политического курса Рузвельта на посту президента, вспоминал, что, когда Рузвельт задумывал что‑то организовать, создать или учредить, он просил всех своих коллег присоединиться к нему в его молитве, когда он испрашивал божественного благословения на то, что они собирались сделать. Спичрайтер Роберт Шервуд считал, что «его религиозная вера была самой мощной и самой загадочной силой, жившей в нем»[129].
Рузвельт пользовался любой возможностью подчеркнуть необходимость религиозной свободы в Советском Союзе. На следующий день после вторжения Гитлера в СССР в июне 1941 года он уведомил Сталина, что американская помощь и религиозная свобода идут рука об руку: «Свобода поклоняться Богу, как диктует совесть, – это великое и фундаментальное право всех народов… Для Соединенных Штатов любые принципы и доктрины коммунистической диктатуры столь же нетерпимы и чужды, как принципы и доктрины нацистской диктатуры. Никакое навязанное господство не может получить и не получит никакой поддержки, никакого влияния в образе жизни или же в системе правления со стороны американского народа»[130].
Осенью 1941 года, когда германская армия подошла к Москве и Аверелл Гарриман вместе с лордом Бивербруком, газетным магнатом и министром снабжения Великобритании, собирался вылететь в Москву, чтобы согласовать программу возможных американо‑английских поставок в Советский Союз, Рузвельт воспользовался этим случаем, чтобы вновь выступить в защиту свободы вероисповедания в Советском Союзе. Сталин находился в безвыходной ситуации, и Рузвельт знал, что более благоприятного момента ему может не представиться. «Я считаю, что это реальная возможность для России – в результате возникшего конфликта признать у себя свободу религии»[131], – писал Рузвельт в начале сентября. Он предпринял три шага. Во‑первых, он пригласил в Белый дом Константина Уманского, советского посла в Вашингтоне, чтобы сообщить ему, что будет чрезвычайно трудно утвердить в Конгрессе оказание помощи России, которая ей, как он знал, крайне необходима, из‑за достаточно сильной враждебности Конгресса к СССР. Затем он предложил: «Если в ближайшие несколько дней, не дожидаясь прибытия Гарримана в Москву, советское руководство санкционирует освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся свободы религии в стране, это могло бы иметь весьма положительный просветительный эффект до поступления на рассмотрение Конгресса законопроекта о ленд‑лизе»[132]. Уманский согласился оказать помощь в этом вопросе. 30 сентября Рузвельт провел пресс‑конференцию, в ходе которой он поручил журналистам ознакомиться со статьей 124 советской Конституции, в которой говорилось о гарантиях свободы совести и свободы вероисповедания, и опубликовать эту информацию. (После того как в прессе эта информация была должным образом обнародована, заклятый враг Рузвельта, Гамильтон Фиш, конгрессмен‑республиканец от округа Рузвельта, Гайд‑парка, с сарказмом предложил президенту пригласить Сталина в Белый дом, «чтобы он смог совершить обряд крещения в бассейне Белого дома», после чего они оба [Рузвельт и Сталин] могли бы поступить в воскресную школу Белого дома»[133].)
Затем Рузвельт поручил Гарриману, уже готовому к отъезду в Москву, поднять вопрос о свободе вероисповедания в ходе общения со Сталиным. Как вспоминал Гарриман, «президент хотел, чтобы я убедил Сталина в том, насколько важно ослабить ограничения в отношении религии. Рузвельт проявлял обеспокоенность в связи с возможным противодействием со стороны различных религиозных групп… Кроме того, он искренне хотел использовать наше сотрудничество во время войны, чтобы повлиять на враждебное отношение советского режима к религии»[134]. Гарриман поднял этот вопрос в разговоре со Сталиным таким образом, чтобы ему стало понятно: политическая ситуация и негативное общественное мнение США относительно России изменятся к лучшему, если «Советы проявят готовность обеспечить свободу вероисповедания не только на словах, но и на деле»[135]. Как рассказывал Гарриман, когда он объяснил это, Сталин «кивнул головой, что означало, как я понял, его готовность что‑то сделать».
Гарриман поднял эту тему также в разговоре с Молотовым, который дал знать, что он не верит в искренность Рузвельта. «Молотов откровенно сообщил мне о том большом уважении, которое он и другие испытывают к президенту… В какой‑то момент… он поинтересовался у меня, действительно ли президент, такой умный, интеллигентный человек, так религиозен, как кажется, или же это делается в политических целях», – вспоминал Гарриман. Реакция российской стороны была вполне объяснима. Уманский, возможно, сообщил в Москву, что Рузвельт никогда не ходил на воскресные службы в Национальный собор – епископальную церковь, которую президенты и сливки общества из числа прихожан епископальной церкви в Вашингтоне традиционно посещали во время службы (хотя иногда он посещал церковь Сент‑Джонс на Лафайет‑сквер). Очевидно, Уманский не знал, что Рузвельт избегал Национального собора, потому что он терпеть не мог председательствующего в Вашингтоне епископа Джеймса Фримена. По приглашению епископа Фримена Рузвельт посетил Национальный кафедральный собор в 1934 году для участия в специальной службе в рамках празднования первой годовщины своей инаугурации. После службы епископ, который шел рядом с Рузвельтом, когда тот на своей коляске направлялся к автомобилю, предложил президенту, чтобы тот распорядился быть захороненным в склепе собора, как это сделали президент Вильсон и адмирал Дьюи. Затем Фримен предложил Рузвельту, чтобы тот надиктовал меморандум, «выражая свое желание быть похороненным здесь». Рузвельт, придя в ярость, ничего не ответил. Вырвавшись из лап епископа и устроившись в безопасности в своем автомобиле, Рузвельт, тем не менее, пробормотал: «Старый похититель трупов, старый могильщик»[136]. Когда чуть позже ему напомнили о предложении епископа, Рузвельт продиктовал меморандум (своим наследникам), указав, что желает быть похороненным в Гайд‑парке. Больше он никогда не посещал служб в Национальном соборе.
Гарриман сумел добиться минимума. Соломон Абрамович Лозовский, заместитель наркома иностранных дел, выждал сутки с момента отъезда Гарримана из Москвы, созвал пресс‑конференцию и зачитал следующее заявление: «Общественность Советского Союза с большим интересом узнала о заявлении президента Рузвельта на пресс‑конференции относительно свободы вероисповедания в СССР… За всеми гражданами признается свобода вероисповедания и свобода антирелигиозной пропаганды»[137]. Наряду с этим он отметил, что советское государство «не вмешивается в вопросы религии», религия является «личным делом». Лозовский завершил свое заявление предупреждением в адрес руководителей Русской православной церкви, многие из которых все еще сидели в тюрьме: «Свобода любой религии предполагает, что религия, церковь или какая‑либо община не будут использоваться для свержения существующей и признанной в стране власти»[138]. Единственной газетой в России, которая осветила это событие, были «Московские новости», англоязычное издание, которое читали только американцы. Газеты «Правда» и «Известия» проигнорировали комментарии Лозовского. Рузвельт не был доволен, поскольку он ожидал большего. Как вспоминал Гарриман, «он дал мне понять, что этого не было достаточно, и отчитал… Он подверг критике мою неспособность добиться большего».
Через несколько недель, ознакомившись с последним проектом «Декларации Организации Объединенных Наций», подготовленным Госдепартаментом, который и должны были подписать 1 января 1942 года все страны, находившиеся в состоянии войны, Рузвельт попросил Хэлла внести в документ положение о свободе вероисповедания: «Я считаю, что Литвинов будет вынужден с этим согласиться»[139]. Когда советский посол Литвинов, только что заменивший Уманского, возразил против включения в текст фразы, касавшейся религии, Рузвельт обыграл это выражение, изменив «свободу вероисповедания» на «религиозную свободу». Эта правка, по существу, незначительная и непринципиальная, позволила Литвинову, не искажая истины, сообщить в Москву, что смог заставить Рузвельта изменить документ и тем самым удовлетворить Сталина.
В ноябре 1942 года в антирелигиозной позиции советского правительства обозначились первые перемены: митрополит Киевский [и Галицкий. – Прим. пер.] Николай, один из трех митрополитов, которые руководили Русской православной церковью, стал членом Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко‑фашистских захватчиков[140]. Теперь, за два месяца до Тегеранской конференции, Рузвельт добился важных результатов и укрепил свои позиции. Сталин, который принимал участие в закрытии и/или уничтожении многих церквей, ликвидации 637 (из 1026) монастырей в России, начал рассматривать религию не через узкую призму доктрины коммунизма, а с позиции Рузвельта. Безусловно, это стало возможно в том числе благодаря тому, что церковь больше не являлась очагом сопротивления его режиму. Она объединилась с правительством в борьбе против германских захватчиков. Правительство и церковь теперь были оба защитниками матушки‑России.
4 сентября 1943 года, во второй половине дня, Сталин вызвал к себе на «ближнюю дачу» в Кунцево Г. Г. Карпова, председателя Совета по делам Русской православной церкви при Совете Министров СССР, Георгия Маленкова, члена ГКО (Государственного Комитета Обороны), и Лаврентия Берию. После обсуждения дружественной роли церкви в войне с Германией и возможного усиления этой роли в будущем Сталин объявил, что он решил немедленно восстановить патриаршество, систему церковного управления во главе с патриархом, которая была ликвидирована в 1925 году, и открыть на территории Советского Союза церкви и семинарии. Позже в тот же вечер митрополиты Сергий, Николай и Алексий были вызваны в Кремль, и Сталин сообщил им о принятых судьбоносных решениях. Сталин беседовал с ними до трех часов утра, несомненно, стремясь удостовериться в том, что они больше не вынашивают планов по подрыву советской власти. Беседа была весьма плодотворной и проходила, вероятно, в дружественной атмосфере. Сталин проявил уважение к представителям духовенства, хотя он и не верил в бога (вероятно, потому, что получил начальное образование у священнослужителей).
На следующий день в газете «Правда» была опубликована информация о том, что митрополит Сергий, известный священнослужитель, который еще при дворе царя Николая выступал против Распутина, провел двадцать пять лет в большевистских тюрьмах и высказывал мнение о том, что церковь должна помириться с советской властью, был освобожден, и ему будет разрешено созвать Архиерейский собор для избрания нового Патриарха[141]. Кроме того, сообщалось, что будет разрешено открывать и восстанавливать различные религиозные институты и что церковь сможет вновь издавать свое печатное издание. «Правда» выразила одобрение данному решению Сталина, совершенно явно дав понять, что это именно Сталин явился инициатором нового курса: «Глава правительства товарищ И. В. Сталин сочувственно отнесся к этим предложениям и заявил, что со стороны правительства не будет к этому препятствий». В течение короткого времени церковь стала частью системы, обеспечивающей право Сталина на власть.
Сталин, у которого был хороший баритон и который любил петь, принял также решение о том, что советский национальный гимн будет отличаться от международных стандартов: это было необходимо для улучшения имиджа Советского Союза. Когда Сталин был еще мальчиком, он пел в хоре в церковной школе в Гори. Когда он вырос, он продолжил петь в семинарии, иногда даже как солист хора. До тех пор, пока его не исключили из семинарии за революционную деятельность, он зарабатывал лишь тем, что был солистом хора. Как это ни странно звучит, но всю свою жизнь Сталин частенько коротал ночи (как правило, с Молотовым и Ворошиловым), распевая гимны, псалмы, православные литургические песнопения и народные песни, известные каждому русскому с детства. Возможно, с учетом этого Сталин решил, что он будет компетентен в вопросе создания нового национального гимна. Он постановил объявить конкурс, назначил самого себя судьей, которому предстояло выслушать всех конкурсантов, и определил, что состязание состоится в зале Бетховена в Москве 1 ноября 1943 года. В день проведения конкурса он в окружении Молотова, Берии и Ворошилова в девять утра прибыл в концертный зал (это был один из редких случаев, когда Сталин, известный как «сова», принял участие в утренних мероприятиях). В течение четырех часов они выслушали сорок исполнений, после чего Сталин решил, что требуется изменить текст гимна. После длительных обсуждений были выбраны тексты, одобренные Сталиным, однако он стал настаивать на внесении в них дальнейших бесконечных правок.
– Можете оставить сами стихи, – сказал он в какой‑то момент авторам текстов, – но переписать припев. «Страну Советов», если это не сложно, надо изменить на «страну социализма».
Затем он высказал пожелание добавить в текст выражение «Родина». Затем он утвердил упоминание своего имени: «И Ленин великий нам путь озарил, нас вырастил Сталин – на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». Возможно, это с самого начала являлось его целью. К работе над аранжировкой музыки, чтобы она соответствовала новому тексту, были привлечены знаменитые композиторы Дмитрий Шостакович и Сергей Прокофьев, покорные советские граждане. Сталину очень понравился конечный результат, он даже заявил, что новый гимн «прокатывается по небесам, как бескрайняя волна»[142].
Проявляя желание изменить имидж своего правительства в мире, Сталин продолжил шаги в этом направлении. 7 ноября 1943 года, в воскресенье, в Москве праздновали двадцать шестую годовщину революции. Вечером празднование продолжилось в виде грандиозного мероприятия, которое организовали Полина и Вячеслав Молотовы. Приветствуя гостей, они стояли под огромной хрустальной люстрой в величественном готическом особняке царских времен в Спиридоньевском переулке. На этот вечер пришли Гарриман с британским послом сэром Арчибальдом Кларком Керром, а также другие представители дипломатического сообщества. Присутствовали также различные генералы, адмиралы, представители творческой интеллигенции, в том числе известные писатели, музыканты (включая Шостаковича, который был во фраке). Шведский стол, необычайно щедрый, растянулся на двенадцать комнат. Многие из тостов были на английском языке, и их было так много, что Гарриман и Кларк Керр, вынужденные пить при каждом таком тосте, посчитали, что Молотов решил их споить. Один из важных членов Политбюро, Лазарь Каганович, который выпил лишнего, начал громко вести речь о том, как неэффективна была помощь со стороны американцев и англичан, и предположил, что сейчас для них настало время выполнить свои обязательства: «К настоящему времени нам поступило всего лишь два процента – два процента – от того, что нам необходимо… Каким образом вы участвуете в этой войне? Только одну рабочую смену. Красная армия свою смену отрабатывает, а англичане и американцы работают с неполной занятостью… Вам нужен мощный толчок»[143]. На него поспешили надеть пальто и меховую шапку и так быстро выпроводили его, что Гарриман даже не заметил.
Глава 4
Первое впечатление
Рузвельт славился своей чрезмерной словоохотливостью. Практически у каждого, кто хорошо его знал, был свой анекдот о склонности президента поговорить. И Рузвельт знал об этом. Он даже сам рассказывал, что как‑то, сказав своим домашним, что хотел бы провести короткое заседание кабинета, услышал в ответ: «Что ж, ты знаешь, как это можно устроить: тебе стоит лишь перестать разговаривать»[144]. Многим важным людям трудно было вставить словечко в разговоре с ним. Хэлл признавал, что, приглашая президента приехать на рабочую встречу за ланчем, «получал возможность немного перекусить первым, а потом уже сам мог поговорить, пока тот ел»[145].
Заседания правительства, по словам одного из членов кабинета, были «сольными выступлениями президента вперемешку с несколькими вопросами и очень редкими и короткими дебатами»[146]. Заместитель госсекретаря Уильям Филлипс, проведя несколько месяцев в Индии, направился в Вашингтон, чтобы представить президенту информацию о том, что там происходит: «Мне нужно было многое ему рассказать, но он был в разговорчивом настроении, и ему тоже хотелось о многом поговорить со мной – не меньше, чем нужно было поговорить с ним и мне»[147]. В конце концов, Филлипс просто написал Рузвельту служебную записку. Военный министр Генри Стимсон научился быть терпеливым, но непреклонным. Вот как описал он в своем дневнике типичное совещание с президентом: «Я должен отметить, что мне была щедро предоставлена возможность говорить в течение сорока процентов времени, а он говорил оставшиеся шестьдесят процентов, но это было нормально, и я привык к этому. У меня был список из пяти пунктов, которые я хотел с ним обсудить, и он был весьма любезен, позволяя мне прерывать воспоминания, которым он предавался, так что я смог к концу нашего совещания получить от него ответы на все пять». Джон Гюнтер, внимательный наблюдатель, журналист и биограф Рузвельта, полагал, что Рузвельт говорил так много, потому что был лишен возможности ходить: «Разговор был для него и гольфом, и теннисом, и бадминтоном»[148].
* * *
В воскресенье, 28 ноября, едва только президент прибыл в российское посольство, как в четверть четвертого пополудни Сталин нанес ему визит.
Президент оказался, наконец, лицом к лицу с самой неуловимой целью, которую ему когда‑либо доводилось преследовать. Согласится ли Сталин на то, что собирался предложить ему Рузвельт? Будет ли придерживаться условий соглашения и после того, как минует острота ситуации? Три года назад Гитлер хотел договориться о встрече со Сталиным, по крайней мере такое пожелание он высказал Молотову. И вот менее чем через год после этого германские войска вторглись в Россию. И в уме подозрительного Сталина во время этой первой встречи непременно должна была промелькнуть мысль, что Рузвельт, хоть и преодолел все это огромное расстояние и организовал эту конференцию, но, возможно, он также пытается притупить бдительность советского правительства.
Впервые после Ленина Сталину встретился человек более влиятельный, чем он сам. Рузвельт был президент, избранный на третий срок (беспрецедентный случай!), руководивший страной, имевшей на тот момент самую эффективную промышленность в мире, которая являлась теперь главным подспорьем для Советского Союза. Этот человек, этот калека, который не выглядел и не вел себя как калека, одежда на котором сидела так хорошо, что, сидя на диване, он казался не только физически нормальным, но элегантным, приехал за тысячи миль, чтобы встретиться с ним. А располагался он теперь, практически по его же собственной инициативе, в сталинском представительстве. Что, естественно, Сталин должен был подумать? Этот президент был человеком крепкой закалки.
Наступил прекрасный воскресный день, золотой и синий, мягкий и солнечный. В этот день лидеры двух стран наконец встретились в гостиной Рузвельта. Несмотря на отчаянное стремление Черчилля тоже участвовать в этой встрече, его туда не пригласили. Рузвельт, только что приехавший в посольство, прилег отдохнуть с дороги у себя в спальне, когда ему доложили, что к нему уже идет Сталин. Тем не менее Рузвельт успел перебраться на диван в гостиной и дожидаться появления Сталина там. Когда Сталин вошел в комнату, как вспоминал Майк Рейли, «он с самой располагающей улыбкой на лице направился к Боссу, очень медленно, вроде как неторопливо пересек комнату, подошел к Рузвельту и, все так же улыбаясь, нагнулся к нему, чтобы впервые пожать ему руку. Во время этого рукопожатия Босс тоже улыбнулся и сказал: «Приятно увидеться с Вами, маршал», – и маршал, в свою очередь, очень весело рассмеялся»[149].
Сталин сел. Тогда, вспоминает Рузвельт, «я поймал его на том, что он с любопытством поглядывал на мои ноги и лодыжки»[150].
Рузвельт был одет в темно‑синий деловой костюм, белую рубашку и традиционный галстук спокойных тонов, в кармане жилета виднелся платок. По обыкновению, его взгляд был открытым и ясным, а приветливая улыбка, как правило, была такой яркой, что ею можно было осветить всю комнату. Сейчас эта улыбка предназначалась Сталину.
Рузвельт славился своим обаянием и располагающей манерой общения: «Он мог заставить случайного посетителя поверить, что в тот день для него не было ничего важнее, чем эта их встреча, что именно ее он с нетерпением ждал весь день. Почти у всех в своей администрации он вызывал чувство глубокой преданности. Молодые и горячие идеалисты, старые и усталые политики, профессора, даже бизнесмены, которые сотрудничали с ним, были готовы работать в любое время дня или ночи, чтобы выполнить его волю»[151]. Как признавал Гарольд Икес, «мне никогда не доводилось встречать другого человека, которого все любили бы так же, как его»[152]. У него была особая манера запрокидывать голову, которая, казалось, придавала ему отважный вид. Людей это привлекало.
В отличие от того, каким его запомнил Гопкинс летом 1941 года, когда на Сталине были довольно мешковатые брюки, совсем не было орденов и медалей на простом, хоть и хорошего покроя, сером кителе, теперь Сталин был одет в красивый советский военный мундир нового образца. Китель был в соответствии со званием маршала горчичного цвета с красными погонами и белыми звездами на плечах, на брюках с широкими красными лампасами были прекрасно отглаженные, безукоризненно ровные стрелки. У ворота висела большая маршальская звезда. Вместо изношенных сапог, в которых видел его Гопкинс тогда, теперь на ногах Сталина были элегантные, блестящие, мягкие кавказские сапоги.
Сталин выглядел не так, как можно было ожидать. Он был ниже ростом. Он был очень невысоким, чуть выше метра шестидесяти, хотя многие, в том числе и Рузвельт, отмечали, что он казался выше, наверное потому, что был таким коренастым и крепким. У Гопкинса, который встречался со Сталиным в июле 1941 года, когда тот испытывал огромное беспокойство, поскольку германская армия находилась на подступах к Москве, также сложилось отчетливое впечатление, что Сталин выше ростом, чем на самом деле, «около метра семидесяти. Крепкого телосложения, как будто расположенный у самой земли… мечта любого тренера по регби – идеальный участник борьбы за мяч. У него были огромные сильные руки, такие же сильные, как и его ум»[153].
У Сталина были густые усы, темные волосы, густые брови, низкий лоб и медового цвета глаза, которые многие называли восточными глазами. Сталин говорил по‑русски безукоризненно правильно, но с грузинским акцентом. Этот акцент так же отличается от стандартного русского произношения, как шотландский акцент в английском языке. Кроме того, примечательно, что говорил он очень тихим голосом и в сдержанном тоне. Порой голос этот становился таким тихим, что казалось, будто он разговаривает сам с собой.
При личной встрече с ним всех также поражало, что выглядит он совсем не таким «великим человеком», как на официальных изображениях, которые, должно быть, перед публикациями основательно ретушировались. Его лицо было рябым от оспы, которой он переболел в детстве, на зубах были сколы и желтый табачный налет. Кроме того, когда он набивал трубку табаком (он попеременно курил то сигареты, то трубку), то можно было заметить, что движения его левой руки были немного неуклюжи в результате полученной в детстве травмы.
Еще одной неожиданностью была его манера общения. Хотя, по сути, он был жестоким, деспотичным, суровым и холодным, но с новыми собеседниками он общался по‑отечески, терпеливо, и казался менее опасным, чем они ожидали. Генерал Джон Дин, координатор США по ленд‑лизу и военным вопросам, направленный в Москву в 1943 году в качестве главы военной миссии, которому довелось в процессе работы на деле узнать, каким упрямым и жестким был Сталин, тем не менее писал, что, впервые встретившись с ним, «был больше всего поражен доброжелательностью выражения его изрытого глубокими морщинами землистого лица»[154]. Лорд Бивербрук, который в октябре 1941 года вместе с Гарриманом был направлен в Москву для организации первоначальных поставок в СССР в рамках оказываемой помощи, считал, что Сталин – «добрый человек, который практически никогда не выказывает нетерпения». Один из доверенных соратников Сталина писал, что трудно было представить себе, что такой человек может вас обмануть, настолько естественными, без малейшего признака позерства были его реакции. Даже Корделл Хэлл находился под благоприятным впечатлением после встречи со Сталиным. Он писал: «Любой американец, имея такой же склад личности и такое же отношение к делу, как у Сталина, вполне может достичь высоких государственных должностей и у нас в стране»[155]. Клинтон Олсон, военный атташе США в Москве, описывал его как «внешне спокойного невысокого человека, до тех пор, пока не посмотришь ему в глаза. Вот тогда можно было почувствовать, что перед вами человек влиятельный». Адмирал Лихи был среди тех немногих, кто считал, что у Сталина был «зловещий вид»[156].
По словам биографа Сталина, Саймона Сибэга Монтефьоре, он славился своим обаянием, несмотря на то что мог повергнуть в хаос своих врагов или же тех, кто, по его мнению, мог стать его врагом. Для людей своего окружения он был очень доступным и очень внимательным к ним. «Основой власти Сталина в партии, – писал Монтефьоре, – был не страх, а личное обаяние… Он был, как сейчас говорят, «человечный человек». С одной стороны, он не был способен на проявление истинного сочувствия, но в то же время, с другой стороны, умел дружить. Он то и дело терял самообладание, но когда он был намерен очаровать кого‑либо, то был неотразим». Его соратники называли его детским именем Сосо[157], или Коба, по имени отважного грузина, которым он восхищался подростком, или просто обращались к нему на «ты»[158]. Любому, кто хоть раз пообщался с ним, не терпелось увидеться с ним снова; «он создавал ощущение, что теперь между ними возникла нерушимая связь».
Наряду с этим он был крайне властным человеком, он контролировал жизнь своих соратников до мельчайших деталей. Он выбирал, где они будут жить: для Берии, главы НКВД, он выбрал роскошный дворянский особняк поблизости от Кремля; для Никиты Хрущева, молодого человека, которому он благоволил, Сталин выделил роскошные апартаменты в отделанных розовым гранитом домах на улице Грановского недалеко от Кремля. Другим членам своего внутреннего круга он решил выделить такие же квартиры в Кремле, в какой жил и он сам. Он выбирал для своих соратников автомобили, периодически выдавал им деньги и делал им и, как правило, их детям продуманные подарки.
Он был трудоголиком. Он находил время, чтобы просматривать множество новых советских фильмов, большинство газетных передовиц и новостных статей, а также всевозможные директивы, исходящие от комиссариатов, которые управляли Советской Россией, – все это первоначально направлялось в приемную Молотова. У него на столе стоял бронзовый стакан, заполненный толстыми, остро заточенными синими и красными карандашами. Одобряя фильм, передовицу, статью или директиву, он выводил по всему документу свои инициалы, «ИС», толстым синим карандашом. Если он не одобрял документ, то выводил на нем свои инициалы красным карандашом. Такие случаи глубоко расстраивали Молотова[159].
Убежденный коммунист, Сталин не слишком заботился о роскоши. Он проводил все свое время либо в своей просто обставленной квартире в Кремле, где жила его дочь Светлана, либо на даче в Кунцево, которую для него построили в 1934 году. Дача называлась «ближней», она находилась в девяти километрах от Кремля. Тут он обычно оставался ночевать, приезжая после ужина. На даче, окруженной крепким забором, было несколько спален и приемных, бильярдная, а также несколько просторных комнат, сплошь увешанных картами, и кинотеатр. Несмотря на то что дом был окружен забором, через который вряд ли можно было перелезть, и находился под постоянной охраной, там никто не оставался на ночь, кроме Сталина: он всегда был там один после того, как разъезжались его гости, приглашенные на ужин[160].
И Сталин, и Рузвельт понимали суть власти и знали, как получить и сохранить власть. Сталин стал руководить Советским Союзом после смерти Ленина в 1924 году, Рузвельт находился у власти после инаугурации в 1933 году.
Оба они отличались острым умом и прекрасной памятью, хоть и разного рода. Спичрайтер Рузвельта Сэм Розенман писал: «Я не встречал другого такого человека, который бы так быстро и глубоко вникал в суть излагаемой сложной проблемы, как он. Он внимательно слушал краткое изложение фактов, потом надиктовывал их для своего выступления, а затем поднимался на помост или за банкетным столом говорил об этом вопросе перед аудиторией так, как будто он всю жизнь об этом знал»[161]. Артур Шлезингер говорил, что у Рузвельта было «инстинктивное чутье на то, что сейчас самое главное на повестке дня. Он мастерски склеивал воедино разнообразные детали, был способен удерживать в памяти сразу множество различных проблем и переходить очень быстро от одной проблемы к другой»[162].
Сталин тоже обладал отличной способностью быстро усваивать и удерживать в памяти информацию. Кроме того, у него был еще один дар – фотографическая память. На совещаниях он работал «без бумаг», без записей, «но при этом ничего не упускал»; а память у него была «как компьютер», по словам Андрея Громыко, который позже стал послом СССР в Соединенных Штатах. Берия говорил, что Сталин «превосходил все свое окружение своим интеллектом»[163].
Те знатоки человеческого характера, которым довелось какое‑то время общаться с Рузвельтом, отмечали, что он был непревзойденным актером. Раймонд Моли, входивший в круг самых передовых умов Колумбийского университета и принадлежавший к когорте тех блестящих молодых людей, которые снабжали Рузвельта свежими идеями и были его советниками (они же придумали термин «Новый курс»), говорил, что у Рузвельта был «сознательно созданный и продуманный облик для публичных выступлений. Роль, которую он всегда играл, была неотъемлемой частью его жизни». Пегги Бэкон отмечала, что ясный и прямой взгляд Рузвельта был «откровенным и чистым взглядом ловкого, как черт, и умного, но при этом такого невинного… великого старого актера»[164]. Рузвельт даже как‑то обмолвился Орсону Уэллсу: «Знаете, Орсон, вы и я – два лучших актера в Америке»[165]. А однажды, посмотрев кадры кинохроники, в которых он увидел себя, Рузвельт улыбнулся и сказал: «Это во мне Гарбо проявилась»[166].
С другой стороны, всем было известно, что Сталин был непроницаем, как сфинкс.
Это была первая из трех встреч Сталина и Рузвельта, на которых не присутствовал Черчилль. И сам факт, что такие встречи состоялись, является лучшим подтверждением того, насколько влиятелен был Рузвельт: ведь британский премьер‑министр приходил в ярость при одной мысли о том, что может оказаться не приглашенным туда. Он знал об этой встрече, знал и то, что его не пригласили, и по меньшей мере однажды обрушил свой гнев, вызванный этим, на своего врача, который попался под руку. Его очень задевало то, что он не был приглашен. При этом еще в 1942 году сам премьер‑министр провел не одну, а целый ряд встреч со Сталиным в Москве, на которых обычно, но не всегда присутствовал Аверелл Гарриман. Целью этих встреч было лишь проинформировать Сталина об изменении ранее запланированных сроков операции «Оверлорд». «Моя поездка в Москву с Авереллом в августе 1942 года в целом проходила на более низком уровне» – так он это определил[167].
Все три встречи Рузвельта и Сталина были примечательны. Оба внимательно слушали друг друга и оценивали один другого. Они говорили о своих самых больших опасениях и самых сокровенных желаниях. Эти совещания не были похожи ни на какие другие: два руководителя обсуждали, как им обустроить послевоенный мир. Эти два человека занимались выработкой плана завершения войны. Они стремились достичь мира в свою эпоху.
В исторических описаниях этого периода двусторонним встречам Рузвельта и Сталина зачастую не уделяется должного внимания или о них не упоминается вовсе, несмотря на то, что Чарльз Болен составил стенографическую запись бесед в ходе этих встреч. Даже в знаменитой биографии «Рузвельт и Гопкинс», написанной Робертом Э. Шервудом на основе документов Гопкинса, о них говорится лишь вскользь, возможно, потому что Гопкинс не присутствовал ни на одной из этих встреч. В книге Гарримана «Специальный посланник Черчилля и Сталина», которую часто называют лучшим описанием Тегеранской конференции, эти двусторонние встречи едва упоминаются. Он лично присутствовал только на последней из них. Эти встречи не получили соответствующего освещения в истории еще и по той причине, что эта тема была слишком болезненна для Уинстона Черчилля, который не мог не только писать, но даже думать об этом. Черчилль считался главным историком этого периода, к тому же он был непревзойденным рассказчиком, поэтому исследователи чаще всего обращаются к его свидетельствам. Черчилль не зря так опасался этих частных бесед Рузвельта и Сталина. Встретившись лицом к лицу и поговорив напрямую, Рузвельт и Сталин поняли, как много между ними общего.
Их первая историческая встреча в гостиной у Рузвельта в то солнечное воскресенье продолжалась сорок минут, половину этого времени занял перевод. Первым заговорил Рузвельт. Примечательно, что разговор двух лидеров не был похож на легкую светскую беседу, однако он проходил с удивительной непосредственностью. Они легко и открыто отвечали на вопросы друг друга. В ходе этой же первой встречи проявилось замечательное сходство их мнений по различным вопросам. Не менее примечательно и то, что именно Рузвельт определил темы беседы и направлял разговор, как и на всех остальных двусторонних встречах между ними.
Рузвельт опасался, что Сталин спросит его, сколько именно немецких дивизий будут сразу же отвлечены с советского Западного фронта. Предвосхищая этот вопрос, он сразу сказал, что «он желал бы, чтобы в его власти было обеспечить отвод 30 или 40 немецких дивизий с Восточного фронта».
Сталин ответил: «Это имело бы большое значение».
Затем Рузвельт выступил с предложением «о возможности после войны предоставить в распоряжение Советского Союза часть американо‑британского торгового флота, который в совокупности больше, чем флот какой‑либо другой страны». Говоря это, он уже знал, что после войны торговый флот Америки будет самым большим в мире.
Сталин дипломатично сформулировал свой ответ в том духе, что при увеличении торгового флота, позволяющем расширить торговлю между двумя странами, «при условии, что оборудование будет отправлено… Соединенным Штатам может быть обеспечена обширная поставка сырья».
Президент вкратце обрисовал ситуацию в Китае, сообщив, что Америка осуществляет обеспечение и обучение тридцати китайских дивизий, а Объединенный комитет начальников штабов предложил подготовить и оснастить еще тридцать дивизий. Кроме того, Рузвельт рассказал о новом плане наступления через северные районы Бирмы.
Сталин отметил, что в плохой подготовке своих солдат виноваты сами китайские лидеры.
Затем Сталин поинтересовался ситуацией в Ливане, являвшемся французской колонией. Рузвельт дал краткое описание событий, в результате которых Ливан потрясли беспорядки и столкновения, и в заключение сказал: «Все это произошло в первую очередь потому, что таково отношение Французского комитета [национального освобождения. – Прим. ред.] и генерала де Голля».
8 ноября население Ливана проголосовало за окончание французского правления. Через три дня Французский комитет национального освобождения во главе с Шарлем де Голлем арестовал президента Ливана и постановил приостановить действие конституции и национального правительства Ливана. В результате на улицах начались беспорядки. Соединенные Штаты совместно с Великобританией искали способы заставить де Голля освободить президента Ливана. Рузвельт, направляясь на конференцию в Тегеран, телеграфировал Хэллу с борта «Айовы», отдав распоряжение «поддержать позицию Великобритании по Ливану и попытаться сделать ее еще более положительной». Хэлл последовал указаниям, заставив де Голля, в конце концов, пойти на попятную. За два дня до этого Хэлл опубликовал пресс‑релиз, в котором с одобрением отметил действия французского руководства, направленные на исправление создавшегося положения.
Разговаривая о Франции, Рузвельт и Сталин обнаружили, что оба они с одинаковой неприязнью относились и к самой этой стране, и к ее руководителям, особенно к Шарлю де Голлю.
Сталин упомянул о позерстве де Голля. Он сказал, что «лично не знаком с генералом де Голлем, но, честно говоря … он очень далек от реальности в своей политической деятельности. В то время, как настоящая, реальная Франция под руководством Петена [была] занята оказанием помощи нашему общему врагу Германии, предоставляя в ее распоряжение французские порты, материалы, машины и т. д. для военных нужд … проблема с де Голлем в том, что его движение не имеет никакой связи с настоящей Францией, которую следует наказать за ее позицию во время этой войны». «Де Голль ведет себя так, будто он глава великого государства, в то время как на самом деле в его распоряжении имеется, по сути дела, лишь совсем небольшая сила», – сказал в заключение Сталин.
Рузвельт, который активно противостоял усилиям де Голля выступать в качестве признанного выразителя интересов Франции, согласился со Сталиным и отметил: «Ни один француз старше сорока лет и, в частности, ни один француз, который когда‑либо принимал участие в работе нынешнего французского правительства, не должен в будущем быть допущен на руководящие посты».
Оба лидера открыто проявили свое недовольство французским народом. Сталин обрушился с критикой на французские правящие классы: «Они не должны иметь права получить какие‑либо блага от заключения мира, поскольку запятнали себя сотрудничеством с Германией». Рузвельт воспользовался при этом возможностью упомянуть мнение Черчилля о том, «что Франция очень быстро восстановится и вновь станет такой же сильной, как прежде, но что он лично эту точку зрения не разделяет, так как полагает, что Франции потребуется много лет честно трудиться для восстановления своего прежнего статуса. Он отметил, что самое главное, что сейчас должны сделать все французы (не только правительство, но весь народ), – это стать честными гражданами». Маршал Сталин согласился с этим.
Оба лидера затем выразили на удивление схожие взгляды по поводу Индокитая, как тогда называли Вьетнам. Оказалось, что они оба полагали, что Франция своим правлением нанесла непоправимый вред этой стране, а также считали, что колониализм в целом пагубно воздействует на любые страны, находящиеся под его властью.
Сталин заявил, что он не предлагает, чтобы союзники проливали кровь за восстановление старой французской колониальной власти в Индокитае. Он сказал, что недавние события в Ливане оказали большую услугу всем ранее находившимся под колониальным господством странам, которые теперь делают первые шаги в обретении независимости. Он вновь повторил свою мысль о том, что Франция не должна возвращаться в Индокитай и что французы должны заплатить за свое преступное сотрудничество с Германией.
Президент отметил, что он на сто процентов согласен с этим, и подчеркнул, что после ста лет французского правления в Индокитае его население живет хуже, чем до этого. По его словам, Чан Кайши заверил его, что Китай не имеет никаких захватнических планов в отношении Индокитая, но народ последнего еще не готов к независимости. Рузвельт сообщил, что он ответил на это китайскому генералиссимусу. Он сказал, что, когда Соединенные Штаты получили в свое распоряжение Филиппины, жители этой страны тоже не были готовы к независимости, но она им будет предоставлена вне зависимости от этого по окончании войны против Японии. Он добавил, что обсуждал с Чан Кайши возможность установления режима опеки над Индокитаем на определенный период времени, чтобы подготовить его народ к независимости, возможно, в течение двадцати или тридцати лет.
Маршал Сталин полностью согласился с этой точкой зрения.
Рузвельт упомянул о представленной Хэллом на Московской конференции идее о создании международного комитета, члены которого будут посещать все колонии «и, используя общественное мнение, будут бороться с обнаруженными там злоупотреблениями».
Сталин сказал, что считает эту мысль заслуживающей внимания.
В продолжение беседы Рузвельт подробнее остановился на проблемах, связанных с колониальными владениями. Затем Рузвельт выступил с идеей, которую Сталин мог бы расценить как еще один выпад против Черчилля, сказав в продолжение разговора на тему колониальных владений, что, «как ему кажется, лучше будет не заводить с господином Черчиллем беседы об Индии, поскольку у него пока нет конкретного решения по этому вопросу, он лишь предложил отложить его решение до конца войны».
«Маршал Сталин согласился с тем, что для англичан это был больной вопрос».
«Президент сказал, что хотел бы в ходе какой‑либо следующей встречи обсудить с маршалом Сталиным тему Индии; он полагал, что самое лучшее было бы осуществить там реформу снизу, отчасти по советскому образцу».
Возможно, Рузвельт сделал это замечание в надежде расположить к себе Сталина. Разумеется, Рузвельт знал историю прихода Ленина к власти; он был современником этих событий. Чарльз Болен, переводчик, пришел в ужас от этого замечания. «Это был яркий пример того, что Рузвельт мало знал о Советском Союзе… Он не понимал, что большевики были меньшинством, которое захватило власть в период анархии»[168], – писал он впоследствии. (Несмотря на отдельные критические комментарии о президенте, в целом Болен писал о Рузвельте, что «он был на конференции, безусловно, доминирующей персоной».)
Рузвельт проявлял то хитрость, то простодушие, а порой говорил что‑нибудь просто, чтобы увидеть, какова будет реакция на это. Видимо, в данном случае он стремился именно к этой цели. «Маршал Сталин ответил, что вопрос об Индии – сложный вопрос, там другой уровень культуры, а между кастами нет взаимодействия. Он добавил, что реформа снизу будет означать революцию»[169].
Рузвельт ничего не сказал в ответ.
И хоть в составленном Боленом протоколе встречи Рузвельта и Сталина упоминаний об этом нет, позднее Рузвельт сказал в своем расширенном интервью Форресту Дэвису, всемирно известному журналисту, что он поднял вопрос о политике добрососедства в этом разговоре (стратегии, которая отвергает традиционный американский политический подход, предполагающий вооруженное вмешательство в дела латиноамериканских стран), о которой заговорил в связи с обсуждением ситуации в Индии и по вопросу самоопределения, и что затем он перешел к рассказу о федеральной системе США. Он, очевидно, пытался объяснить Сталину взаимоотношение между исполнительной и законодательной ветвями власти, о которых у маршала сложилось неправильное представление. Кроме того, он также объяснил, почему ему приходится реагировать на принятие Конгрессом законопроектов строго в определенный период времени, что очень тревожило Рузвельта в связи с конференцией в Тегеране.
По сути дела, Рузвельт в этой короткой первой беседе выразил свое желание немедленно ослабить бремя, которое несет Красная армия, подчеркнул, что с Черчиллем поддерживает далеко не самые тесные взаимоотношения, предложил послевоенную помощь СССР в виде торгового флота и дал понять, что у США нет намерения становиться колониальной державой. Сталин, в свою очередь, выразил желание стать после войны торговым партнером Соединенных Штатов, а также сообщил, что и Россия не имеет намерений становиться колониальной державой.
Две самые главные темы обсуждения, о которых думали они оба («второй фронт» и послевоенное мироустройство), были оставлены на потом.
На следующий день они наметили еще одну такую же частную встречу наедине здесь же, в гостиной Рузвельта, в 14:45.
Первое пленарное заседание, то есть первое совместное заседание с Уинстоном Черчиллем, началось сразу же после того, как закончилась двусторонняя личная встреча Сталина и Рузвельта.
Президент, маршал, премьер‑министр и сопровождающие их лица вошли в просторный, красивый, с высоким потолком, зал заседаний, расположенный рядом с гостиной президента. В центре зала стоял большой круглый стол, покрытый зеленым сукном, а вокруг него – обитые полосатым шелком кресла с подлокотниками из красного дерева. На столе перед каждым креслом были разложены блокноты и заточенные карандаши. В центре стола стояла деревянная подставка, в которую были поставлены флаги Соединенных Штатов, Великобритании и Советского Союза. На стенах были гобелены, на окнах волнистой драпировкой висели французские шторы. На балконе, откуда хорошо просматривался весь зал заседаний, безмолвно стояли на часах советские охранники.
Все три руководителя сели за стол переговоров. Рядом с каждым из них сели трое его соотечественников. По правую руку от Рузвельта, сидевшего в своем инвалидном кресле без подлокотников, которым он обычно пользовался, расположился Гарриман, а переводчик президента, Чарльз Болен, сидел слева от него, далее за ним сидел Гопкинс. Рядом со Сталиным находились маршал Климент Ворошилов, Вячеслав Молотов и переводчик Владимир Павлов. Энтони Иден, министр иностранных дел Великобритании, лорд Исмей, заместитель военного министра, и переводчик Черчилля майор Бирс заняли места рядом с премьер‑министром. Позади этого первого круга стульев рядами были поставлены стулья для других участников конференции.
Это пленарное заседание, как и все последующие, разительно отличалось от личных встреч Рузвельта и Сталина. Предметом обсуждения вместо политических соображений были стратегические вопросы военной кампании, боевые и тактические задачи. Как правило, Черчилль занимал одну позицию по этим вопросам, а Рузвельт и Сталин отстаивали противоположную точку зрения.
Рузвельт определял характер этих заседаний и руководил их ходом, но сам он говорил необычайно мало. По молчаливому согласию он открывал каждое заседание. Он не захотел, чтобы составлялась официальная повестка дня заседания, поэтому их вообще не составляли. Он (в большинстве случаев) сам решал, о чем будет идти речь. Во время своих выступлений он часто снимал пенсне и помахивал им, желая подчеркнуть сказанное.
То первое заседание он открыл словами о том, что для него, младшего из трех присутствующих глав государств, большая честь приветствовать их здесь.
– Впервые мы собрались здесь, за этим столом, как одна семья, и все мы стремимся лишь к одному – победить в войне – так начал он свою речь.
Затем он сказал, что им предстоит обсудить многое другое, «для достижения конструктивного согласия с тем, чтобы сохранить тесный контакт на протяжении всей войны и после войны». Тут он сделал любопытное предупреждение: «Если кто‑нибудь из нас не захочет говорить на какую‑либо конкретную тему … нам не следует ее обсуждать».
Со всей присущей ему дипломатичностью Рузвельт (повернувшись не к хозяину, Сталину, как следовало бы, а к Черчиллю) сказал, что прежде, чем приступить к обсуждению военных вопросов, «возможно, премьер‑министр хотел бы сказать что‑то по вопросам, касающимся последующих времен».
Премьер‑министр ответил весьма красноречиво:
– В наших руках находится… будущее человечества. Я молюсь, чтобы мы были достойны этой дарованной Богом возможности.
Сталин, которого Рузвельт попросил затем выступить, поприветствовал собравшихся и сказал:
– Я думаю, что история покажет, что у этой возможности огромное значение… Теперь давайте к делу.
Затем Рузвельт приступил к изложению общей ситуации на Тихоокеанском театре военных действий, где «основные боевые действия велись Соединенными Штатами». Он сказал: «Мы считаем, что топим так много японских военных кораблей и гражданских судов, что японская сторона не в состоянии, видимо, восстанавливать их количество… К западу от Японии необходимо удерживать Китай в состоянии войны с ней. В связи с этим мы спланировали операции на территории Северной Бирмы и в провинции Юньнань», что позволит проложить войскам путь в Китай. «Мы, безусловно, должны удерживать Китай в состоянии активной фазы войны».
Затем президент сказал, что он переходит к разговору о наиболее важном театре военных действий, о Европе, и поднял вопрос об открытии «второго фронта». Он сделал легкий кивок в сторону Черчилля и сказал, что «хотел бы подчеркнуть, что вот уже более полутора лет в ходе последних двух или трех конференций в Касабланке, Вашингтоне и Квебеке… наши планы по большей части строились вокруг проведения кампании против «оси» с переброской войск через Ла‑Манш».
Затем он коснулся проблем, которые были сопряжены с такой операцией: «Мы так и не смогли согласовать определенную дату ее проведения, во многом из‑за трудностей, связанных с транспортировкой. Мы хотим не только пересечь Ла‑Манш, но, оказавшись на материке, мы намерены продвигаться в глубь территории Германии. Однако начать такую операцию будет невозможно вплоть до приблизительно 1 мая 1944 года». Затем он упомянул о возможности приведения в исполнение англо‑американских военных планов в Средиземноморье – Адриатическом и Эгейском морях, – отметив, правда, при этом, что «любая большая операция в Средиземном море» будет нести риск для России, поскольку если нечто подобное будет предпринято, то «придется отказаться от важной операции по переброске войск через Ла‑Манш; кроме того, проведение некоторых запланированных средиземноморских операций может привести к задержке начала операции «Оверлорд» на один, два или три месяца».
Затем он передал слово Сталину, сказав, что цель англо‑американской военной политики заключается в том, чтобы прийти на помощь Советскому Союзу, а также, что окончательное решение по проведению операций в Средиземном море принадлежит Сталину, тем самым дав Сталину возможность озвучить свои требования: «Я искренне надеюсь, что в ходе текущей военной конференции, на которой присутствуют два советских маршала, у нас будет возможность услышать их мнение и что они проинформируют нас, каким образом, на их взгляд, мы можем оказать наибольшую помощь СССР». (Говоря о другом маршале, Рузвельт имел в виду Ворошилова, с которым Сталин на самом деле никогда не удосуживался что‑нибудь обсуждать и даже вообще не обращал на него внимания.)
Затем слово было предоставлено Черчиллю. Его высказывание теперь, задним числом, представляется весьма характерным. В то время как Рузвельт использовал слово «мы» для определения совместных англо‑американских военных операций, Черчилль применил его, чтобы обозначить, что Рузвельт говорил от имени их обоих, что они были одной командой. Вот что сказал премьер‑министр: «Нам хотелось бы знать, что мы можем сделать, чтобы наиболее существенно помочь в том, что Советы делают на своем Западном фронте… Мы пытались определить положение дел в самых простых выражениях. Между Великобританией и Соединенными Штатами нет принципиального расхождения во мнениях, не считая вопросов выбора “способов и средств“».
Сталин знал, что это не так. За месяц до тегеранской встречи, на конференции в Москве, Черчилль поручил министру иностранных дел Энтони Идену[170] «дать понять»[171] Сталину, что «данные ему заверения о том, что сроки начала операции “Оверлорд“, назначенные на май, подлежат пересмотру в связи с определенными условиями и должны быть изменены в соответствии с остротой ситуации на итальянском фронте. Я обсуждаю этот вопрос с президентом Рузвельтом, но ничто не повлияет на мою решимость не сворачивать на данном этапе сражение в Италии». Генерал Маршалл, который предвидел именно такое развитие событий, немедленно направил Сталину сообщение Объединенного комитета начальников штабов ВС США. Он заявил, что у них нет никаких сомнений, что операция «Оверлорд» не будет отложена ни при каких обстоятельствах, не говоря уже о полной ее отмене.
Сталин в это время рисовал что‑то в блокноте красным карандашом. Затем, не обращая внимания на Черчилля, самым непринужденным образом он сказал о том, что Советский Союз может принять участие в войне против Японии. Он произнес очень негромко, так, что разобрать это мог только сидевший рядом с ним переводчик Павлов: «После того как Германия будет окончательно разгромлена, тогда станет возможно отправить необходимое подкрепление в Сибирь, а затем мы сможем, выступив общим фронтом, разгромить Японию».
При этом присутствовал Гопкинс. «Затем, – отметил он, – Сталин продолжил как ни в чем не бывало рисовать что‑то в блокноте». Тот рисовал волков.
В молодости, в предреволюционной России, Сталина девять раз арестовывала царская охранка. Восемь раз он бежал из мест ссылки, различных городов Сибири. Однажды, при побеге из Сольвычегодска, расположенного в отдаленном районе Сибири города, известного центра торговли пушниной, он даже переоделся женщиной. За девять лет, последовавших за его первым арестом в 1908 году, на свободе он находился лишь полтора года. Именно в тот период, находясь на нелегальном положении в Санкт‑Петербурге, он стал основателем и первым редактором газеты «Правда». Вскоре после распространения первого номера этой газеты Сталина снова обнаружила охранка, и он опять был сослан в Сибирь. В последнюю ссылку Сталин был отправлен в Курейку, глухую сибирскую деревушку недалеко от Полярного круга. Охранка определила ему это место ссылки, потому что всякий раз, как он оказывался в более‑менее обыкновенном тюремном заключении, он подкупал своих охранников или же пускал в ход свое недюжинное коварство и устраивал побег. Курейка же находилась в таких суровых природных условиях и представляла собой крошечную деревушку в тундре, окруженную со всех сторон волчьими стаями, что сбежать оттуда было невозможно. Он получил свободу лишь в 1917 году, после падения царского правительства.
Но забыть волков Сталин не смог. Впоследствии всю жизнь, как только его рука начинала выводить на бумаге какие‑то рисунки, на этих рисунках были изображены только волки. (Он и обычно вел себя именно так, но в данном случае он начал непроизвольно их рисовать, когда прозвучало упоминание о «Сибири»).
После того как Сталин заявил о готовности его страны вступить в войну против Японии, все ненадолго замолчали, а затем он заговорил о развитии событий на советско‑германском фронте. Он заявил, что «успехи, которых они достигли этим летом и осенью, превзошли все ожидания». После этого он сообщил о том, какое количество боевых дивизий, как немецких, так и иностранных (венгерских, финских, румынских), брошено против Советской армии. При этом он отметил, что Красная армия имеет численное превосходство над немцами, и добавил, что «самое сложное, с чем приходится сталкиваться продвигающимся вперед советским войскам, это проблема недостаточного снабжения, поскольку немцы при отступлении уничтожают буквально все». Кроме того, Сталин подверг критике военную кампанию союзников в Италии как стратегически неэффективную. Он сказал, что, по мнению советских военачальников, «Гитлер стремится удержать как можно больше дивизий союзников на этом фронте, где нельзя добиться решения ни одной стратегической задачи, и что лучше всего, по мнению советского военного руководства, было бы вести наступление непосредственно на центральные районы Германии, продвигаясь с северной или северо‑западной части территории Франции, а также через юг Франции».
Вслед за Сталиным выступал Черчилль. Он начал с заявления, что «Соединенные Штаты и Великобритания уже давно пришли к единому мнению о необходимости операции с переправой через Ла‑Манш и что эта операция, которая получила кодовое наименование “Оверлорд“, в настоящее время требует огромных усилий и затрат со стороны союзников». Затем он пустился в подробное описание операций британских и американских войск в Северной Африке, в Италии и в Средиземном море, отметив, что Рим необходимо взять и что это планируется осуществить в январе. В таком случае операцию «Оверлорд» можно будет начать через шесть месяцев после того, «как мы возьмем Рим и разгромим там немецкие войска». Затем премьер‑министр подробно говорил о том, насколько высока вероятность вступления Турции в войну, о том, как это было бы желательно и что это будет означать необходимость обеспечения ее армии. Он отметил, что «предлагалось направить туда 20 эскадрилий истребителей и несколько зенитных полков», и добавил, что широкомасштабная подготовка к отправке в Турцию этих сил «ведется уже давно». В завершение он задал вопрос, насколько какая‑либо из предполагаемых операций в Средиземном море вызывает интерес у Советского Союза при учете того, что осуществление этих операций повлечет за собой задержку начала операции «Оверлорд» на два или три месяца. Кроме того, Черчилль сказал, что «они с президентом Рузвельтом не принимали пока никакого решения, не узнав мнения советского руководства по этому вопросу, и, таким образом, не составляли еще конкретных планов этих операций».
Рузвельт попытался отвлечь внимание от того, что говорил Черчилль (и, вероятно, одновременно обратиться к Сталину), и выступил с предложением, «предположительно, провести операцию в северной части Адриатического моря, чтобы выйти на соединение с партизанами Тито, а затем направиться на северо‑восток в Румынию на соединение с советскими частями, которые перейдут в наступление из района Одессы». Это заявление так встревожило Гопкинса, что он поспешно написал записку адмиралу Кингу: «Кто стоит за всеми этими адриатическими затеями?» Кинг ответил: «Насколько я знаю, это его собственная идея».
Сталин не произнес ничего. Черчилль невозмутимо продолжил говорить. Он продолжал развивать так полюбившийся ему план сражения: «Если мы возьмем Рим и разгромим там немецкие войска».
Сталин ответил:
– Лучше было бы взять операцию «Оверлорд» за основу всех военных кампаний 1944 года. Таким образом, после того как Рим будет взят, освободившиеся силы можно будет направить на юг Франции.
Рузвельт отметил, что для операции, направленной на южную часть Франции, можно будет выделить восемь или девять французских дивизий.
Черчилль снова заговорил о Турции.
Сталин повторил:
– Эти операции целесообразно проводить лишь при условии, что Турция вступит в войну.
Он вновь отметил, что полагает, что этого не случится. (Всего через несколько дней в Каире подтвердилось, что Сталин был прав. По приглашению Черчилля туда приехал президент Турции Исмет Иненю. Но Черчиллю даже при поддержке со стороны Рузвельта не удалось убедить его вступить в войну.)
Тут Черчилль опять стал выдвигать аргументы в пользу активной военной кампании в Средиземноморье. Он вновь упомянул о периоде в шесть месяцев после взятия Рима, во время которого «ни он, ни президент ни в коем случае не хотели бы, чтобы их войска бездействовали, поскольку, если они будут участвовать в военных операциях, то британские и американские власти не будут подвергаться критике за то, что они допускают, чтобы Советский Союз один нес основное бремя войны».
Но Сталин не собирался с этим соглашаться. Он предложил провести наступление на юге Франции за два месяца до операции «Оверлорд», а взятие Рима отложить.
Черчилль привел еще один аргумент в пользу необходимости взятия Рима, но тут уже настойчиво вмешался Рузвельт, сказав, что «он лично считает, что проведение операции “Оверлорд“ нельзя откладывать ни по каким причинам, но такая задержка может оказаться неизбежной, если будут проводиться какие‑либо операции в восточной части Средиземного моря». В связи с этим он предложил, «чтобы завтра утром сотрудники аппаратов руководителей разработали план операций наступления на юг Франции»[172].
Черчилль с неохотой согласился на это, но вновь поднял вопрос о возможности вступления Турции в войну. Рузвельт поддержал точку зрения Сталина, что этого не случится. Он заявил, что «если бы он был на месте президента Турции, то потребовал бы за это так много самолетов, танков и другой техники и снаряжения, что если бы это требование было бы выполнено, то операцию “Оверлорд“ вообще пришлось бы отложить на неопределенный срок».
Сталин добавил, что турки уже ответили отказом на предложение вступить в войну.
На это премьер‑министр сказал, что, по его мнению, турки просто сумасшедшие.
Маршал Сталин сказал, что, очевидно, некоторые предпочитают оставаться сумасшедшими.
Все мнения были высказаны предельно ясно.
Заседание завершилось в 19:20.
Врач Черчилля, лорд Моран, пришел повидать премьер‑министра сразу после окончания заседания: “Он выглядел таким подавленным, что я даже вопреки моей весьма разумной привычке его ни о чем не расспрашивать на этот раз решился спросить его напрямую, не случилось ли какой‑нибудь неприятности.
Он коротко ответил: «Случилось много всяких чертовых неприятностей. Говорить об этом ему не хотелось»[173].
Фельдмаршал Алан Брук, начальник штаба Великобритании и высший британской военный руководитель, пришел к мысли, что Рузвельт занял крайне невыгодную для британцев позицию, а его вступительное слово Брук назвал «слабым и не слишком полезным выступлением»[174].
Брук был прав в том, что обсуждение на заседании постепенно превратилось в пререкания, но не совсем справедлив, считая вступительное слово президента слабым. Рузвельт начал с того, что подчеркнул: крупномасштабные действия в Средиземноморье могут задержать открытие «второго фронта». Он преднамеренно не стремился занять такую позицию, которая играла бы на руку Черчиллю. Было очевидно, что Рузвельт сознательно не встал на сторону Черчилля и что в результате по окончании первого пленарного заседания Черчилль был в отвратительном настроении, а Сталин – в отличном.
События на конференции развивались так, как и хотелось Рузвельту. Это касалось как открыто высказанных мнений, так и того, что осталось недосказанным. На конференции постепенно выяснилось, что умонастроения Рузвельта и Сталина очень похожи. Черчиллю не оставалось ничего другого, как в одиночку стараться с прежним упорством склонить Рузвельта и Сталина к такому стратегическому курсу, который, как стало ясно впоследствии, не устраивал ни одного из них. Черчилль был глубоко разочарован. «Поскольку англо‑американские планы не были предварительно согласованы, мы очутились в неприятной ситуации, когда приходилось обсуждать вопросы с американцами прямо в присутствии русских»[175], – говорил он позже членам своего военного кабинета министров.
В какой‑то момент президент попросил Сталина сфотографироваться с ним и с Черчиллем: Сталин с трубкой, Рузвельт с сигаретой в мундштуке, а Черчилль с сигарой. Но Сталин отклонил эту просьбу. Позже Рузвельт сказал: «Думаю, ему показалось, что это может показаться несерьезным»[176].
До обеда оставался час. Рузвельт использовал это время для того, чтобы подписать четыре законопроекта Конгресса и просмотреть свою корреспонденцию.
Обед
В 20:30 Рузвельт дал обед в честь премьер‑министра и маршала и их штабов, который был приготовлен моряками‑филиппинцами, привезенными им с собой. Однако сначала он приготовил коктейли, сам смешав их, как он обычно делал, когда находился дома. Этим вечером он угостил приглашенных классическим мартини: много вермута, и сладкого, и сухого, чуть меньше джина, все заливается в кувшин со льдом, а затем перемешивается. Отвечая на вопрос Рузвельта, понравился ли ему этот коктейль, Сталин ответил: «Все хорошо, только он холодит живот». (Обычно было несколько рискованно пробовать эти коктейли, поскольку Рузвельт делал свои мартини, смешивая аргентинский вермут и недостаточно качественный джин, что давало в результате «весьма грозную» смесь. Однако никто не смел жаловаться, опасаясь испортить Рузвельту любимый им ритуал.)
На обед было простое, традиционное американское блюдо: стейк и жареная картошка; поднимая тосты, вместо водки пили бурбон.
Рузвельта привезли в столовую в инвалидной коляске еще до появления других гостей и заранее усадили за стол. На обеде присутствовали Сталин, Молотов, Черчилль, Иден, Кларк Керр, Гопкинс, Гарриман и три переводчика. Маршала Ворошилова не было. Заняв место справа от Рузвельта, Сталин обратился к своему переводчику и сказал ему:
– Скажите президенту, что я теперь понимаю, что значило для него проделать такой длинный путь. Скажите ему, что в следующий раз я поеду к нему[177].
Рузвельт заметил, что, вероятно, будет планировать поездку на Аляску, после чего началась дискуссия о том, где и когда они могут встретиться в следующий раз. Была достигнута предварительная договоренность о встрече в Фэрбенксе на Аляске, в отношении чего Сталин высказался, что это было «вполне возможно».
После этого Сталин высказал свое глубокое отвращение к Франции и ее руководителям. Его негодование в отношении Франции имело глубокие корни. Франция сделала все, что было в ее силах, чтобы предотвратить установление советской власти в России. В 1918 году она направила войска, воевавшие на стороне Белой армии против большевиков, являлась вдохновителем тайных планов по организации экономической блокады, направленной на то, чтобы вынудить большевистское правительство пойти на уступки, а в середине 1930‑х годов, когда Гитлер стал угрожать Европе, уклонилась от подписания договора с Советским Союзом, что не только заставило Советский Союз пойти на подписание договора с Гитлером (чтобы предотвратить войну с Германией), но и позволило Гитлеру начать без всякого сопротивления завоевание Европы. Великобритания в этих событиях выступала в качестве соучастника Франции, но англичане искупили свою вину героической защитой своей родины под руководством Черчилля. Они смогли дать отпор Гитлеру, в то время как Франция совершила непростительный грех – сдалась. Именно этот финальный «удар милосердия» привел Сталина в бешенство: французский народ оказался настолько труслив, что германская армия захватила страну за пять недель.
И теперь, излагая свою точку зрения перед присутствовавшими, Сталин заявил, что «весь французский правящий класс прогнил до мозга костей и предал Францию немцам, и сейчас Франция на самом деле активно помогает нашим врагам». Он отметил, что было бы «опасно оставлять у французов после войны какие‑либо важные стратегические позиции».
Рузвельт ответил, что он «отчасти» согласен с этим мнением и что именно по этой причине он считает: лица старше сорока лет должны быть исключены из любого будущего правительства Франции. Он упомянул Дакар в Сенегале, французской колонии, самую западную точку на Африканском континенте, как «прямую угрозу США»[178], и Новую Каледонию, на которой совсем недавно были размещены ВМС США, поскольку по своему расположению эта заморская территория Франции представляла угрозу для Австралии и Новой Зеландии. Обе колонии, по его идее, должны быть переданы под международную опеку: «Это было бы не только несправедливо, но и опасно, если после войны у французов останутся какие‑либо важные стратегические позиции».
Черчилль придерживался совершенно другого мнения о Франции, поэтому он сменил тему, заявив, что Великобритания «не стремилась и не рассчитывала приобрести какие‑либо дополнительные территории». Это заявление, вероятно, должно было напомнить Рузвельту и Сталину о том, какие обширные территории по‑прежнему контролировались Англией.
Тем не менее Сталин продолжил разговор о Франции. Этой стране нельзя доверить никаких стратегических владений за пределами ее собственных границ, заявил он. Черчилль возразил, что Франция была побежденной нацией и страдала от ужасов оккупации.
– Напротив, – ответил Сталин, – ее руководители организовали капитуляцию страны и «открыли фронт» перед германскими войсками.
Рузвельт перешел к теме, которой они пока еще не касались: к Германии. Он хотел бы, по его словам, чтобы сама концепция рейха была стерта в немецком сознании, «чтобы само это слово… исчезло из языка».
Сталин ответил примерно в таком же духе, наряду с этим он подчеркнул, что недостаточно уничтожить только слово «рейх»: «Надо, чтобы сама концепция рейха стала бессильной когда‑либо вновь ввергнуть мир в пучину войны… И пока победоносные союзники не обеспечат себе стратегические позиции, необходимые для предотвращения рецидива германского милитаризма, они не смогут решить этой задачи»[179].
Затем Сталин поднял тему о послевоенных границах Польши, заявив, что хотел бы помочь полякам получить границу вдоль Одера.
Однако Рузвельт не был готов обсуждать со Сталиным вопрос о послевоенных границах, поэтому он изменил тему и поднял вопрос, представлявший для Советского Союза безусловный интерес: обеспечение выхода к Балтийскому морю. Он выдвинул идею о необходимости создания международной структуры для обеспечения свободного плавания через Кильский канал, который, согласно Версальскому мирному договору, имел международно‑правовой режим, но находился под германским контролем. Имея длину около 100 километров, канал избавлял суда от необходимости проделывать путь длиной более 400 километров по бурному морю вокруг Дании. Гитлер закрыл этот канал для других стран.
Из‑за ошибки перевода Сталин вместо «Балтика» услышал «Прибалтика» и немедленно обиделся: «Он в категорическом тоне ответил, что прибалтийские страны, выразив волю народа, проголосовали за присоединение к Советскому Союзу и что с учетом этого факта данный вопрос не поднимается для обсуждения». Когда ошибка была исправлена, он согласился с мнением президента.
Рузвельт вернулся к теме отдаленных владений. У него вызывал глубокую озабоченность вопрос опеки колониальных территорий. И теперь он обнародовал «концепцию, которая ранее никогда не разрабатывалась»: бывшие колониальные владения должны управляться «коллективным органом, таким как Объединенные Нации».
Но прежде, чем он успел изложить подробности, он вдруг буквально позеленел, и пот крупными каплями покатился по его лицу. Он приложил ко лбу дрожащую руку. Гопкинс прикатил президента на коляске в его комнату. Там его осмотрел его личный врач, вице‑адмирал Росс Макинтайр, у которого на мгновение, пока он не произвел осмотра, возникла мысль, что президента, возможно, отравили. Однако затем он быстро понял, что случай не был серьезным и что у президента просто расстройство пищеварения в легкой форме. Макинтайр вернулся к обедавшим и сообщил Сталину, что Рузвельта можно будет увидеть в десять утра следующего дня.
В отсутствие Рузвельта отношения между Сталиным и Черчиллем стремительно ухудшились. Сталин поднял глаза на премьер‑министра и произнес:
– Что ж, я рад, что здесь есть тот, кто знает, когда время идти домой[180].
Черчилль что‑то ответил Сталину. Когда ответ Сталина был переведен, по словам Майка Рейли, «Уинстон так громко и сердито отреагировал, что все достаточно легко услышали его. Находясь лицом к лицу со Сталиным и грозя ему пальцем, Черчилль заявил: «Но вы же не позволите мне заниматься вопросами, касающимися вашего фронта, а мне бы хотелось добиться этого!» Сталин очень спокойно улыбнулся и ответил: «Нельзя исключать, что когда‑нибудь это можно будет устроить, господин премьер‑министр. Возможно, тогда, когда у вас появится фронт, на котором я также смогу побывать»[181].
После этого напоминания о том, что «второй фронт» до сих пор не открыт, Сталин и Черчилль обратились к теме о том, как будет необходимо поступить с Германией после войны, и по этому вопросу у них продолжали сохраняться разногласия.
Черчилль хотел быть уверенным в том, что Германия выйдет из войны достаточно сильной, чтобы быть способной уравновешивать влияние России в Европе: как он пытался успокаивающе объяснить, сильной, но не представляющей опасности.
Сталин, который, как всегда, проявлял обеспокоенность в связи с возможностью возрождения сильной в военном отношении и воинственной Германии, не был удовлетворен теми мерами, которые были предложены Черчиллем. Эти меры включали, в частности, организацию постоянного контроля на предприятиях Германии и разделение ее территории. По его мнению, указанные меры были «недостаточными для предотвращения возрождения германского милитаризма». Он добавил (хотя это было не совсем логичное заключение), что он лично спрашивал у пленных немцев, почему они разрушали русские дома, убивали русских женщин, и так далее, и что единственный ответ, который он слышал, был следующий: им приказали это делать.
Пользуясь отсутствием Рузвельта, Черчилль поинтересовался у Сталина, «нельзя ли было обсудить вопрос о Польше». Сталин неохотно согласился. После некоторого обсуждения этой темы Черчилль заявил, что он хотел бы, чтобы Польша переместилась в западном направлении тем же образом, как солдаты на строевых занятиях выполняют команду: «Влево сомкнись!» Он проиллюстрировал свою точку зрения на трех спичках, которые изображали Советский Союз, Польшу и Германию.
Сталин ответил, что этот вопрос требует дальнейшего изучения.
В отсутствие президента Сталин высказал вслух обеспокоенность тем, что принцип безусловной капитуляции без определения ее точных условий «может способствовать объединению немецкого народа». Он согласился с этим еще в октябре на Московской конференции, на которой он также неохотно дал согласие на включение Китая в число «международных полицейских» в качестве четвертого их члена. Хэллу пришлось прибегнуть к угрозам в вежливой форме, упомянув возможность оказания помощи Китаю вместо России, чтобы вынудить Молотова согласиться с тем, чтобы Китай стал четвертой стороной, подписывающей Декларацию, а также с тем, что четыре страны будут сражаться до тех пор, пока Германия и Япония «не сложат своего оружия на основе безоговорочной капитуляции».
Учитывая, что Болен продолжал записывать их беседу даже в отсутствие Рузвельта, Сталин и Черчилль понимали, что он представит президенту свои комментарии. В этой связи можно предположить, что Сталин выразил свои опасения по поводу безоговорочной капитуляции с тем, чтобы быть уверенным, что у президента не останется никаких сомнений относительно его, Сталина, позиции по этому вопросу.
На следующий день Черчилль попытался встретиться с Рузвельтом наедине еще до пленарного заседания. Он послал президенту записку с предложением о совместном завтраке. Рузвельт «вежливо» отказался. Гарри Гопкинс, выступая в качестве посредника Рузвельта, пытался смягчить удар по самолюбию премьера, пояснив, что Черчиллю следует рассматривать данный отказ как часть кампании Рузвельта, направленной на то, чтобы заручиться доверием Сталина, той кампании, которая в случае успеха позволила бы устранить проблемы в общении со Сталиным в будущем. Черчилль должен был бы попытаться понять этот аргумент. Однако премьер‑министр по‑прежнему чувствовал себя уязвленным в связи с «дистанцированием» Рузвельта от него. Лорд Моран, его личный врач, который видел Черчилля сразу же после того, как тот получил записку с отказом на свое предложение, вспоминал, что премьер‑министр выглядел «очевидно подавленным»[182] и пробормотал: «Это на него не похоже».
Глава 5
Единомыслие
На следующее утро, 29 ноября, Рузвельт поработал над своей почтой и спокойно позавтракал вместе со своими домочадцами.
Сталин в сопровождении Молотова появился в гостиной у Рузвельта для второй встречи в 14:45. Франклин, как и в прошлый раз, сидел на диване. Двое русских придвинули к нему кресла. На встрече присутствовал также Эллиот Рузвельт, который только что прилетел из Египта. Сталин предложил президенту и Эллиоту по папиросе, которые торчали из папиросной коробки. Они оба взяли папиросы, вежливо сделали несколько затяжек и положили их.
Рядом с Рузвельтом находились документы, которые он передал маршалу Сталину. Первый документ представлял собой отчет Управления стратегических служб (УСС)[183] США от майора Линна Фэриша, связника УСС у Иосипа Броз Тито (коммунистического лидера Югославии), который занимался поиском сбитых американских летчиков и тайно вывозил их из страны. Фэриш, который несколько раз сбрасывался в Югославию на парашюте, только что вернулся из своей последней миссии. Его информация о деятельности партизан под командованием Тито по спасению сотен американских летчиков помогла обеспечить поддержку США для Тито.
Затем Рузвельт передал маршалу предложение о том, чтобы предоставить возможность американским самолетам пользоваться авиабазами на Украине. Американцы уже начали воздушные налеты на Берлин, и эти налеты были достаточно масштабными и результативными. Как сообщали газеты, «в ожидании новых воздушных налетов союзников бóльшая часть административных структур Рейха переезжает из Берлина». Если бы бомбардировщики, которые взлетали с авиабаз в Италии и Англии для нанесения ударов по целям «стран оси», могли садиться на Украине для дозаправки и новой бомбовой загрузки, их удары могли бы стать еще более результативными. Организация таких челночных бомбардировок могла бы нанести противнику еще больший ущерб.
После этого Рузвельт вручил Сталину два документа, подготовленных комитетом начальников штабов ВС США и касавшихся возможного участия России в войне против Японии. Он сопроводил это фразой о том, что «он был бы счастлив услышать что‑либо от маршала в отношении разгрома японских войск»[184]. Один документ касался заранее спланированных и согласованных воздушных операций двух стран в предстоящей войне против Японии, другой – морских операций. Сталин просмотрел первый документ и согласился с идеей о необходимости заранее спланированных и согласованных воздушных операций. Однако при изучении документа о морских операциях он прервался.
– Господин президент, – сказал он, – вы часто говорите мне, что должны проконсультироваться со своим правительством перед принятием решений. Вам следует понимать, что у меня тоже есть правительство и что я не всегда могу действовать без согласования с Москвой[185].
Рузвельт принял это частичное обещание сотрудничества.
Затем президент сосредоточился на своей любимой теме: организации мирного послевоенного устройства мира. По его словам, он с нетерпением ожидал возможности обговорить этот вопрос (в неофициальной обстановке) со Сталиным. Когда Молотов в прошлом году прилетел в Вашингтон специально для того, чтобы обсудить открытие «второго фронта», в котором Москва была крайне заинтересована, Рузвельт начал свою беседу с ним с обсуждения послевоенного устройства мира. Молотов держал Сталина в курсе их переговоров, каждую ночь направляя в Москву телеграммы. Сталин, похоже, благосклонно отнесся к идее создания сильной международной организации.
Рузвельт был удовлетворен положительным ответом Сталина и Молотова, однако этот обмен мнениями происходил, когда Советский Союз находился в смертельной опасности, когда германские войска продолжали завоевывать обширные территории России, грабя их и разрушая все на своем пути, когда Сталин крайне нуждался в американской помощи и был вынужден обращаться за ней. В это суровое лето 1942 года Сталин был готов согласиться с любым хоть сколько‑нибудь разумным предложением, если только он полагал, что это может ускорить открытие «второго фронта», который бы оттянул на себя часть германских войск из России. Но сейчас ситуация была уже другой. Находясь теперь наедине со Сталиным, Рузвельт вновь обозначил контуры предлагаемого международного органа:
– Это будет крупная, всемирная организация, в которую войдут около тридцати пяти членов Объединенных Наций. Они будут периодически проводить встречи в разных местах, обсуждать различные вопросы и вырабатывать рекомендации для меньшего по численности органа. Предполагается создание исполнительного комитета, который будет заниматься вопросами гражданского характера, такими, как сельское хозяйство, продовольствие, здравоохранение, экономика. Этот комитет будет состоять из представителей десяти стран: Советского Союза, Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, Китая, еще двух европейских государств, одного южноамериканского государства, одного государства ближневосточного региона, одного государства Дальнего Востока и одного британского доминиона. Эта группа будет собираться в различных местах.
Здесь президент заметил, что «господину Черчиллю это предложение не понравилось по той причине, что Британской империи предоставляется только два голоса»[186].
Сталин поинтересовался, будут ли рекомендации этого органа носить для всех стран обязательный характер.
Рузвельт ответил:
– И да и нет.
Однако затем, давая более развернутое пояснение, он дал понять, что однозначно «нет», поскольку, как он признался, считает, что Конгресс не согласится связать себя такими обязательствами.
– Власть будет сосредоточена в руках третьего органа, – продолжал президент, – состоящего из четырех «международных полицейских»: СССР, США, Великобритании и Китая. Эта организация будет иметь полномочия незамедлительно решать проблемы, связанные с возникновением какой‑либо угрозы миру или какой‑либо непредвиденной чрезвычайной ситуации, требующей соответствующих действий[187]. Если бы такая организация существовала в 1935 году (продолжил он), то она закрыла бы Суэцкий канал и тем воспрепятствовала бы нападению Италии на Эфиопию.
Сталин немедленно указал на имевшуюся проблему:
– Европейское государство может оказаться недовольно тем, что у Китая будут определенные механизмы воздействия на него[188].
В качестве возможной альтернативы он предложил создать Европейский или Дальневосточный комитет и Европейскую или всемирную организацию. Развивая свою мысль, он предположил, что европейская структура могла бы включать Соединенные Штаты, Великобританию, Советский Союз и «возможно, еще какое‑либо европейское государство».
Рузвельт как раз пытался отойти от принципа региональных сфер влияния: этот принцип не смог предотвратить ни одной из мировых войн. Рузвельт отметил, что у Черчилля была похожая идея: создать региональные комитеты, один для Европы, один для Дальнего Востока и еще один для американского континента, предполагая при этом, что Соединенные Штаты станут членом европейской структуры. Однако президент отверг эту идею, подчеркнув, что он «сомневается в согласии Конгресса США на участие Соединенных Штатов исключительно в Европейском комитете, который может обязать американскую сторону направить в Европу американские войска»[189].
Сталин указал на то, что концепция создания всемирной организации, предлагаемая Рузвельтом, и, в частности, идея о четырех «международных полицейских» могут также предусматривать отправку американских войск в Европу. На это Рузвельт ответил, что его концепция предусматривает направление в Европу лишь американских самолетов и кораблей, «а Англия и Советский Союз будут размещать сухопутные силы»[190]. Он добавил, что если бы японцы не напали на Соединенные Штаты, он сомневается в том, что стало бы возможно направлять в Европу какие‑либо американские войска.
Президент продолжил развивать идею о четырех «международных полицейских». По его замыслу, у них будет два метода борьбы с возможной агрессией. Если речь будет идти об угрозе революции или аналогичных событий в какой‑либо небольшой стране, то «можно было бы прибегнуть к методу карантина: закрыть границы с этой проблемной страной и ввести эмбарго»[191]. Если же это не приведет к необходимым результатам, если угроза окажется более серьезной, то в этом случае четыре державы, действуя в качестве «международных полицейских», направят ультиматум, и отказ выполнить его «приведет к немедленным бомбардировкам и возможному вторжению в эту страну».
То, что обнародованная идея, похоже, не удивила Сталина, должно было порадовать Рузвельта, поскольку это свидетельствовало о том, что маршал не проигнорировал тех мыслей, которые президент изложил Молотову в ходе визита того в Вашингтон в 1942 году. (Рузвельт, естественно, не мог знать, насколько детально Сталин прорабатывал эту тему в разговорах с Молотовым. Если уж на то пошло, он не располагал непосредственной информацией о том, что Молотов каждую ночь докладывал Сталину в телеграммах о своих беседах с президентом и что мнение, которое Молотов излагал каждый день в ходе этих бесед, в значительной степени зависело от позиции Сталина и от его указаний, хотя, возможно, Рузвельт и подозревал это.)
Теперь настала очередь Сталина проинформировать Рузвельта о своей главной тревоге – о предстоящих усилиях по сдерживанию Германии. Шесть месяцев назад Сталин написал журналисту издания «Нью‑Йорк таймс», что немцы представляли собой не только серьезную угрозу для будущего мира, но и являлись «основным противником» России[192]. Спустя неделю после Тегеранской конференции он заявил в Большом театре президенту Чехословакии Эдварду Бенешу: «Вы не измените немцев в течение короткого времени. Будет еще одна война с ними». Он также посоветовал Рузвельту, чтобы его позиция по данному вопросу отличалась от позиции Черчилля, который не верил в то, что Германия сможет восстановить свой потенциал и вновь угрожать Европе.
С учетом этого Рузвельт понял, что для того, чтобы обеспечить поддержку Сталина, планируемая международная организация должна будет иметь в качестве своего основного приоритета полномочия для контроля над возрождающейся Германией и необходимого противодействия данному процессу. Это также прояснило, что если бы Сталин был достаточно уверен в возможности создания такой организации, то он, скорее всего, поддержал бы ее. В то же время по мере продолжения разговора высказывания Сталина указывали на то, что он не был уверен, что структура по обеспечению безопасности мира, как ее представил Рузвельт, будет достаточно эффективной. («Я ненавижу немцев, – скажет Сталин чешской делегации в марте 1945 года. – Но это не должно влиять на чье‑то мнение о немцах. Немцы – великий народ. Очень хорошие специалисты и организаторы. Хорошие, по своей природе храбрые воины. Нет никакой возможности избавиться от немцев, они останутся… Мы, славяне, должны быть готовы к тому, что немцы снова поднимутся против нас»[193].)
Затем Сталин сказал Рузвельту, что, по его личному мнению, если этому не противодействовать, то Германия полностью сможет восстановиться в течение от пятнадцати до двадцати лет, следовательно, «у нас должно быть что‑то более серьезное, чем организация, предложенная президентом… Первая германская агрессия произошла в 1870 году, затем – сорок четыре года спустя в Первой мировой войне, и только двадцать один год прошел между окончанием последней войны и началом нынешней»[194]. Он добавил, что не верил в то, что в будущем период до возрождения германского военного потенциала будет больше.
Продолжая, Сталин отметил, что должен быть обеспечен контроль над определенными стратегическими позициями, либо на территории Германии, либо на ее границах, либо в более комплексном плане, чтобы быть уверенными в том, что Германия не встанет вновь на путь новой агрессии. Он упомянул, в частности, Дакар, самую западную точку на Африканском континенте, добавив, что такая же стратегия должна применяться и к Японии и что острова в непосредственной близости от Японии должны оставаться под строгим контролем, чтобы предотвратить возможную агрессию со стороны Японии.
Президент ответил, что он полностью согласен с маршалом Сталиным. На самом деле Рузвельт также испытывал глубокую антипатию к немцам, это чувство сформировалось у него еще в детстве. В юношеском возрасте он вместе с родителями провел много летних сезонов в Германии, когда его отец принимал ванны в Бад‑Наухайме, стремясь восстановить свое здоровье. Джеймс и Сара Рузвельты наняли для Франклина репетитора немецкого языка, кроме того, они какое‑то время отправляли его ежедневно в государственную народную школу в Германии. У него был достаточно хороший уровень знания немецкого языка, чтобы поговорить в Германии с Альбертом Эйнштейном. Его неприязнь к немцам, которую он обычно скрывал, была на удивление сильной. Он как‑то сказал своему министру финансов Генри Моргентау: «Мы должны быть жесткими с Германией, и я имею в виду весь немецкий народ, а не только нацистов. Мы должны либо кастрировать немцев, либо обращаться с ними таким образом, чтобы они просто не имели возможности воспроизводить тех, кто хотел бы продолжать свой прошлый опыт»[195]. В другой раз он сказал, что первым необходимым условием мира должно быть то, что ни одному немцу не будет разрешено когда‑либо вновь носить форму[196].
* * *
Сталин вновь выразил сомнения по вопросу об уровне китайского участия во всемирной структуре.
Рузвельт ответил, что он признаёт слабость Китая. (Никто лучше него не знал, насколько Китай был нестабилен и до какой степени было слабо правительство Чан Кайши. В 1938 году Рузвельт организовал для него кредит в размере 100 миллионов долларов, поскольку у того кончились деньги. С тех пор ситуация не изменилась в лучшую сторону: в Каире Чан Кайши обратился к нему с просьбой предоставить кредит в 1 миллиард долларов золотом.) Рузвельт беспокоился по двум причинам, одна из которых касалась нынешней ситуации, а другая – возможного развития в будущем. Если бы он сейчас слишком сильно оттолкнул Чан Кайши и не оказал ему достаточной поддержки, то генералиссимус мог бы пойти на сделку с Японией. (Он не испытывал беспокойства в отношении того, что китайские коммунисты никогда не сдаются.)
Другой же вопрос касался будущего Объединенных Наций (он постоянно думал об этом), и это беспокоило его гораздо больше, поскольку для воплощения в жизнь идеи о создании Объединенных Наций Китай был необходим. Как писал Рузвельт, «я действительно чувствую, что это триумф – получить четыреста двадцать пять миллионов китайцев на стороне союзников. Это даст громадную пользу спустя 25 или 50 лет, следовательно, даже и в том случае, если Китай и не способен в настоящее время обеспечить заметной поддержки в военном или военно‑морском отношении»[197]. Сейчас он сообщил Сталину, что много думал об удивительно большой уже на данный момент численности китайского населения, которая сама по себе будет обеспечивать важную роль страны на международной арене вне зависимости от особенностей национального правительства: «Ведь численность населения Китая – 400 миллионов человек, и лучше, чтобы они были твоими друзьями, а не потенциальным источником различных проблем и неприятностей»[198]. Рузвельт вновь вернулся к обсуждению идеи о четырех «международных полицейских» в качестве лучшей сдерживающей силы в отношении возрождающейся Германии. Упомянув высказывание Сталина прошлым вечером (о котором позже ему, очевидно, сообщили) о той легкости, с которой германские мебельные фабрики могут быть перепрофилированы в авиационные предприятия, а часовые заводы – в предприятия по производству взрывателей для снарядов, он отметил, что «сильная и эффективная организация в составе четырех держав могла бы энергично действовать при появлении первых признаков, свидетельствующих о переоборудовании таких заводов для военных целей»[199].
Немцы продемонстрировали, что у них есть большой опыт в сокрытии таких мероприятий, ответил Сталин. Рузвельт согласился с правотой этих слов и указал, что стратегические объекты должны быть под контролем какой‑либо всемирной организации, которая могла бы осуществлять мониторинг ситуации и предотвращать возможные попытки восстановления военного потенциала со стороны Германии и Японии.
Сталин подтвердил, что он считает обеспечение контроля над Германией самой важной задачей, стоявшей перед ними, что Германия и впредь будет серьезной угрозой для всеобщего мира[200]. Было также очевидно (с учетом вопросов, которые были заданы Сталиным), что Рузвельт должен переосмыслить концепцию о мировом правительстве, которое он был намерен создать.
На этой встрече присутствовал Эллиот Рузвельт, который, не вмешиваясь в ее ход, фиксировал те детали, которые были опущены Боленом. Болену пришлось выполнять нелегкую работу, поскольку он выступал одновременно в роли сразу и переводчика, и стенографиста неофициальных бесед. Кроме того, демонстрируя порой свою приверженность пробританской дипломатической практике Госдепартамента, он иногда выпускал из протокола некоторые моменты, которые считал либо несущественными, либо не относящимися к делу, либо те, которые, как он надеялся, больше не всплывут. Эллиот записал, что его отец вновь остановился на том, что у США и Великобритании разные цели, в частности в отношении колониальных владений. Согласно Эллиоту, Рузвельт отметил, что в послевоенном мире каждой из их трех стран придется действовать как самостоятельно, так и совместно друг с другом. Он передал Сталину то, что сообщил ему в Каире Чан Кайши: насколько важно было для Китая окончательное прекращение британских экстерриториальных прав в Шанхае, Гонконге и Гуанчжоу. В разговоре с ним Чан Кайши также подчеркнул, что Россия должна уважать маньчжурскую границу.
Сталин ответил, что всемирное признание суверенитета Советского Союза являлось базовым принципом и что в этой связи «он [Сталин] наверняка также будет уважать, в свою очередь, суверенитет остальных стран, больших и малых»[201].
Рузвельт коснулся других тем, которые поднимались в ходе его беседы с Чан Кайши, в частности обещания, что китайские коммунисты войдут в правительство еще до национальных выборов и что эти выборы состоятся сразу же после войны. По мере того как Рузвельт говорил, делая паузу после каждой фразы для ее перевода, Сталин кивал, словно подтверждая свое полное согласие. Генерал Джон Дин, руководитель программы ленд‑лиза в Москве, ранее офицер по связи между начальниками штабов США и Великобритании, присутствовавший в Тегеране в качестве наблюдателя, позже писал, что позиция Сталина «совпадала с позицией Комитета начальников штабов США, и все, что он произносил, усиливало ту поддержку, которую они могли бы ожидать от президента Рузвельта в принятии окончательного решения»[202].
Почти в 15:30 генерал Па Уотсон просунул голову в дверь и сообщил, что все было готово для второго пленарного заседания.
Однако вначале Черчилль подготовил впечатляющую сцену: в большом зале, где должно было произойти предстоящее событие, их ждал почетный караул, состоявший из советских и британских солдат. Двадцать британских солдат с примкнутыми штыками, а затем такое же количество советских солдат с автоматами промаршировали мимо Рузвельта, сидевшего в большом зале, и Сталина с Черчиллем, которые стояли по обе стороны от президента. Русский военный оркестр сыграл «Интернационал», а затем гимн Великобритании «Боже, храни короля». Солдаты выстроились друг против друга у противоположных стен. Затем Черчилль (хотя он был полным и сутулым, но, одетый по этому случаю в синюю парадную форму высшего офицерского состава Королевских ВВС Великобритании с эмблемой летного состава, выглядел просто великолепно) объявил, что от имени короля он вручает Сталину «Меч Сталинграда»[203]. Он зачитал надпись на мече: «Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, от короля Георга VI, в знак глубокого восхищения британского народа». Меч был длиной около 120 сантиметров, с серебряной рукоятью, на которой были вытравлены головы леопардов, в ножнах из красной каракульчи. Сталин был очень тронут. Он поднял меч к губам и поцеловал его. В его глазах стояли слезы[204]. Он передал меч Ворошилову, который умудрился уронить его. Когда этот неприятный момент был улажен, Сталин и премьер‑министр предложили Рузвельту осмотреть меч. Пока премьер‑министр держал ножны, президент извлек из них меч, на всю длину его закаленного клинка. Он подержал его вертикально и, как сообщают, негромко произнес: «Воистину, у них были сердца из стали».
Сразу же после этого три руководителя прошли на крытую галерею, чтобы сфотографироваться. После этого началось второе пленарное заседание. Вместе с Рузвельтом были одиннадцать человек из его штаба, в том числе Гопкинс, Гарриман, адмирал Лихи, генерал Маршалл, адмирал Кинг, генерал Арнольд, бригадный генерал Дин, капитан Ройал, капитан Уэар и генерал Сомервелл. Черчилля сопровождали десять человек из его штаба, в том числе министр иностранных дел Энтони Иден, сэр Арчибальд Кларк Керр, фельдмаршал Джон Грир Дилл, генерал Алан Фрэнсис Брук, адмирал флота Эндрю Каннингем, главный маршал авиации Чарльз Портал, генерал‑лейтенант Гастингс Исмей, генерал‑лейтенант Гиффорд Мартель и бригадный генерал Уильям Холлис. В отличие от всех остальных, как и на других пленарных заседаниях, Сталин взял с собой лишь Молотова и маршала Ворошилова.
Рузвельт вновь открыл заседание и, повторив, что не существует какой‑либо повестки дня, попросил огласить отчет представителей военных штабов, которые совещались утром.
Генерал Брук, генерал Маршалл и маршал Ворошилов изложили свои мнения о различных аспектах операции «Оверлорд». Генерал Брук перечислил плюсы и минусы военной кампании в зоне Средиземного моря, разобрал боевые действия на севере Италии, высказался о преимуществах участия Турции в войне. Генерал Маршалл подчеркнул первостепенную важность вопросов о необходимых десантных средствах и подходящих аэродромах и отметил, что производство десантных кораблей было расширено. Маршал Ворошилов сказал, что он получил все ответы на свои вопросы.
В разговор вступил Сталин.
– Кто будет осуществлять руководство операцией «Оверлорд»? – спросил он.
Рузвельт ответил, что решения еще не принято.
Тогда Сталин довольно резко произнес:
– Тогда из этой операции ничего не выйдет.
– Этот старый большевик пытается заставить меня назначить его Верховным главнокомандующим… А я еще не принял решения, – прошептал Рузвельт адмиралу Лихи.
Затем президент заверил Сталина, что уже согласованы имена всех командиров, кроме Верховного главнокомандующего.
Сталин ответил:
– Может оказаться, что Верховный главнокомандующий будет не согласен с тем, что подготовит начальник штаба. Должен быть один человек, который будет нести общую ответственность.
Рузвельт, не желая, чтобы Сталин понял, что он все еще колеблется, сделал ловкий ход, дав слово премьер‑министру. Затем он устроился поудобнее и слушал Черчилля, не перебивая, пока тот сам себе рыл яму.
Черчилль говорил довольно долго. Премьер‑министр начал с заявления о том, что подготовке операции «Оверлорд» необходимо уделить максимум внимания, однако, как заметил позже Гарри Гопкинс в разговоре с личным врачом Черчилля и как это подтверждают записи, «после этого предисловия он стал методично обсуждать действия на северном побережье Средиземного моря»[205]. Хотя позже Черчилль писал, что он говорил только «около десяти минут»[206], официальный протокол его выступления занял не одну страницу. Он снова поднял вопросы о желательности захвата Родоса, сдерживания группировки германских войск в Италии, вступления Турции в войну (и Великобритания была намерена заставить турок сделать это к Рождеству), а также о влиянии этих мер на развитие ситуации на Балканах, о помощи Броз Тито, о проблемах, связанных с десантными кораблями, и о других вспомогательных операциях в зоне Средиземноморья.
Сталин ответил ему по каждому пункту. (Брук позже признал: «Я быстро оценил, что у него был военный склад ума очень высокого уровня. Ни разу ни в одной из своих выкладок он не сделал каких‑либо стратегических ошибок»[207].) Он исправил приведенное премьер‑министром количество германских дивизий на Балканах, вновь заявил, что «Турция не вступит в войну», обратил внимание присутствующих на важность сосредоточения основных усилий на наиболее важных операциях и недопустимости распыления сил и закончил свою речь выражением уверенности в том, что пока не будет принято решение о руководителе операции «Оверлорд», от этой операции нельзя будет ожидать никакого успеха.
На этом этапе в разговор вступил Рузвельт. Подводя итог обсуждения, он легким поклоном остановил Черчилля, пытавшегося возражать, и объявил: «Если мы все согласны с необходимостью проведения операции «Оверлорд», то следующим будет вопрос о ее сроках»[208]. Продолжив, он указал на риск проведения операций в восточной части Средиземного моря, отметив, что в этом случае, вероятно, придется отложить операцию «Оверлорд».
Когда Сталин сказал, что во Франции размещено двадцать пять германских дивизий, Рузвельт ответил: «Поэтому мы должны разработать планы по сдерживанию этих германских дивизий… в такой степени, чтобы не отвлекать средства, необходимые для проведения операции «Оверлорд» в оговоренное время».
В ответ на это Сталин повторил: «Вы правы, вы правы».
Вслед за этим настал момент, когда Рузвельт присоединился к Сталину, загоняя Черчилля в угол.
Президент сказал: «Было бы хорошо, чтобы операция «Оверлорд» по возможности началась где‑то 1 мая или, конечно же, не позднее 15 мая или 20 мая».
Премьер‑министр ответил, что он «не может согласиться с этим».
Сталин указал, что, как он заметил на конференции накануне, «из‑за этих предложений, отвлекающих внимание и направленных на распыление сил, ничего не выйдет».
Черчилль даже в условиях такого резкого осуждения его позиции не сдавался: «Многие широкие возможности, которые предоставляются в Средиземноморье, не должны быть безжалостно отброшены только по причине их якобы бесполезности из‑за возможной задержки на месяц проведения операции «Оверлорд».
Сталин повторил: «Все операции в зоне Средиземноморья – это распыление сил, за исключением операций на юге Франции». Он добавил, что для него «не представляют никакого интереса какие‑либо другие операции, кроме проводимых на юге Франции»[209].
Лорд Моран сказал о Черчилле, что он был уникален в своем чувстве слова и в обращении со словом: «Без этого чувства он бы мало чего смог добиться в своей жизни. Он не преуспел бы ни в юриспруденции, ни в профессиональных навыках, ни в искусстве администрирования, ни в понимании человеческой природы»[210].
Черчилль весьма красноречиво подтверждал суждения Морана. Он, похоже, считал, что только один Сталин выступает против него, что у него все еще была возможность переубедить Рузвельта – однако это было далеко от истины. Премьер‑министр ошибался в своей оценке, и с этих ошибочных позиций он пытался убедить обоих руководителей по отдельным вопросам: относительно использования британской армии в Средиземном море, относительно действий по нанесению поражения Германии в Италии, относительно того, как действия в восточной части Средиземноморья смогут сдержать значительные силы германской армии, а также относительно вовлечения в войну Турции.
Сталин ничем не выдал своего нетерпения. Он машинально рисовал в блокноте (несомненно, волчьи головы) и курил.
Произнесенные Сталиным слова не могли передать всего разочарования Черчилля или степени раздражения Сталина. В какой‑то момент, как описывал адмирал Кинг, «господин Черчилль так рассердился, что он поднялся и сказал Сталину, что тот не имел права таким тоном разговаривать ни с ним, ни с любым другим англичанином. Затем он в течение нескольких минут ходил в раздражении по комнате, пока господин Иден не поднялся и не переговорил с ним вполголоса, после чего господин Черчилль вернулся на свое место, как казалось, слегка успокоившись»[211].
Чарльз Болен в дальнейшем напишет, что Рузвельту следовало бы выступить в защиту Черчилля, потому что «тот был действительно весьма задет словами Сталина»[212]. Это высказывание показывает, на чьей стороне были симпатии Болена, учитывая, что, как признавал он сам, «Рузвельт на самом деле вел спор с тех же позиций, что и Черчилль, так что, по существу, такое резкое отношение к Черчиллю было оправданно».
Рузвельт откинулся в своем кресле, наблюдая за тем, как делается история. Он совершенно не желал вмешиваться. Он не желал сохранять Британскую империю, он выступал за то, чтобы она была разрушена. Поэтому планы Черчилля организовать наступление через Балканы, подбрюшье Европы, которое могло бы изолировать Советский Союз, так и не реализовались.
Накануне Сталин уже отклонил планы по проведению военной кампании в зоне Средиземноморья как имевшие второстепенное значение и отметил, что вся значимость итальянской военной кампании заключалась в том, чтобы обеспечить свободу действий для военно‑морских сил союзников в Средиземном море. Он также указал, что Италия не могла считаться подходящим направлением для организации наступления на Германию, поскольку Альпы являлись практически непреодолимым препятствием, и это подтвердил в свое время знаменитый русский генерал Суворов. Теперь, с учетом упрямства Черчилля, Сталин повторил: «С точки зрения советской стороны, лучший способ нанести удар по Германии – это организовать наступление через северные или северо‑западные районы Франции или даже через юг Франции». В заключение он поинтересовался у президента, сколько еще дней будет продолжаться конференция. Он заявил, что должен уехать после первого дня, но «мог бы» остаться и на второй, но затем ему следует покинуть Тегеран.
Черчилль сказал, что, если это необходимо, он мог бы остаться навсегда.
Сталин вынул из кармана кителя свою трубку, открыл коробку сигарет «Герцеговина Флор», достал несколько сигарет, медленно разломал их, набил табаком трубку, зажег ее и сделал несколько затяжек. Сделав это, он огляделся.
Рузвельт, пытаясь сгладить противоречия между двумя руководителями, предложил вернуть вопросы на рассмотрение начальников штабов, которые могли бы с учетом «несогласия сторон по каждому предложению, сделанному на заседании во второй половине дня», предоставить специальной комиссии материалы данного заседания для выработки единого мнения.
Сталин не мог с этим согласиться. По его словам, в специальном комитете не было необходимости: «Все, что было необходимо, – это принять решения о руководителе операции “Оверлорд“, о дате начала операции “Оверлорд“ и об обеспечивающих операциях»[213].
Рузвельт предложил выработать более конкретную формулировку в отношении специальной комиссии, которая бы в сжатом виде отразила его, Рузвельта, пожелания и пожелания Сталина и одновременно являлась бы «фиговым листком» для Черчилля, а именно: «(1) Комиссия подтверждает, что “Оверлорд“» является основной операцией; (2) Комиссия рекомендует проведение вспомогательной (ых) операции (ий) в зоне Средиземного моря, принимая во внимание, что никакая задержка не должна повлиять на проведение операции “Оверлорд“».
Сталин отметил, что не было никакого упоминания о дате начала операции. Он указал, что Советскому Союзу необходимо знать точную дату «для того, чтобы он мог подготовить удар со своей стороны».
Рузвельт напомнил им, что дата была определена в Квебеке еще в начале лета «и что только некоторые, гораздо более важные вопросы могли бы повлиять на нее». По крайней мере, его мнение было таким.
Примечательно, что Черчилль вновь стал настаивать на своем, пытаясь внести путаницу в этот вопрос. «Для него не было ясно, какие планы у президента… У него были вопросы к Сталину… Он считал, что специальная комиссия должна рекомендовать организацию вспомогательных операций… Он считал, что мы должны больше времени уделить составлению правильных указаний для специальной комиссии».
Рузвельт снова попытался найти общий язык с обоими собеседниками. Может быть, специальный комитет «приступит к проработке необходимых вопросов без каких‑либо дальнейших указаний и подготовит ответ завтра к утру?»[214]
Сталин ответил: «Что может такой комитет сделать? У нас, глав государств, больше власти и больше полномочий, чем у комитета. Генерал Брук не может влиять на наши позиции».
Затем он спросил: «Не относится ли английская сторона серьезно к операции “Оверлорд“ только для того, чтобы удовлетворить СССР?»
Поскольку это и в самом деле было правдой, Черчилль уклонился от ответа – сделав это весьма выразительно.
«Если уж условия, выработанные в Москве относительно операции “Оверлорд“, придется соблюдать, то он твердо убежден в том, что Англия обязана использовать все свои возможности для форсирования Ла‑Манша и удара по немцам»[215].
Они расстались, договорившись о том, что военные штабы, специальная комиссия и министры иностранных дел (подразумевались Гопкинс, Молотов и Иден) на следующий день обсудят все необходимые вопросы.
Последними словами Сталина были следующие: «Таким образом, завтра в четыре часа у нас будет продолжение конференции». Судя по всему, он начал беспокоиться. И у него были к этому все основания. Рузвельт закрыл заседание предложением запланировать на следующий день в 13:30 встречу за обедом начальников штабов.
Заседание завершилось сразу же после семи часов вечера. Рузвельт признался Эллиоту, который ждал его в его комнате, что он устал. Он на мгновение прилег, а затем потер глаза, сел и начал говорить с Эллиотом о Сталине. Как вспоминал позже Эллиот, его отец сказал: «Работать с ним – одно удовольствие. Никаких околичностей. Он четко излагает вопрос, который хочет обсудить, и никуда не отклоняется»[216].
– «Оверлорд»? – поинтересовался Эллиот. Рузвельт ответил, что «он говорил об этом. И мы тоже обсуждали этот вопрос… Уинстон говорит о двух одновременных операциях. Мне кажется, он понимает, что теперь уже нечего и пытаться возражать против вторжения на западе. Маршалл слушает слова премьер‑министра с таким выражением, как будто не верит собственным ушам… Если уж есть американский генерал, которого Уинстон терпеть не может, то это генерал Маршалл. И происходит это, бесспорно, потому, что Маршалл прав… Я не вижу никаких причин рисковать жизнью американских солдат ради защиты реальных или воображаемых британских интересов на европейском континенте. Мы ведем войну, и наша задача заключается в том, чтобы выиграть ее как можно быстрее и без авантюр… Для всех присутствовавших было совершенно ясно, чего он [Черчилль] на самом деле хочет. Он прежде всего хочет врезаться клином в Центральную Европу, чтобы не пустить Красную армию в Австрию и Румынию и даже в Венгрию… Сталин понимал это, понимал и я, да и все остальные… А когда Дядюшка Джо говорил о преимуществах вторжения на западе с военной точки зрения … он тоже все время имел в виду и политические последствия».
Отец и сын еще некоторое время поговорили. Затем Рузвельт принял ванну. Эллиот спросил его, хочет ли он коктейль перед ужином. Тот ответил согласием, но предупредил: «Но только не крепкий, Эллиот… Сколько тостов мне предстоит!»[217]
* * *
Пришла очередь Сталина давать обед, который был организован в комнате возле большого зала рядом с апартаментами Рузвельта в советском посольстве.
В список приглашенных были включены Черчилль, Иден, Кларк Керр, Сталин, Молотов, президент, Гопкинс и Гарриман. Как всегда, присутствовали также переводчики.
Эллиот получил приглашение в последнюю минуту: когда Сталин заметил, что он стоял у двери комнаты, он провел его внутрь и усадил между Иденом и Гарриманом.
Было «невероятное количество блюд» и много напитков, как обычно бывает на официальных российских обедах. Этот обед начался с холодных закусок, за которыми последовали горячий борщ, рыба, различные мясные блюда, салаты, компот и фрукты. Одно блюдо следовало за другим «в большом изобилии». Каждая перемена блюд сопровождалась немалым количеством водки и вина, а по завершении были поданы ликеры.
По словам Молотова, любимым напитком Сталина было шампанское, которое он иногда пил на обедах вместо водки. Однако в этот вечер он, похоже, пил водку, и Эллиот Рузвельт обнаружил это, когда маршал налил ее из своей бутылки, стоявшей у его локтя, в фужер Эллиота.
По русской традиции бóльшая часть беседы сопровождалась тостами. Когда произносился очередной тост, все вставали, выпивали, а затем садились – до следующего тоста. Тосты были иногда искренними, иногда банальными, а порой они являлись возможностью, не переходя рамок, выплеснуть эмоции.
Этот день отложил свой след на Сталине. Во время длительного пленарного заседания он вынудил Черчилля отказаться от планов по организации военной кампании в зоне Средиземного моря и принять операцию «Оверлорд» без каких‑либо предварительных условий. Черчилль, наконец, согласился действовать вместе с двумя своими союзниками, но с такой неохотой, что было совершенно очевидно: он согласился только потому, что у него не было никакого другого выбора, а не потому, что был убежден в правоте военных планов своих собеседников.
Рузвельт редко обижался на тех, кто расходился с ним во мнениях, поскольку он привык к обмену колкостями и практике взаимных компромиссов в политической жизни. Действительно, преодоление сопротивления тех, кто не был согласен с ним, доставляло ему истинное наслаждение, он получал удовольствие от таких ситуаций. И поскольку теперь он смог добиться консенсуса в отношении операции «Оверлорд», он пребывал в прекрасном настроении. Сталин, однако, не привык сталкиваться с инакомыслием. В его окружении его слово было законом. Он привык к тому, что все подчинялись ему. Черчилль же упрямо и безуспешно выступал против него, и теперь Сталин с удовольствием проявлял свое раздражение тем, что непрестанно «пилил» премьер‑министра. Чарльз Болен писал, что Сталин «не упускал возможности покуражиться над господином Черчиллем. Почти каждая реплика, с которой он обращался к премьер‑министру, содержала какую‑нибудь колкость»[218]. Однако он пользовался этим с большой осторожностью. «Манеры маршала были совершенно дружескими». Болену, не питавшему симпатий к премьеру, пришлось признать это. Кроме того, одно из высказываний Сталина можно было расценить как предупреждение: «Было бы ошибкой считать, исходя из того, что русские – это простые люди, что они слепы и не видят того, что происходит у них на глазах». Раскрывая свою мысль, он обвинил Черчилля в стремлении обеспечить «приемлемый» мир для Германии или, еще хуже, в скрытых симпатиях к Германии.
Рузвельт, который вовсе не собирался выступать на защиту Черчилля, наблюдал за происходящим со стороны. Он знал, что сказанное Сталиным действительно является правдой. Он знал, какие мысли витали в голове у Черчилля: тот желал сильной Германии, чтобы обеспечить баланс сил с Советским Союзом в Европе. «Что мы получим на пространстве между белыми снегами России и белыми скалами Дувра?»[219] Черчилль «взорвался» во время встречи с президентом в Квебеке прошлым летом. Рузвельт не предполагал, что Черчилль представлял себе Россию еще могущественнее и сильнее, чем она была (премьер‑министр считал, что численность ее населения – 200 миллионов человек, а не 165 миллионов).
Какое‑то время среди руководителей трех держав царила дружеская атмосфера, и Сталин, казалось, расслабился. Гопкинс, который всегда тонко чувствовал ситуацию, провозгласил тост в честь Красной армии. Польщенный, Сталин достаточно откровенно рассказал о Советской армии. Он сказал, что по результатам зимней военной кампании с Финляндией 1940 года, в ходе которой армия показала себя весьма плохо, она была полностью реорганизована, это было необходимо, и по мере продолжения боевых действий с немцами она теперь наращивает свой потенциал. Сразу же после этого Гопкинс, который не знал, как бы ему потактичней выразиться, принес свои извинения.
Позже, уже к концу обеда Сталин поднялся, чтобы предложить свой «надцатый» тост (Эллиот Рузвельт напишет впоследствии: «Я пытался вести счет, но к этому моменту уже безнадежно сбился».) Эллиот вспоминает следующий тост Сталина, который тот произнес относительно Германии: «Я предлагаю выпить за то, чтобы над всеми германскими военными преступниками как можно скорее свершилось правосудие и чтобы они все были казнены. Я пью за то, чтобы мы объединенными усилиями покарали их, как только они попадут в наши руки, и чтобы их было не менее пятидесяти тысяч»[220]. Болен считал, что Сталин сделал этот тост в «полушутливой манере»[221]. Если это так, это было полностью в духе Сталина.
Сталин не понаслышке знал о том, насколько жестоким было отношение германских солдат ко всем славянам. Война, которую вел Гитлер против Советского Союза и Польши (арийцы против славянских народов), разительно отличалась от войны, развязанной им в Западной Европе (арийцы против арийцев).
Гитлер считал славян низшей расой. После успешного завершения войны он планировал превратить Россию и Польшу в порабощенные страны, население которых должно быть лишено основных прав. Он хвалился этим. «Военная кампания на Востоке, – заявил он, – будет весьма сильно отличаться от военной кампании на Западе»[222]. Когда вермахт вошел в Польшу, стала осуществляться политика фюрера по депортации и переселению гражданского населения на этнической основе. Интеллигенция была согнана в концентрационные лагеря, а обычные поляки были размещены в районах, где они умерли от голода и болезней (Ричард Дж. Эванс подробно, на основе документальных свидетельств, описал это в своей книге «Третий рейх. Дни войны»). Медицинская помощь не оказывалась, поэтому больные умирали. Школы были закрыты.
Польша была единственной страной за пределами Германии, где были созданы лагеря смерти. Это объяснялось тем, что Гитлер планировал истребить весь польский народ. Гитлер намеревался проводить ту же политику и в Советском Союзе: начать с уничтожения интеллигенции и евреев и завершить уничтожением оставшегося коренного населения, затем восстановить инфраструктуру и заселить выбранные территории и оставшиеся города немецкими фермерами и бюргерами.
Таким образом, чтобы решить одновременно две задачи, практически на польско‑советской границе были созданы три лагеря смерти: Собибор, Майданек и Белжец. Гитлер планировал превратить при нацистах захваченную Украину в некое подобие колонии Британской империи, воссоздав таким образом Индию или Африку. От 80 до 85 процентов поляков, 64 процента украинцев и 75 процентов белорусов должны были быть переселены дальше на восток. Таким образом, Гитлер намеревался в целом искоренить в Восточной Европе от тридцати одного до сорока пяти миллионов человек, поселив на их месте миллионы немцев («колонистов»), которые бы жили на красивых, просторных фермах, возделывали славянскую землю современной сельскохозяйственной техникой и собирали обильные урожаи для увеличивающегося по численности немецкого народа. Евреи как нация подлежали полному уничтожению, где бы они ни были обнаружены. «Через сто лет наш язык будет языком Европы»[223], – обещал фюрер.
С учетом этой установки со всеми русскими солдатами, взятыми в плен, как правило, обращались с крайней жестокостью, как с животными. В зимние морозы их держали в открытом поле, иногда давали крошечные порции пищи. Если они не погибали от холода, то умирали от голода. Других военнопленных – десятками тысяч – расстреливали специальные команды. Некоторых отправляли в трудовые лагеря и лагеря смерти в Германии. В декабре 1941 года, согласно официальному германскому отчету, от 25 до 70 процентов советских военнопленных гибли на пути в концлагеря. К концу войны 3,3 миллиона советских военнопленных – более половины из числа взятых в плен – погибли[224]. Со всеми захваченными военнослужащими обращались как с расовыми и идеологическими врагами Третьего рейха. Женевские конвенции были просто забыты.
Участникам конференции в Тегеране было невозможно поверить во весь ужас гитлеровского плана по расовому покорению и уничтожению народов Восточной Европы. Ни Рузвельт, ни Черчилль не знали в полной мере о жестоком обращении немцев с советскими военнопленными. В этой связи произнесенный Сталиным тост не был оправдан. Правда, до американцев уже начала доходить информация о зверствах нацистов, и у них стало появляться чувство мщения. Несколько недель назад на Московской конференции Хэлл сказал: «Будь моя воля, я бы передал Гитлера, Муссолини и Тодзио и их пособников военно‑полевому трибуналу. И на рассвете на следующий день свершилось бы историческое событие»[225].
В ходе пленарных заседаний Сталин неоднократно третировал Черчилля. Гарриман вспоминал: «Когда говорил президент, Сталин внимательно и уважительно слушал его, в то же время он, не колеблясь, прерывал или отпускал язвительные замечания в адрес Черчилля при малейшей возможности»[226]. И теперь, после тоста Сталина, Черчилль, наконец, взорвался. Он выкрикнул, что британский народ никогда не потерпит такого массового наказания. Он, должно быть, решил, что у него появилась возможность представить Сталина в качестве грубого, беспринципного, нецивилизованного тирана. Или же он, возможно, просто был уже настолько пьян, что его скрываемый от всех страх того, что Германия может выйти из войны истощенной и недостаточно сильной, чтобы противостоять России, вдруг выплеснулся наружу.
По словам Эллиота, затем Черчилль заявил: «Подобная установка коренным образом противоречит нашему, английскому, чувству справедливости! Я пользуюсь этим случаем, чтобы высказать свое решительное убеждение в том, что ни одного человека, будь он нацист или кто угодно, нельзя казнить без суда, какие бы доказательства и улики против него ни имелись!»[227]
Эллиот Рузвельт вспоминает эту сцену именно такой. Согласно же изложению самого Черчилля, во время этого инцидента он сказал следующее: «Английский парламент и английский народ никогда не потерпят массовых казней. Даже если на войне позволят проявляться страстям и яростно обратят их против тех, кто несет ответственность за начало бойни. Советы, безусловно, должны придерживаться этого принципа»[228].
Сталин, как заметил Эллиот Рузвельт, оставался серьезным, но его глаза смеялись. Он повернулся к президенту Рузвельту, который, как вспоминал Эллиот, еле сдерживал улыбку, и осведомился о его мнении.
«Как обычно, – ответил Рузвельт, – мне, очевидно, приходится выступать в качестве посредника и в этом споре. Совершенно ясно, что необходимо найти какой‑то компромисс между вашей позицией, господин Сталин, и позицией моего доброго друга премьер‑министра. Быть может, вместо казни пятидесяти тысяч военных преступников мы согласимся на меньшее число. Скажем, на сорок девять тысяч пятьсот?»[229] (Сам Рузвельт как‑то на заседании правительства высказался о немцах следующим образом: «С ними следует поступить сурово, но я бы не стал применять слишком жесткое наказание… Просто организовать на местах военно‑полевые суды, и завершить все это быстро». Министр финансов Генри Моргентау считал, что надо составить список крупных германских преступников и, захватив этих людей, сразу же расстрелять их[230].)
Черчилль, который был хорошо известен своим поразительным пристрастием к спиртному, весь вечер постоянно пил коньяк, и на этот раз он перебрал. Его лицо и шея побагровели. Возмущенный, он резко встал, опрокинув при этом свою рюмку с коньяком, и, повернувшись к Сталину и Рузвельту (коньяк в это время растекался по столу), он прокричал, что военные преступники должны заплатить за свои преступления, они должны предстать перед судом, и что он был только против казней с политическими целями[231]. Далее, критикуя Рузвельта, он заявил, что был против обеспечения сверхдержавами контроля за стратегическими объектами, предложенного Рузвельтом в начале конференции. Он добавил, продолжая критиковать Рузвельта, что Великобритания будет крепко удерживать свои территории и базы, и никто не сможет забрать их у нее, не развязав с ней войны. Он упомянул, в частности, Гонконг и Сингапур. Великобритания при определенных обстоятельствах может предоставить им независимость, разглагольствовал он, но «это будет сделано только самой Великобританией в соответствии с ее собственными моральными заповедями».
Сталин наслаждался этой сценой. Самым доброжелательным образом он обошел всех за столом, опросив каждого из присутствовавших, сколько немцев, по его мнению, следует расстрелять. Иден и Кларк Керр, будучи дипломатами, тактично уклонились от ответа, указав, что этот вопрос требует внимательного изучения. Ответ Гарримана не сохранился. Но когда очередь дошла до Эллиота, он (как вспоминал он сам) поднялся и сказал:
– Русские, американские и английские солдаты разделаются с большинством из этих пятидесяти тысяч на поле боя, и я надеюсь, что такая же судьба постигнет не только эти пятьдесят тысяч военных преступников, но и еще сотни тысяч нацистов[232].
До того как Эллиот успел сесть, Сталин обошел вокруг стола, обнял его за плечи и проговорил:
– Превосходный ответ! Тост за ваше здоровье!
Для Черчилля это было уже слишком. Он закричал на Эллиота:
– Вы понимаете, что вы сказали? Как вы осмелились произнести подобную вещь?
Он поднялся и прошел в гардероб, находившийся в полутьме по соседству. Сталин последовал за ним, чтобы принести извинения и загладить этот инцидент.
Сам Черчилль, описывая эту сцену, представил для истории свою собственную версию: «Меня там не было буквально минуту, как за моей спиной начали хлопать, и Сталин вместе с Молотовым, оба широко улыбаясь, нетерпеливо заявили, что они просто разыграли нас… Когда Сталин поступает так, то он очень увлекается, и я до этого момента еще никогда не видел, чтобы он разыгрывал кого‑либо до такой степени… Я согласился вернуться, и остальная часть вечера прошла приятно»[233].
Они вместе вернулись, и у Сталина на лице сияла широкая улыбка.
Разговор возобновился. Черчилль сильнее, чем обычно, дымил своей сигарой.
Рузвельт переменил тему на нейтральную (как он надеялся), заявив, что базы и стратегические объекты в непосредственной близости от Германии и Японии должны быть подконтрольны.
Сталин согласился с этим.
Черчилль все еще находился в воинственном настроении. На командном пункте в Лондоне, где Черчилль и высшее командование Великобритании планировали стратегию страны и следили за развитием военной обстановки, на трех стенах перед ним были развешаны огромные карты. На картах на левой и на центральной стенах отмечался ход сражений на суше и на море по всему миру. Но в поле зрения Черчилля на правой стене всегда была таких же размеров выполненная в красном цвете (и вызывающая чувство благоговения) карта Британской империи. С 1905 года по 1908 год Черчилль был заместителем министра по делам колоний, а в 1921 и 1922 годах – министром по делам колоний. Мысли об империи никогда не покидали его.
Сейчас, утратив самообладание, он сделал выпад в сторону Рузвельта, объявив, что Великобритания не желает приобретать каких‑либо новых территорий или баз, «однако намерена удерживать те, которые у нее есть … и никто не сможет забрать их у нее, не развязав с ней войны!»
Рузвельт продолжал хранить молчание. Сталин решил вмешаться с миротворческой целью, высказавшись в том духе, что Великобритания хорошо показала себя в войне и что лично он выступает за увеличение Британской империи, «в частности, за счет территорий в районе Гибралтара», которые в то время находились под контролем Франко.
Черчилль, ошибочно полагая, что у него появилась возможность продемонстрировать заинтересованность Советского Союза в послевоенных территориальных приобретениях, поинтересовался, в чем будут заключаться территориальные интересы России. Ответ Сталина, однако, не доставил ему удовлетворения. Маршал ответил: «Когда придет время, мы об этом поговорим»[234].
Они расстались. Если Рузвельт и сказал что‑то напоследок, то его слова не дошли до нас.
Болен позже заметил, что, когда он заглянул в теперь уже почти безлюдную столовую, русский высокого роста (под два метра) и крепкого телосложения, в белом пиджаке, который весь вечер стоял за спиной Сталина (поэтому он решил, что это официант), снял пиджак – и оказалось, что под ним была форма генерал‑майора.
Эллиот опасался, что он спровоцировал скандал своим ответом Сталину. После обеда он попытался извиниться перед отцом за то, что, как он опасался, он испортил отношения между союзниками. Однако Рузвельт ответил ему, что он находит этот инцидент просто забавным. Он заверил Эллиота:
– Ты ответил совершенно правильно. Это был прекрасный ответ. Уинстон просто потерял голову, увидев, что никто не принимает его слова всерьез. Дядя Джо… так допек его, что Уинстон готов был обидеться на любые слова, особенно если они понравились Дяде Джо[235].
Он, очевидно, не чувствовал угрызений совести в связи с тем, что не вмешался.
Позже тем же вечером Гопкинс, стремясь удостовериться в том, что Черчилль согласен со сроками проведения операции «Оверлорд», посетил английское посольство, чтобы дать понять премьер‑министру: следует отказаться от попыток перенести сроки проведения этой операции, поскольку Соединенные Штаты и Советский Союз уже определились в них; ему остается лишь смириться с этим. Неясно, направился ли Гопкинс туда по собственной инициативе или же по просьбе президента, но, учитывая близкие отношения между ними, данный визит, вероятно, состоялся по результатам обсуждения ими этого вопроса.
Черчилль никогда не простил Эллиоту Рузвельту этого инцидента. До этого Эллиот был частым гостем в Чекерсе, усадьбе Черчилля, и находился с премьер‑министром в таких хороших отношениях, что Черчилль обращался с Эллиотом, словно с сыном. Однажды, в конце недели, Эллиота позвали к Черчиллю, чтобы проститься. «Премьер‑министр бродил по комнате, – вспоминал Эллиот, – и из одежды при нем была только сигара»[236]. Таким было завершение их отношений. К сожалению Эллиота, его больше никогда не приглашали в Чекерс.
* * *
Когда Объединенный комитет начальников штабов США и Великобритании (высшая военная структура союзников[237]) собрался на следующее утро, во вторник, 30 ноября, на совещание, даже сэр Алан Брук, начальник Имперского Генерального штаба ВС Великобритании, получив соответствующие указания от Черчилля, снял свои возражения против согласованных сроков проведения операции «Оверлорд». Объединенный комитет единогласно рекомендовал «президенту и премьер‑министру, соответственно, чтобы мы сообщили маршалу Сталину о начале операции “Оверлорд“ в мае месяце одновременно с обеспечивающей операцией на юге Франции, которая планируется в максимально возможном масштабе с учетом имеющихся на этот момент времени десантных кораблей».
Тем не менее имеются свидетельства того, что борьба продолжалась до самого конца: на проекте документа, касавшегося операции «Оверлорд», была фактически проставлена дата «1 июня». Рузвельт перечеркнул ее и твердой рукой написал: «Май»[238].
Рузвельт провел часть утра в киоске по продаже персидских сувениров, который был открыт в советском посольстве специально для американского персонала. Среди ножей, кинжалов, ковров и других предметов он выбрал «более или менее старинную» чашу, которую он был намерен подарить Черчиллю на день его рождения позже во время ужина.
За обедом в посольских апартаментах Рузвельта президент, Черчилль и Сталин (с участием своих переводчиков) обсудили некоторые детали предстоящих действий. Рузвельт сообщил Сталину, что Объединенный комитет начальников штабов США и Великобритании согласился с тем, что операция «Оверлорд» должна будет начаться 1 июня и что одновременно начнется обеспечивающая операция на юге Франции. Сталин выразил «глубокое удовлетворение»[239] и заявил, что Красная армия также в это же время проведет ряд наступательных операций, чтобы тем самым подтвердить, какое значение она придает данному решению.
Но его вопрос, который он задал накануне, остался без ответа, поэтому Сталин спросил еще раз:
– Когда будет назван главнокомандующий?[240]
Рузвельт все еще выбирал между генералом Маршаллом и генералом Эйзенхауэром. На вопрос Сталина он ответил, что для принятия решения ему нужно несколько дней. Президент затронул вопрос о подходах к проблеме Балтики, которую он начал зондировать в первый вечер как раз перед тем, как ему стало нехорошо. Он отметил, что ему «нравилась идея превращения… Бремена, Гамбурга и Любека в некое подобие свободной зоны, чтобы при этом Кильский канал находился под международным контролем и имел международный характер, со свободой его прохода для торговых судов любой страны мира». Несколько месяцев назад в Советском Союзе при Народном комиссариате иностранных дел была создана Комиссия по вопросам мирных договоров и послевоенного устройства для рассмотрения именно этих вопросов. Эта комиссия под председательством Максима Литвинова выработала концепцию, которая предусматривала, что Россия получит в свое распоряжение важные в стратегическом отношении районы и опорные пункты, а Кильский канал – международный статус.
Сталин ответил: «Это неплохая идея». Затем он спросил напрямик: «Что можно было бы сделать для России на Дальнем Востоке?»
Черчилль воспользовался этой возможностью, чтобы прозондировать почву – то, чего Сталин как раз никогда не любил. Как он высказался, ему было бы «интересно узнать мнение Советского правительства в отношении Дальнего Востока».
Безусловно, по времени вопрос Черчилля был неуместен, но самое главное заключалось в том, что Сталину было действительно неинтересно выслушивать это от Черчилля: Сталин задал свой вопрос, чтобы узнать мнение Рузвельта. В силу вышесказанного Сталин ответил премьер‑министру, что у Советского Союза есть своя точка зрения, но было бы лучше дождаться того времени, когда советская сторона примет активное участие в войне на Дальнем Востоке. Он добавил, что все порты на Дальнем Востоке были закрыты для использования Советским Союзом, поскольку Владивосток был лишь часть года свободен ото льда и мог быть в любой момент перекрыт японцами. Тогда Рузвельт вмешался, чтобы ответить на вопрос Сталина: «На Дальнем Востоке можно было бы применить идею свободного морского порта… Дайрен[241]… Вполне возможно».
Сталин поинтересовался у президента, как к этой идее относится китайская сторона: он полагал, что ей вряд ли понравится такая схема.
Рузвельт только что вернулся с Каирской конференции, где он беседовал с Чан Кайши, поэтому основу высказанной им идеи составляла информация, которая была скрыта за дипломатическими экивоками: он считал, что Китай хотел бы иметь свободный морской порт с международными гарантиями. Сталин ответил: «Это было бы неплохо». Он отметил, что у России был незамерзающий порт на Камчатке, но с ним отсутствовало железнодорожное сообщение. «В целом у страны, по существу, был только один незамерзающий порт – это Мурманск».
Черчилль заявил, что страны, которые будут управлять послевоенным миром, «должны быть довольны своим статусом и не иметь никаких территориальных или каких‑либо других претензий и амбиций… Голодные страны и амбициозные страны опасны».
Его слова были хорошо восприняты собеседниками. Рузвельт и Сталин согласились с Черчиллем, при этом оба пришли к выводу, что эти торжественно прозвучавшие слова для главы Британской империи, по‑прежнему самой крупной колониальной державы в мире, было произнести не так уж и сложно. У Черчилля была другая проблема: ему предстояло обеспечить защиту границ империи и спасти ее от распада.
Утром, после посещения киоска с сувенирами, Рузвельт встретился в своем кабинете в посольстве с молодым шахом Ирана Мохаммедом Резой Пехлеви. В ходе беседы шах поднял тему о том, как Великобритания прибрала к рукам нефтепромыслы и месторождения руд в его стране. Рузвельт (по словам Эллиота, который присутствовал при этом) сочувственно выслушал его рассказ и согласился с тем, что необходимо что‑то предпринять, чтобы защитить природные ресурсы Ирана. Когда молодой шах ушел, Рузвельт попросил Эллиота найти Патрика Херли и поручить ему подготовить проект меморандума, который предстояло подписать ему, президенту, а также Сталину и Черчиллю и который гарантировал бы независимость Ирана и его право на экономическую самостоятельность.
После встречи со Сталиным и Черчиллем Рузвельт работал с Херли над проектом, подготовленным Патриком, который в последующем станет Декларацией трех держав об Иране. Херли разделял позицию Рузвельта относительно того, что британская политика в Иране была империалистической, но, тем не менее, было важно, чтобы британский военный флот, который использовал иранскую нефть (Черчилль называл ее «сказочный приз за пределами наших самых смелых мечтаний»), по‑прежнему получал ее.
Обычно подобные проекты подготавливались сотрудниками Госдепартамента, но Рузвельт был настолько низкого мнения о чиновниках этого ведомства, что не желал иметь дела ни с кем, кроме Чарльза Болена, который работал там в качестве переводчика. Рузвельт называл чиновников внешнеполитического ведомства не иначе как «мальчиками из Госдепартамента в брюках в полоску, помешанными на соблюдении формальностей». Президент говорил своему сыну Эллиоту спустя некоторое время после Тегеранской конференции: «Большинство из них убеждены, что для того, чтобы определить, какую Америке необходимо проводить внешнюю политику, необходимо выяснить, что делают англичане, а затем скопировать их». Гопкинс также недолюбливал чиновников Госдепартамента, язвительно описывая тех, с которыми ему довелось столкнуться, следующим образом: «Дипломаты‑белоручки, светские бездельники, слюнтяи и, как правило, изоляционисты до мозга костей»[242].
Многие сотрудники внешнеполитического ведомства проходили подготовку под руководством Роберта Ф. Келли, антисоветски настроенного начальника отдела Госдепартамента по восточноевропейским делам, и, несомненно, они были против «Нового курса» и его внешнеполитической установки на сближение с Россией. Рузвельт дал заместителю госсекретаря Самнеру Уэллсу, стремительному в своих действиях и решительному руководителю, поручение реорганизовать этот отдел и перестроить его текущую деятельность на новой основе. Рузвельт знал Уэллса (который, как и сам президент, окончил Гротон и Гарвард и вышел из Демократической партии) еще с тех времен, когда тот на его свадьбе в 1905 году двенадцатилетним мальчиком нес шлейф платья Элеоноры. Уэллс с благословения президента приступил к вытеснению Келли из Госдепартамента и слиянию отдела по восточноевропейским делам с отделом по делам Западной Европы. Тем не менее дух антисоветизма среди сотрудников дипломатической службы пустил слишком глубокие корни. Большинство чиновников внешнеполитического ведомства были настроены против оказания помощи России даже после того, как Гитлер напал на Советский Союз. Они даже не пытались понять позицию Сталина в отношении Запада. Так, в последующем Чарльз Болен напишет про сотрудников Госдепартамента, включив и себя в их число, что их оценка Сталина в годы войны была настолько ошибочной, что «у нас, тех, кто принимал участие в решении вопросов, связанных с Советским Союзом, были большие сомнения в том, насколько серьезно он рассматривает возможность вступления в такую международную организацию, как Объединенные Нации… Когда соответствующий проект был впервые предложен советским представителям, мы ждали их реакции с некоторым трепетом»[243]. Келли был вовсе не одинок в своих взглядах среди сотрудников Госдепартамента. Большинство (хотя были и исключения) пришло на дипломатическую работу в это ведомство из консервативных, состоятельных, известных семей восточных штатов, которые резко выступали против «Нового курса». Даже Болен, чьи взгляды под воздействием Гарри Гопкинса и Рузвельта претерпели изменения, следовал их стереотипам. Неудивительно, что Болен посещал англиканскую церковь и Гарвард, где он вступил в мужской студенческий клуб «Порселлиан», самый снобистский из всех клубов Гарварда. Отец Рузвельта также был членом этого клуба, а сам он не был принят в его члены, и это явилось самой болезненной неудачей в годы его молодости, прежде чем он заболел полиомиелитом. (Болен, конечно же, знал, как и каждый член клуба «Порселлиан», что Рузвельт не был «клеймен», как называли это «порселлианцы», поскольку эта информация ходила среди нестареющих клубных новостей и, несомненно, порой давала Болену повод отзываться о президенте с некоторым оттенком превосходства. С другой стороны, президент, возможно, не знал, что его новый переводчик был членом клуба «Порселлиан».)
Рузвельту нравилось иметь дело с теми (как с мужчинами, так порой и с женщинами), которые понимали, чего он хочет, и делали бы это без лишних вопросов. Херли относился как раз к этой категории людей.
С тех пор как Рузвельт в марте 1942 года объявил, что Иран имеет право на поставки по программе ленд‑лиза, Соединенные Штаты приобрели серьезное влияние в стране. К моменту проведения Тегеранской конференции американцы контролировали такие сферы деятельности Ирана, как финансы, работу полиции, снабжение населения продовольствием. Кроме того, Соединенные Штаты занимались также вопросом реорганизации иранской армии. Рузвельт хотел получить простую, ясную декларацию, которая бы подтвердила иранцам, что Америка уважала и намерена поддерживать территориальную целостность Ирана и после окончания войны, и в которой было бы зафиксировано, что Россия и Великобритания будут также соблюдать свои соглашения. Херли, который в значительной степени нес ответственность за обеспечение влияния США в Иране, должен был понимать, как составить такую декларацию.
В связи с тем что, по существу, это являлось повторением Атлантической хартии, ни Сталин, ни Черчилль не могли оспорить обещание «поддержать независимость, суверенитет и территориальную целостность Ирана». Наряду с этим поскольку у каждой из их стран была своя история соглашений с Ираном, которая обычно игнорировалась, по всей вероятности, ни Черчилль, ни Сталин не придали значения этому заявлению, решив, что это рекламный ход. (На самом деле ни один из них не соблюдал впоследствии данного обещания. В Ялте, когда Энтони Иден предложил вновь подтвердить приверженность этой декларации, Молотов отказался. Великобритания, которая сохраняла влияние в южной части страны, где располагались нефтеперегонные заводы Англо‑иранской нефтяной компании (АИНК) и важные нефтяные скважины, признала декларацию только на словах, продолжая в действительности практику присвоения львиной доли прибыли АИНК, расселяя сотрудников этой компании из числа иранцев в трущобах и отказываясь назначать иранцев на руководящие должности или же обучать их – что создало благоприятную почву для последующих социальных потрясений и революции.)
После того как Херли ушел, Рузвельт сказал Эллиоту: «Побольше бы нам таких людей, как Пэт, на которых я мог бы положиться».
Рузвельт продолжал проявлять обеспокоенность ситуацией в Иране. Учитывая, как мало он побыл в этой стране, он смог узнать про нее очень много. Через несколько недель после возвращения в Соединенные Штаты Рузвельт послал Хэллу записку с описанием своих впечатлений: «Иран, безусловно, очень‑очень отсталая страна. Она состоит из нескольких племен, и 99 процентов населения, по существу, находится в рабстве у одного процента. 99 процентов населения не имеют своей земли и лишены возможности начать собственное дело или же превратить его в деньги или имущество»[244].
* * *
Был день рождения Черчилля (ему исполнялось шестьдесят девять лет), и именинник использовал это по максимуму. Днем британские и индийские военнослужащие и сотрудники Англо‑иранской нефтяной компании устроили в его честь небольшой парад. Пользуясь таким случаем, Черчилль пригласил вечером к себе на ужин в британское посольство Рузвельта и Сталина, а также высших военных представителей и представителей внешнеполитических ведомств трех держав, Эллиота Рузвельта и своих детей Рандольфа Черчилля и Сару Черчилль‑Оливер.
Это был прекрасный вечер. День был жарким, но с приходом темноты настала приятная прохлада. Для обеспечения безопасности (и чтобы создать драматический эффект от их формы) англичане поставили на входе в богато украшенное белое здание сикхов. Они также установили пандусы на входное крыльцо, чтобы Рузвельт в своей инвалидной коляске мог въезжать и выезжать.
Не доверяя британской основательности, Берия к приезду Сталина предпринял свои собственные меры безопасности. Сотрудники НКВД проверили здание сверху донизу, заглянув не только за каждую дверь, но под каждую подушку каждого кресла, и даже, по утверждению раздраженного Черчилля, опросили служащих посольства. К вечеру советская охрана находилась возле каждой двери и каждого окна, а также на крыше.
Тем не менее к началу ужина Черчилль вместе со своей дочерью Сарой сияли весельем (сам Черчилль счастливо дымил сигарой), принимая гостей, большинство из которых пришли с подарками. Рузвельт отметил, что, когда Черчилль представил Сару Сталину, тот склонился, «взял ее руку и поцеловал в старомодной, элегантной европейской манере».
Рузвельт подарил премьер‑министру персидскую чашу, Сталин – папаху и большую фарфоровую скульптуру, изображавшую персонажей русских народных сказок. Черчилль был одет в смокинг, но Рузвельт, который не любил фрака и, как правило, избегал его, надел, как он это часто делал, когда требовалась официальная одежда, темно‑синий костюм в едва заметную полоску и черный галстук‑бабочку. Сталин был в форме.
Общество переместилось в элегантный обеденный зал, стены которого были выложены зеркальной плиткой, а окна задрапированы красными шторами. Длинные столы были уставлены хрусталем и серебром, мерцал свет свечей. Слуги были в ливреях и перчатках. Черчилль разместил своих гостей таким образом, чтобы Рузвельт находился справа от него, а Сталин – слева.
Посреди стола возвышался «грандиозный» праздничный торт, на вершине которого будут зажжены шестьдесят девять свечей.
Около каждого прибора находилось такое количество ножей и вилок, что Сталин был вынужден обратиться к британскому переводчику, Э. Г. Бирсу, сидевшему рядом с ним: «Прекрасная коллекция столовых приборов, но выбрать из них верный – проблема. Вы должны будете подсказывать мне, а также дать знать, когда я могу начать есть. Мне незнакомы ваши обычаи»[245].
Блюда, поданные к ужину, на самом деле были довольно простыми и скромными, особенно по советским стандартам. В соответствии с британской традицией перед каждым на столе было размещено меню: бычий хвост в кляре, филе морского языка в кляре в соусе «муслин», фаршированная индейка с пряностями, сезонный салат, винегрет со спаржей, яблочный пирог, фрукты.
Отовсюду сыпались тосты, после каждого из них все обычно вставали (безусловно, за исключением Рузвельта). Сталин поступал в своей обычной манере: он шел к тому, за кого поднимал тост, и чокался с ним. Черчилль делал то же самое. Таким образом, как вспоминал советский переводчик Валентин Бережков, «они вдвоем медленно перемещались по залу с бокалами в руках». Черчилль был настолько счастлив, что станцевал «веселый и безудержный танец английских моряков “хорнпайп“».
Рузвельт предложил тост за здоровье Сары Черчилль, после чего Сталин по своей традиции обошел стол, чтобы чокнуться с ней. Сара вспоминала, что, хотя он представлял собой «пугающую фигуру с узкими медвежьими глазами, он был в веселом настроении. В его глазах играли вспышки света, как холодные солнечные блики в темной воде»[246]. После того как она чокнулась со Сталиным, Сара подошла поблагодарить президента, который сказал ей (и это был редкий случай, когда он сослался на свое состояние): «Я бы тоже подошел к тебе, моя дорогая, но я не могу».
У всех остались в памяти две взаимных реплики Сталина и Черчилля. Во время одного из тостов Сталин упомянул Рузвельта и Черчилля как своих «боевых друзей» или «товарищей по оружию», затем он сделал паузу и сказал: «Если только это возможно для меня – считать Черчилля своим другом». В другом случае Черчилль заявил, что мир меняется. Он отметил в этой связи, что Великобритания стала приобретать «розовый» оттенок. В этот момент Сталин вставил: «Это признак здоровья». Черчилль ответил, что он согласен – при условии, что процесс не зайдет так далеко, чтобы привести к полнокровию и застою крови. Была еще одна весьма неоднозначная и удручающая сцена, когда Сталин в ответ на хвалебные тосты в его честь и в честь русского народа заявил, что «Красная армия сражалась героически, но русский народ и не ожидал ничего другого от своих вооруженных сил… Даже люди среднего мужества (и даже трусы) становились в России героями. Те, кто не погиб».
В какой‑то момент Рузвельт поднял бокал и произнес тост за сэра Алана Брука, начальника Имперского Генерального штаба. Сталин сказал, что он хотел бы что‑то добавить к тосту Рузвельта. Затем он заявил, что сожалеет о том, что сэр Алан так сурово и так недоверчиво относится к русским и что он пьет за здоровье генерала в надежде, что сэр Алан «лучше узнает нас и обнаружит, что, в конце концов, мы не так уж и плохи».
Результат был катастрофическим. Ужин до сих пор проходил в достаточно дружественной обстановке. Сэр Алан Брук уважал Сталина, но не любил его. Теперь же, несомненно, под влиянием излишка алкоголя Брук постучал ножом по своему бокалу и произнес тост, заявив, что англичане пострадали в этой войне больше, чем все другие, потеряли больше и сражались больше, чем любой другой народ.
После этого опрометчивого замечания, которое, как все в зале знали, было несправедливым (русские потеряли миллионы солдат и гражданского населения, больше, чем Великобритания, и уничтожили гораздо больше немцев, нежели англичане), «Сталин стал мрачен»[247], как вспоминал Бережков. «Он выглядел так, как будто вот‑вот взорвется». Однако, взяв себя в руки, он спокойно сказал:
«Я хочу рассказать вам, что, с советской точки зрения, сделали для победы президент и Соединенные Штаты. В этой войне главное – машины. Соединенные Штаты доказали, что они могут производить от 8 до 10 тысяч самолетов в месяц. Советский Союз может производить в лучшем случае 3 тысячи самолетов в месяц. Англия производит ежемесячно от 3 до 3,5 тысячи самолетов, главным образом, тяжелых бомбардировщиков. Следовательно, Соединенные Штаты – страна машин. Без этих машин, полученных по ленд‑лизу, мы бы проиграли войну»[248].
Позже американская пресса отметила, что Сталин сделал самый громкий комплимент в адрес Рузвельта, который когда‑либо звучал от руководителя самой крупной коммунистической страны в мире в адрес руководителя самой крупной капиталистической страны в мире. Кроме того, он смог также виртуозно изменить тему беседы.
Рузвельт, конечно же, должен был ответить, и в своем ответном тосте он воспользовался возможностью, чтобы подчеркнуть их самое большое достижение в Тегеране: они сделали первые шаги для объединения наций («Даже здесь, как он сделал это и в конференц‑зале, Рузвельт посчитал необходимым упомянуть о послевоенном устройстве мира и о важности сохранения единства и сотрудничества великих держав не только на данный момент, но и в будущем», – отметил Бережков.).
«У всех нас разные обычаи, философские воззрения и образ жизни. Каждый из нас выработал свою схему действий в соответствии с устремлениями и идеями наших народов.
Однако в Тегеране мы доказали, что различные идеалы наших народов могут совпасть в единое, гармоничное целое, чтобы сплоченно служить для нашего общего блага и ради всего мира.
Завершая описание этой исторической встречи, мы впервые увидим в небе традиционный символ надежды – радугу».
На этом обед закончился.
Глава 6
Укрепляя союз
Рузвельт планировал остаться в Тегеране до четверга, 2 декабря, но погода изменилась к худшему, в горах пошел снег. Он решил уехать поздно вечером в среду и уведомил всех об этом.
Он провел последнее утро, просматривая срочную официальную почту, которая должна была быть отправлена. Пленарное заседание со Сталиным и Черчиллем должно было начаться в конференц‑зале в полдень, продолжиться на обеде в апартаментах президента и затем вновь в конференц‑зале после обеда, а в случае необходимости и вечером, пока все проблемы не будут решены.
Рузвельт, конечно же, не знал, как тщательно Сталин следил за его частными разговорами, но был в курсе, что у Сталина была привычка заглядывать в его комнаты, чтобы убедиться, что о президенте хорошо заботятся. Уильям Ригдон, пресс‑секретарь Рузвельта, и Зоя Васильевна Зарубина, советская разведчица, которая говорила по‑английски и которой было поручено контролировать, чтобы у Рузвельта все было в порядке, были свидетелями того, как Сталин несколько раз без приглашения появлялся в комнатах Рузвельта. По словам Ригдона, иногда Сталин приходил вместе с Павловым, однажды он спросил, «не нуждаются ли они в чем‑либо»[249], и через Павлова пояснил смысл русских безделушек на столе у Рузвельта. «При этом он все время улыбался и выказывал своему гостю большое уважение… Сталин обычно настаивал, чтобы президент продолжал заниматься своим делом. “Не позволяйте мне мешать вам работать”, – говорил он через Павлова».
Зарубина вспоминала, что однажды утром она впервые увидела Сталина, когда он находился рядом с апартаментами Рузвельта и, очевидно, был намерен зайти к президенту. Она перевела вопрос Сталина: «Можно войти?» Рузвельт ответил: «Добро пожаловать».
«Разговор начался с простых вопросов Сталина Рузвельту: «Как вы себя чувствуете? Хорошо ли спали?» Президент ответил: «Да, я выспался. Мне здесь нравится. Лягушки, правда, квакали в пруду и некоторое время не давали мне заснуть». Я обернулась, посмотрела на Сталина и от волнения забыла, как будет на русском языке слово «лягушка». Тогда я сказала: «Иосиф Виссарионович, такие маленькие желтые животные, которые квакают в пруду, мешали президенту США заснуть». Я всегда начинаю свои воспоминания с этой сцены, поскольку это был для меня своего рода шок и провал»[250]. (Согласно советским документам, чтобы не нарушать сна Рузвельта, все лягушки были убиты).
Теперь, в последнее утро перед своим отъездом, Рузвельт, просмотрев почту, решил, как и Сталин, поступить неформально и зайти к нему частным образом. Рузвельт полагал, что если бы он смог вызвать Сталина на откровенность, проявить единство взглядов, тогда Сталин мог бы начать доверять ему. Рузвельт чувствовал: требуются дружеские отношения, чтобы заставить Сталина принять его планы, подразумевавшие признание необходимости силовых методов. Объединенные Нации, планируемые Рузвельтом, были предназначены для принуждения к миру, для обуздания стран‑изгоев, стран‑нарушителей, и они должны будут черпать власть из власти его полномочных членов. Это означало, что каждая страна должна была отказаться от некоторой части своей власти в пользу организации. Навязать Сталину идею о передаче власти было трудным делом. Для создания Объединенных Наций Рузвельт нуждался в полном сотрудничестве со Сталиным, что‑либо меньшее означало поражение. И он собирался добиться этого сотрудничества своим собственным, особым образом.
В этот день Рузвельт был весьма коварен. Он имел склонность играть людьми – и он брал над ними верх, поскольку был слишком умен и превосходно разбирался в людях. Он играл, например, с генералом Дугласом Макартуром, которого он считал талантливым генералом, но весьма опасным лидером, которого необходимо держать под неустанным контролем. Как отмечал биограф Макартура, Уильям Манчестер, Рузвельт одновременно расхваливал генерала и ставил его в тупик. Рузвельт однажды сказал, что он считает генерала одним из двух самых опасных людей в стране. (Другим был губернатор Луизианы Хью Лонг, беспринципный демагог, который был убит в 1935 году. Этих двух людей объединяло то, что они оба были возможными претендентами на пост президента страны.)
Макартур совершил непростительный для военного шаг: он ослушался приказа. Вместо того чтобы разогнать ветеранов Первой мировой войны, которые, требуя денежных компенсаций, расположились со своими семьями возле Вашингтона летом 1932 года (как ему было приказано это сделать), он поджег их лагерь. Погибли невинные люди, в том числе дети. Находясь на посту президента, Рузвельт воздавал Макартуру почести как генералу, но в остальном обращался с ним как с лидером консервативных политических кругов.
Как‑то спустя несколько лет на ужине в Белом доме Макартур спросил Рузвельта: «Господин президент, почему вы часто спрашиваете мое мнение по поводу социальных реформ, находящихся на этапе рассмотрения… но обращаете мало внимания на мои взгляды по военным вопросам?» Рузвельт ответил с честностью Макиавелли: «Дуглас, я не могу довериться вашим советам по этим вопросам, но могу довериться вашей реакции на них. Для меня вы являетесь символом совести американского народа»[251].
Теперь, оказавшись лицом к лицу с Иосифом Сталиным, сдержанность и скрытность которого он хотел преодолеть, он решил прибегнуть к одной из своих игр. Как позже Рузвельт сообщил Фрэнсис Перкинс, он понял, что должны быть востребованы кардинальные меры, иначе «со всем тем, что мы делали, могли бы справиться и министры иностранных дел»[252].
Его «операция», направленная на установление личных дружеских контактов со Сталиным, причем за счет Черчилля, была организована им как раз перед последней пленарной сессией. Черчилль был в плохом настроении. По воспоминаниям Рузвельта, когда они вошли в конференц‑зал, «у меня была ровно секунда, чтобы сказать ему: «Уинстон, я надеюсь, вы не рассердитесь на меня за то, что я собираюсь сделать». Черчилль в ответ лишь перекатил свою сигару во рту и что‑то пробурчал. Как только они расселись вокруг стола, Рузвельт (как он сам рассказывал позже Перкинс) «начал лично общаться со Сталиным. Я не говорил ему ничего такого, чего я не высказывал раньше, но делал это настолько по‑дружески и конфиденциально, что и другие русские стали прислушиваться к нам. Сталин оставался по‑прежнему сдержанным.
Тогда я сказал, прикрыв рукой рот (но так, чтобы переводчик смог перевести мой шепот): «Уинстон сегодня не в духе, он встал с утра не с той ноги».
Смутная улыбка появилась в глазах Сталина, и я понял, что был на верном пути… Я начал дразнить Черчилля его британской гордостью, его сигарами, его привычками, называть его Джоном Буллем[253]. Сталин отметил это. Уинстон покраснел и нахмурился, и чем больше он так делал, тем больше улыбался Сталин. Наконец, Сталин разразился глубоким, от души, смехом, и впервые за эти три дня я увидел просвет в наших отношениях, и у меня появилась надежда. Я продолжал свою тактику, Сталин смеялся вместе со мной, и именно тогда я назвал его “Дядюшкой Джо”. Накануне, возможно, он общался со мной прохладно, но в тот день он засмеялся и подошел ко мне пожать мне руку.
С этого времени наши отношения перешли на личный уровень, и Сталин сам стал время от времени отпускать различные шутки и остроты. Лед был сломан, и мы начали общаться как обычные люди, как братья».
Поддразнивая Черчилля, Рузвельт, несомненно, хотел тем самым показать Сталину, что он теперь чувствовал себя так же комфортно и хорошо со Сталиным, как и с премьер‑министром. Этим он привел Сталина и, конечно же, самого себя в хорошее расположение духа. В июне Литвинов сообщил, что Рузвельт «был полностью убежден в необходимости открытия “второго фронта” как можно скорее, и, безусловно, в Западной Европе», но что он «постепенно отошел от этого мнения под давлением своих военных советников и, особенно, Черчилля… Возможно предположить, без риска ошибиться, что там, где дело касалось военной политики, Черчилль вел Рузвельта на буксире»[254].
Примерно в то же время Дэвис сообщил Рузвельту, что Сталин обвинил президента США в поддержке «традиционной британской внешней политики, направленной на то, чтобы отгородиться от России, закрыв Дарданеллы и выстроив систему компенсационного баланса сил против нее»[255].
Если у Сталина все еще оставались сомнения относительно внешнеполитических целей Рузвельта или относительно того, вел ли Черчилль его на буксире, то Рузвельт хотел поставить на них крест.
* * *
Пленарное заседание началось. Гопкинс и Гарриман сидели по обе стороны от президента, Иден и британский посол Кларк Керр – по обе стороны от Черчилля, Молотов – рядом со Сталиным. Рузвельт открыл совещание вопросом о том, что можно было бы предпринять, чтобы побудить президента Турции Исмета Иненю вступить в войну. И Объединенный комитет начальников штабов, и Рузвельт считали, что вступление Турции в войну в целом нецелесообразно, поскольку могло обойтись слишком дорого – с учетом необходимости предоставления туркам боевой техники и вооружения, в частности десантных кораблей, уже предназначенных для операции «Оверлорд». Тем не менее Черчилль, понимая, что это создаст проблемы для организации операции «Оверлорд», утверждал, что мотивированная Турция, обеспеченная десантными кораблями, могла бы осуществить успешную операцию по захвату Родоса, который он считал стратегически важным островом. Он предложил направить десантные корабли из Тихоокеанской зоны. Однако Гопкинс, проявив твердость, заявил, что свободных десантных кораблей в распоряжении не было. Рузвельт также сказал, что переброска откуда‑либо десантных кораблей «абсолютно невозможна»[256]. Сталин не придал этим разногласиям значения, поскольку вопрос был закрыт.
Обсуждение продолжилось в течение обеда, который был организован в апартаментах Рузвельта его слугами‑филиппинцами.
Затем Рузвельт поднял тему Финляндии. Он был крайне недоволен вторжением Советского Союза в Финляндию в 1939 году, назвав в одном из писем эту войну «ужасным насилием»[257]. На заседании правительства, состоявшегося после вторжения советских войск в Финляндию, президент Рузвельт объявил, что в Советский Союз не будет поставляться вооружение или какое‑либо военное снаряжение. С тех пор ситуация, безусловно, резко изменилась: финские войска входили теперь в состав германских войск, обеспечивавших блокаду Ленинграда. Рузвельт полагал, что он знал, о чем сейчас думал Сталин: в июне 1942 года Литвинов рассказал Гопкинсу, что Сталин решил воздерживаться от каких‑либо действий в отношении Финляндии. Рузвельт надеялся, что Литвинов правильно сообщил о позиции Сталина, но он не особенно рассчитывал на то, что Сталин будет неукоснительно придерживаться ее: он был готов к любому развитию событий. Как он в сентябре мрачно написал архиепископу Нью‑Йорка кардиналу Спеллману, он считал, что была высока вероятность того, что Сталин заявит притязания на Польшу, Прибалтику, Бессарабию и Финляндию, «поэтому было лучше уступить их изящно… Что мы можем поделать с этим? Через десять или двадцать лет… под европейским влиянием русские, возможно, перестанут быть такими грубыми варварами»[258].
Сталин успокоил президента. Он вначале выступил с критикой в адрес Финляндии, отметив, что на советском фронте находилась двадцать одна финская дивизия и что уже двадцать семь месяцев Ленинград был в блокаде, организованной совместно финскими и германскими войсками. Наряду с этим он заявил, что у России не было «никаких планов» по вопросу о независимости Финляндии. Рузвельт был чрезвычайно доволен.
Затем разговор перешел к некоторым деталям советских территориальных претензий к Финляндии. Сталин заявил, что он хотел бы получить один из двух портов: Ханко на южном побережье Финляндии или Петсамо на северной оконечности ее побережья: «Если передача Ханко представляет собой проблему, то я готов согласиться на Петсамо»[259]. У Рузвельта, который вздохнул с облегчением, не было никаких возражений. «Это справедливый обмен», – признал он.
Заседание на время прервалось.
Рузвельт обратился к Сталину с просьбой в последний раз встретиться с ним без присутствия Черчилля.
Сталин появился у Рузвельта в 15:20 в сопровождении Молотова. С президентом был Гарриман.
Как всегда, Рузвельт обозначил повестку дня. Как только он со Сталиным расположились друг напротив друга, он упомянул две темы. Первая – это Польша.
Рузвельт был готов согласиться с контролем Советского Союза над Польшей при условии, что она будет миролюбивой страной и ее политические структуры сохранятся. Рузвельта забавлял очевидный недостаток энтузиазма в отношении польского правительства в изгнании в Лондоне, хотя Соединенные Штаты, как и Великобритания, признали его в качестве официального правительства Польши. Он считал, что оно не являлось представителем своей страны. Кроме того, оно было нереалистичным в своих ожиданиях и, что еще более важно, занимало явную антисоветскую позицию. Непосредственно перед тем, как отправиться в Тегеран, он высказал свои мысли молодому английскому другу Элеоноры Рузвельт: «Я устал от этих людей. Посол Польши некоторое время назад приходил ко мне, чтобы переговорить по этому вопросу»[260]. Продолжив, он изобразил просьбу посла оказать помощь в отношениях с советской стороной: «Я сказал [ему]: «Как вы думаете, они будут готовы прекратить это, чтобы порадовать вас или нас? Или вы ожидаете, что США и Великобритания объявят войну дядюшке Сталину, если они перейдут заветные границы вашей страны?»
У Гарримана также были серьезные сомнения в отношении польского правительства в изгнании. Он описывал его как группу аристократов, которые ожидали, что американцы и англичане восстановят их положение и их земельные владения (достаточно обширные) и поддержат феодальную систему, которая существовала в Польше в начале века.
Рузвельт, общаясь со Сталиным, не стал останавливаться на этих вопросах. Он дал понять, что он рассматривает будущее Польши через призму предстоявших в США президентских выборов: если война все еще продолжится в 1944 году, он будет баллотироваться на четвертый срок, и если он решится на этот шаг (а он пока еще не объявил об этом), то ему будут нужны голоса американцев польского происхождения (от шести до семи миллионов человек). Следует отметить, что Рузвельт сильно преувеличивал число польского населения в Америке: по данным переписи населения США 1940 года, в США было менее миллиона коренных поляков и менее двух миллионов граждан польского происхождения. Рузвельт подчеркнул, что он не будет принимать участие в какой‑либо дискуссии о границах Польши с учетом его заинтересованности в голосах поляков, но он согласен со Сталиным, что восточная граница Польши должна быть отодвинута на запад, а западная – перенесена на реку Одер. Такой шаг (с акцентом в западном направлении) мог бы одновременно дать Советскому Союзу то, что он хотел в отношении польской территории (присоединение ее части к своей территории), и увеличить территорию Польши за счет Германии.
Сталин ответил, что теперь он понял идею президента.
Затем Рузвельт вынес на обсуждение вопрос о балтийских странах – Литве, Латвии и Эстонии, – которые располагались между Советским Союзом и Балтийским морем. Они являлись провинциями России, пока Германия не захватила их во время большевистской революции, затем они были освобождены в результате Первой мировой войны и в 1939 году вошли в Лигу Наций. В 1940 году Сталин послал туда Красную армию и утвердил там силой свой порядок – по его мнению, восстановил порядок. Рузвельт был в ярости по поводу этих шагов. Как он пожаловался Самнеру Уэллсу, это была «откровенная грубость со стороны Москвы… Он искренне недоумевал, целесообразно ли продолжать поддерживать дипломатические отношения с Советским правительством»[261]. Рузвельт был настолько раздражен, что чуть не разорвал отношения с Советским Союзом и был готов закрыть все советские консульства. В конечном итоге он принял более мягкое решение – заморозить советские активы. Вторжение Гитлера, конечно же, изменило все эти планы, и хорошие отношения между двумя странами сразу же были восстановлены.
Рузвельт продолжал считать, что страны Балтии должны быть свободными. В марте 1943 года он сказал Энтони Идену, что ему не нравится идея возвращения стран Балтии в состав России и что Советский Союз «серьезно упадет в общественном мнении, если будет настаивать на своем». Он считал, что «прежний плебисцит, очевидно, был сфальсифицирован». В октябре Рузвельт сказал Хэллу, что он намерен обратиться к высоким моральным качествам Сталина и указать ему, что с точки зрения позиции России в мире было бы правильно, чтобы Советский Союз согласился провести референдумы в Латвии, Литве и Эстонии через два года после окончания войны. Однако к ноябрю Рузвельт изменил свое мнение и смирился с существующим положением дел. «Все эти прибалтийские республики ничем не лучше русских»[262], – сказал он другу Элеоноры лейтенанту Майлзу.
Теперь Рузвельт относился к этой теме очень деликатно. По воспоминаниям Болена, президент в шутливой форме говорил, что, хотя в США проживали литовцы, латыши и эстонцы (которые также принимали участие в голосовании), «когда советские войска вновь заняли Прибалтику, он не был намерен по этому поводу объявлять Советскому Союзу войну». Если же отрешиться от шутливой формы этого высказывания, то можно было понять, что Рузвельт испытывал внутренний дискомфорт, чувство неловкости в связи с отказом от своей прежней позиции. Ограничившись разъяснениями о необходимости соблюдать приличия, он говорил Сталину о роли общественного мнения в Соединенных Штатах, подчеркивая, что вопрос о референдуме и о праве этих трех стран на самоопределение будет иметь большую значимость и что «мировое общественное мнение выступает за то, чтобы эти народы выразили свою волю, возможно, не сразу же после их повторной оккупации советскими войсками, но в недалеком будущем»[263].
Сталин уже понял, что Рузвельт не намерен настаивать на статусе стран Балтии, однако заинтересован в соблюдении приличий, поскольку прошлым летом Литвинов уже информировал его об этом. «У США нет ни малейшего экономического или внешнеполитического интереса к проблеме Прибалтийских стран или к спорным пограничным вопросам между нами и Польшей… Тем не менее Рузвельт в связи с предстоящими президентскими выборами должен учитывать голоса выходцев из стран Балтии и Польши, а также американских католиков, и по этой причине он не желает открыто поддержать наши требования»[264], – сообщал тот.
Поэтому, отвечая сейчас на критику Рузвельта, Сталин знал о прочности своей позиции. Он заявил, что при последнем царе у этих трех стран не было автономии, что никто в то время не поднимал вопрос об общественном мнении и что он не видит основания поднимать его в настоящее время. Он добавил, что не согласится на международный контроль в каком бы то ни было виде. Наряду с этим он предложил провести определенную пропагандистскую работу.
Рузвельт поддержал эту идею. Он сказал, что «для него лично пошло бы на пользу, если с учетом предстоящих выборов могли бы быть сделаны некоторые публичные заявления, о которых упомянул маршал»[265].
Сталин ответил: «Имеется много возможностей для подобного выражения воли народа».
Само собой разумеется, что, с точки зрения Рузвельта, у Сталина не было прав на управление странами Балтии. Однако у Рузвельта имелись аналогичные проблемы и с Черчиллем по поводу прав Великобритании управлять Индией. Рузвельт добился согласия Черчилля на то, чтобы 1 января 1942 года Индия подписала Декларацию Объединенных Наций как самостоятельная страна, подобно Канаде, чему премьер‑министр вначале противился («Черчилль немедленно отреагировал отрицательно, пожал плечами и стал тянуть время»[266], – заметил Рузвельт). Однако Черчилль не сделал ничего, чтобы обеспечить какие‑либо шаги по ослаблению влияния Великобритании на Индию, хотя назревал бунт индийского населения, и в результате британской политики миллионы индийцев умирали от голода. Рузвельт понимал схожесть обеих ситуаций. Кроме того, были определенные границы, которые он не мог перейти. Он знал, что если он усилит давление на Сталина, то он может поставить под угрозу их отношения.
Рузвельт перевел разговор на Объединенные Нации, намереваясь увлечь Сталина своей идеей о действительно международной по своему характеру и форме организации. Рузвельт осознавал, что региональные блоки были недееспособны. В 1942 году, когда он затронул эту тему в ходе визита Молотова в Вашингтон, Сталин дал Молотову указание поддержать идею о региональных блоках: ему по‑прежнему нравилась эта концепция. Черчилль также выступал за организацию, которая разделяла свои сферы влияния. Намереваясь убедить Сталина в правоте своего проекта, касавшегося создания международной организации, при этом не оказывая излишнего давления, Рузвельт теперь заявил, что, по его мнению, «было бы преждевременно рассматривать в настоящий момент здесь эти планы совместно с господином Черчиллем»[267].
Он пояснил, что Объединенные Нации будут представлять собой три отдельные организации под одним «зонтиком». Первая – это крупное собрание всех государств‑членов. Вторая – это исполнительный комитет, который будет заниматься невоенными (гражданскими) вопросами и в котором будут представлены Россия, США, Великобритания, Китай, еще два европейских государства, одна латиноамериканская страна, одна ближневосточная страна, одна страна Дальневосточного региона и одна страна из числа британских доминионов. Третья организация – это четыре «международных полицейских» – охранителя мира.
Он «особо» подчеркнул, что четыре великих державы (Соединенные Штаты, Великобритания, Советский Союз и Китай) будут в послевоенный период обеспечивать всеобщий мир, добавив, что «это только идея, конкретная реализация которой потребует дальнейшего изучения»[268]. Рузвельт указывал, что он хотел бы знать мнение Сталина, но наряду с этим он также отмечал, что он со Сталиным, Америка с Россией должны стать двумя самыми влиятельными «международными полицейскими» – охранителями мира.
Как‑то раз Рузвельт попытался обсудить проблему годовой заработной платы рабочих с Генри Фордом. Рузвельт описывал, что когда он упомянул об этой проблеме и Форд понял, к чему он ведет, то хотел проигнорировать этот вопрос, но Рузвельт подошел к нему с другой стороны, а Форд вновь стал уклоняться. Рузвельт вспоминал, что провел весь обед, играя в шахматы с «дядей Генри» (как он назвал Форда), пытаясь проработать с ним этот вопрос. Однако, как выразился Рузвельт, «я не смог склонить его к этому»[269]. То же самое он пытался сейчас проделать и со Сталиным – но с лучшими результатами.
Его аргументация заключалась в том, что организация, устроенная подобным образом, будет иметь лучшие шансы для обеспечения всеобщего мира. Сталин, выслушивая его, очевидно прежде всего думал о последствиях.
Молотов, конечно же, также делал свое дело. В своих редких ремарках он отмечал, что на Московской конференции они согласились обсудить, как обеспечить доминирование («ведущую роль») четырех великих держав.
Сталин ответил, что «после того, как он обдумал вопрос о международной организации, как это было определено президентом, он согласен с президентом, что это должна быть всемирная структура, а не региональная»[270].
На этом их встреча завершилась.
Согласно воспоминаниям Гарримана (который присутствовал при этом), Рузвельт был «весьма» воодушевлен этим утверждением Сталина. Как отметил Самнер Уэллс, для Рузвельта ничего не было более важно, чем признание идеи Объединенных Наций и роли в ней России: «Для Франклина Рузвельта твердое соглашение с Советским Союзом было незаменимой основой для мира в будущем». Уступив по вопросу Балтийских стран и их пребывания в составе Советского Союза, Рузвельт заплатил небольшую цену, чтобы обеспечить мир в послевоенное время, особенно при учете того фактора, что на самом деле было только два варианта: согласиться с этим элегантно или же неуклюже.
Сталин тоже был воодушевлен конкретными результатами их беседы. Он считал, что ему удается направить Советский Союз новым, неизведанным курсом, который не смог спланировать даже Ленин. Позже он скажет одному из югославских коммунистов: Ленин считал, что «все будут нападать на нас… в то время как оказалось, что одна группа буржуазии против нас, а другая с нами. Ленин не думал, что будет возможно объединиться с какой‑то частью буржуазии. Но нам это удалось».
В шесть часов вечера Рузвельт, Сталин и Черчилль в последний раз сели в конференц‑зале в шелковых креслах вокруг стола с зеленым сукном – под взглядами советских охранников, расположившихся на балконе выше. Рузвельт открыл это заключительное пленарное заседание, заявив, что предстоит обсудить еще два вопроса: вопрос о Польше и отношение к Германии.
Следующим выступал Молотов, который, однако, затронул тему, ранее не поднимавшуюся: ожидание Советского Союза, что он получит часть захваченного итальянского флота. В составе флота было много торговых судов и несколько меньше боевых кораблей. Молотов заявил, что Советскому Союзу нужны суда и корабли и что он готов незамедлительно использовать их «в общих интересах до момента завершения войны»[271], после чего они могут быть распределены. По мнению Сталина, советская просьба была вполне умеренной. Черчилль высказал предположение, что если корабли вдруг будут переданы России, будет высока вероятность мятежа на итальянском флоте, что может привести к затоплению кораблей. После короткого обсуждения было решено, что Советский Союз получит корабли «где‑то в конце января»[272].
Затем Рузвельт перевел разговор на Польшу. Советский Союз разорвал отношения с польским правительством в изгнании в Лондоне в апреле 1943 года, когда оно предприняло попытку расследовать обвинения немцев в том, что Советский Союз уничтожил в 1940 году тысячи польских офицеров, являвшихся военнопленными. Эта ситуация была чревата серьезными проблемами, поскольку обвинения имели веские основания: в рамках многовекового конфликта между двумя странами Сталин (как будет выяснено позже) дал согласие на казнь офицеров, которые, как считалось, симпатизировали немцам, и они были похоронены в братской могиле в Катынском лесу под Смоленском. Рузвельт отказался рассматривать возможность казни офицеров советской стороной или быть вовлеченным в любого рода расследование этого вопроса. Сталин был его союзником, и расследование не привело бы ни к чему, кроме напряженности в их отношениях, а в сложившейся ситуации виновность или невиновность той или иной стороны не имела никакого значения. Он просто высказал свое пожелание, чтобы Советский Союз восстановил отношения с польским правительством в изгнании, а все спорные вопросы «будут так или иначе решены». Тем не менее Сталин продолжал делать различие между польским правительством в изгнании, которое было «тесно связано с немцами», и Временным польским правительством, которое пользовалось поддержкой Советского Союза.
Положение было безвыходным. Черчилль перевел разговор на менее конфликтный вопрос – о границах Польши.
Сталин вновь заявил, что Россия выступает за восстановление и расширение Польши «за счет Германии»[273], с чем и Черчилль, и Рузвельт были готовы согласиться. Была неофициально согласована «линия Керзона», точное местоположение которой было установлено на карте, предоставленной Боленом. Сталин разметил карту красным карандашом, чтобы показать области к востоку от советско‑польской границы 1941 года и к западу от «линии Керзона», восстановления которой в Польше он ожидал. Он высказался также за передачу Советскому Союзу прусских портов Кенигсберг и Тильзит.
Затем Рузвельт вновь завел речь о Германии. Он хотел бы согласовать вопрос о том, была ли необходимость разделять ее.
Сталин без колебаний ответил, что Россия выступает за разделение Германии.
Черчилль, который надеялся на возрождение Германии в качестве сильной державы, способной противостоять Советскому Союзу на континенте, сказал, что он больше заинтересован в отделении Пруссии, «дьявольской сердцевины германского милитаризма»[274], выступая наряду с этим за то, чтобы южные земли Германии могли стать частью Дунайской конфедерации.
Рузвельт представил свой план, который предусматривал разделение Германии на пять автономных частей: (1) Пруссия, которая становилась, насколько это только было возможно, небольшой и слабой; (2) Ганновер и северо‑запад Германии; (3) Саксония и Лейпциг; (4) Гессен‑Дармштадт; (5) Бавария, Баден и Вюртемберг. Кильский канал, Гамбург, Рур и Саар должны были перейти под контроль Объединенных Наций. Сталину план Рузвельта понравился больше, чем Черчиллю, поскольку предполагал более жесткий подход к Германии. Наряду с этим Сталин считал, что данный подход был все же недостаточно жестким. Сталин отметил, что задачей «любой международной организации» будет являться нейтрализация тенденции к воссоединению Германии и что страны‑победительницы «должны быть достаточно сильными, чтобы побить немцев, если те когда‑либо развяжут новую войну»[275]. Это заявление вызвало у Черчилля вопрос (что отразило его глубокое недоверие к Сталину), «не стремится ли маршал Сталин к тому, чтобы Европа состояла из маленьких, оторванных друг от друга, разделенных и слабых государств»[276]. Сталин ответил, что речь шла не о Европе, а только о Германии.
Черчилль не поверил ему. Он был твердо убежден, что Сталин намеревался ослабить и, возможно, даже оккупировать Западную Европу. Не пройдет и месяца, как он напишет Энтони Идену: «Хотя я всячески пытался пробудить в себе симпатию к этим коммунистическим лидерам, я не могу испытывать к ним ни малейшего доверия»[277].
Рузвельт же, напротив, не сомневался, что истинная цель Сталина в этом случае заключалась в том, чтобы, как тот и сказал, ослабить Германию, но наряду с этим сохранить прежнее положение остальных стран Западной Европы. И президент действительно был прав: у Сталина не было никаких военных намерений в отношении Западной Европы. В отличие от германских и японских руководителей, допускавших расовые высказывания, Сталин не считал, что славяне были расой господ, которой было суждено править миром. Он полагал, что коммунизм был экономической моделью будущего и что в конечном итоге коммунизм будет принят на Западе, поскольку являлся более эффективной формой управления. Однако в настоящее время первоочередной задачей было выиграть войну и обезопасить границы Советского Союза, а это означало, что требовалось обеспечить контроль над Германией.
Сталин был до такой степени обеспокоен вопросом будущего Германии, что после возвращения в Москву он тщательно отредактировал русскую часть состоявшихся в Тегеране бесед, чтобы отразить то, что он сказал в их ходе, и собственноручно внести необходимые правки. Окончательный вариант советского документа гласил: «Товарищ Сталин заявил, что в целях ослабления Германии Советское правительство предпочитает разделить ее. Товарищ Сталин положительно отнесся к плану Рузвельта, кроме предварительного определения количества государств, на которые Германия должна быть разделена. Он выступил против плана Черчилля по созданию после разделения Германии нового, нестабильного государства наподобие Дунайской Федерации»[278].
После того как обсуждение уже завершилось, Рузвельт высказал мысль, которую едва ли можно было считать нейтральной (учитывая только что поднимавшийся вопрос о разделении Германии). Он заявил, что, когда Германия состояла из 107 провинций, она представляла меньшую опасность для цивилизации. Черчилль в ответ ограничился репликой о том, что он «рассчитывает на более крупные административные единицы».
Заседание завершилось заявлением Черчилля о том, что вопрос о польских границах следует окончательно согласовать и урегулировать. Сталин вновь указал, что если России будет передана северная часть Восточной Пруссии, расположенная вдоль левого берега реки Неман и включающая Тильзит и Кенигсберг, то он будет готов признать «линию Керзона» в качестве советско‑польской границы.
Они разошлись, чтобы вновь встретиться на ужине. Рузвельт просил позволить ему организовать этот ужин, потому что он знал, что может рассчитывать на свой филиппинский персонал, который эффективно справится с этой задачей. Сталин и Черчилль согласились с этим.
В ходе этого завершающего ужина им был представлен окончательный проект Иранской декларации, провозглашающей их цели. Была представлена также декларация по Ирану, на которой настоял Рузвельт и которая была составлена Херли. В последнем документе признавался вклад Тегерана в дело союзников и его будущее право на независимость. Три руководителя изучили эти документы.
Несколько недель назад в ходе Московской конференции Сталин выступил против публикации какого‑либо заявления о политике в отношении Ирана. Теперь, после поступления такого предложения со стороны самих иранцев, а также с учетом личного обращения президента США Сталин изменил свое мнение и согласился с таким документом.
Состоявшиеся переговоры и споры заметно вымотали Сталина. Когда этот последний ужин подошел к концу, Болен отметил, что тот выглядел уставшим. Когда Сталин читал русский текст одного из документов, Болен быстро подошел к нему сзади, чтобы передать информацию от Рузвельта. Сталин повернулся и в раздражении воскликнул: «Ради бога, дайте нам завершить эту работу!»[279] Увидев, что это был Болен, «он смутился в первый и единственный раз».
Подписание декларации по Ирану дает интересную возможность получить определенное представление о том, насколько Сталин полагался на Рузвельта. Официальный текст для того, чтобы его подписали три руководителя, был подготовлен только на английском языке. Гарриман представил его Сталину и уточнил, хотел ли он, чтобы текст был переведен. Сталин отметил, что в этом не было необходимости, и попросил Павлова устно перевести его. Выслушав перевод Павлова, он, по воспоминаниям Гарримана, «в моем присутствии и в присутствии господина Болена сказал, что одобряет Декларацию» и что из‑за нехватки времени он согласен подписать текст на английском языке. Однако он настоял на том, чтобы Черчилль подписал его первым. При этом он не стал подписывать его и вторым. «Он заявил, что сделает это после президента. Я передал Декларацию президенту, который подписал ее. И уже после этого ее незамедлительно подписал и Сталин».
Тот документ, который подписали Черчилль и Сталин, должен был дать иранцам большую надежду на будущее, поскольку он призывал «обеспечить независимость, суверенитет и территориальную целостность Ирана», что в течение многих лет игнорировалось как Великобританией, так и Советским Союзом. Когда эти две страны в августе 1941 года вторглись в Иран, всего через два месяца после начала операции «Барбаросса», германского вторжения в Россию, шах телеграфировал Рузвельту с просьбой о помощи. Рузвельт подождал, пока вторжение не стало свершившимся фактом, а затем успокоил шаха заявлениями о том, что это было временной военной мерой, направленной на то, чтобы предотвратить захват страны Гитлером. Затем он вынудил Великобританию и Россию сделать заявление о том, что они покинут страну после разгрома Гитлера. Иран получил право на поставки по программе ленд‑лиза, которые были весьма щедрыми. Теперь страна пользовалась и административной, и экономической помощью США. Президент привез домой из Тегерана от благодарного шаха ковер, который положил в своем кабинетете.
Ужин завершился ровно в 22:30, к тому времени уже похолодало. Рузвельта выкатили в его кресле на крыльцо и перенесли в машину. Президент покинул Тегеран так же, как он въехал в него: в ничем не примечательном лимузине вслед за ничем не примечательным джипом, направляясь в Кэмп‑Амирабад, лагерь в пустыне на окраине Тегерана, где располагались американские войска из состава командования тылового обеспечения в зоне Персидского залива. Он вместе с Гопкинсом провел там ночь в качестве гостя генерала Дональда Коннолли, старого друга Гопкинса.
В последний день Рузвельт написал в своем дневнике: «Конференция прошла успешно, хотя я и обнаружил, что разрабатываю военные планы совместно с русскими. Сегодня утром британцы, к моему великому облегчению, также присоединились к нам»[280].
На следующее утро Рузвельт совершил поездку по лагерю в пустыне и выступил с зажигательными речами перед задубевшими на солнце солдатами и персоналом гарнизонного госпиталя:
– В течение последних четырех дней у меня была конференция с маршалом Сталиным и господином Черчиллем, весьма успешная, по разработке военных планов сотрудничества между нашими тремя странами, которые стремятся добиться победы как можно скорее… Другой целью переговоров было также обсуждение условий построения мира после войны. Мы попытались спланировать мироустройство для себя и для наших детей, когда война перестанет являться необходимостью. И мы добились в этом значительного успеха.
Примерно в то же время, когда Рузвельт утром обращался к солдатам, в советской миссии Валентин Бережков был свидетелем, как он думал, весьма мелодраматического отъезда Рузвельта. Он писал, что, одетый в черный плащ, шляпу, в пенсне и с сигаретой в длинном мундштуке, «он» (возможно, тот же агент личной охраны президента, что и прежде) сел в ожидавший его джип. Как только машина тронулась, четыре оперативника, согласно рассказу Бережкова, вскочили на подножки, затем двое достали из курток автоматы и положили их на передние крылья автомобиля. Бережков прокомментировал это весьма неодобрительно: «Мне показалось, что умышленная демонстрация своих действий оперативниками могла только привлечь внимание каких‑либо злоумышленников»[281].
Если бы Рейли знал, что он обманул такого умудренного человека, как Бережков, он был бы доволен.
Сталин со своим окружением поехал в аэропорт Гейле‑Морге позже утром, где два двухмоторных пассажирских самолета ожидали, чтобы отвезти их в Баку. Сталин сел во вторую машину. По прибытии в Баку он сменил изящную маршальскую форму на обычную солдатскую шинель и фуражку без каких‑либо нашивок или знаков отличия. Вскоре в аэропорт прибыла вереница лимузинов. Сталин сел во вторую машину рядом с водителем, его личный телохранитель устроился на заднем сиденье, и кортеж помчался на вокзал. Там специальный поезд Сталина, с длинными вагонами‑люкс, уже ожидал его, чтобы отвезти обратно в Москву.
Конец ознакомительного фрагмента — скачать книгу легально
[1] Rigdon, White House Sailor, 60.
[2] Комингс – порог вокруг люка, предохраняющий от попадания воды на нижележащую палубу. – Прим. пер.
[3] Reilly, Reilly of the White House, 136.
[4] Strong, The Soviets Expected It, 47.
[5] Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 138.
[6] McIntire, White House Physician, 170.
[7] Nov. 8, 1943, Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 182.
[8] Freidel, Rendezvous with Destiny, 31.
[9] Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 227.
[10] Wehle, Hidden Threads of History, 134.
[11] Acheson, Present at the Creation, 69.
[12] King Diary, Dec. 5, 1942.
[13] Geoffrey C. Ward, Closest Companion, ed. 385.
[14] Elliott Roosevelt, As He Saw It, 142 (издание на русском языке: Эллиот Рузвельт. Его глазами, М.: АСТ, 2003).
[15] Stalin to Franklin Delano Roosevelt, Oct. 30, 1943, Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 180.
[16] Montefiore, Stalin, 439.
[17] Harriman and Abel, Special Envoy, 253.
[18] Franklin Delano Roosevelt to Stalin, May 5, 1943, Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 129.
[19] Stalin to Franklin Delano Roosevelt, Aug. 8, 1943, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 151; fond 558, op. 11, files 366, note 22, Stalin Papers.
[20] Stalin to Franklin Delano Roosevelt, Sept. 8, 1943, Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 162.
[21] Franklin Delano Roosevelt to Stalin, Oct. 21, 1943, in ibid., 178.
[22] Franklin Delano Roosevelt to Stalin, Nov. 8, 1943, in ibid., 182.
[23] Isaacson and Thomas, Wise Men, 154; Kennan, Memoirs, 1925–1950, 57.
[24] Dallek, Franklin D. Roosevelt, 532.
[25] Robert Skidelsky, on C‑ SPAN, May 29, 2006.
[26] Talk with Harry Hopkins, June 5, 1945, Robert Meiklejohn Diary. «Он рассказал, как еще в самом начале реализации “Нового курса” он был отправлен в путешествие по Европе якобы для изучения вопроса жилищного строительства, но на самом деле, чтобы проверить его на дипломатической службе». Robert Meiklejohn Papers, секция рукописей, библиотека Конгресса США.
[27] Morgenthau, личный доклад президенту США, Jan. 15, 1944, Morgenthau Diaries, book 694, президентская библиотека Франклина Д. Рузвельта.
[28] Rosenman, Working with Roosevelt, 402.
[29] Ismay, Memoirs, 214.
[30] New Yorker, Aug. 7, 1943.
[31] Eleanor Roosevelt, This I Remember, 257.
[32] Adams, Harry Hopkins, 217.
[33] Gromyko, Memories, 54 (издание на русском языке: А. А. Громыко, Памятное, М.: Политиздат, 1988).
[34] Doenecke and Stoler, Debating Franklin D. Roosevelt’s Foreign Policies, 11.
[35] Perkins, The Roosevelt I Knew, 340.
[36] Loy Henderson, Columbia Center for Oral History, 92, Columbia University.
[37] Hull, Memoirs, 2:1110.
[38] Wehle, Hidden Threads of History, 223.
[39] Hull, Memoirs, 2:1111.
[40] Stalin to Franklin Delano Roosevelt, Oct. 6, 1943, Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 171.
[41] William Phillips Diary, based on the account of Cavendish Cannon, of the State Department, Nov. 12, 1943, Phillips Papers.
[42] Goodwin, No Ordinary Time, 471.
[43] E. J. Kahn, New Yorker, May 3, 1952.
[44] Надиктовано Франклином Д. Рузвельтом 1 июня 1944 года, президентская библиотека Франклина Д. Рузвельта.
[45] «Рыба» на морском жаргоне – торпеда. – Прим. пер.
[46] Rigdon, White House Sailor, 64.
[47] Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 978.
[48] Franklin Delano Roosevelt: His Personal Letters, 4:1469.
[49] Franklin Delano Roosevelt, запись от руки, Franklin Delano Roosevelt Papers, президентская библиотека Франклина Д. Рузвельта.
[50] U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 254–55.
[51] Stimson Diary, Nov. 9, 1943.
[52] U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran,1943, 204.
[53] Summersby, Past Forgetting, 173.
[54] Reilly, Reilly of the White House, 170.
[55] Ward, Before the Trumpet, 118.
[56] Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 771.
[57] Kimball, Churchill and Roosevelt, vol. 2, 597.
[58] Национальный архив Великобритании, 15 декабря 1943 года.
[59] Elliott Roosevelt, As He Saw It, 165 (издание на русском языке: Эллиот Рузвельт. Его глазами, М.: АСТ, 2003).
[60] Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 426.
[61] Ismay, Memoirs, 334.
[62] Pogue, Ordeal and Hope, 330.
[63] Ismay, Memoirs, 337.
[64] Moran, Churchill at War, 159.
[65] Дневник генерал‑майора сэра Джона Кеннеди, цитируется по изданию: Pogue, Organizer of Victory, 300–301.
[66] Tully, F.D.R.: My Boss, 270.
[67] Franklin Delano Roosevelt to Stalin, Nov. 22, 1943, Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 186.
[68] Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 969.
[69] U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 397.
[70] Ismay, Memoirs, 337.
[71] U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran,1943, 439.
[72] Salisbury, Russia on the Way, 256.
[73] Gorodetsky, Stafford Cripps in Moscow,150 (издание на русском языке: Г. Городецкий Миссия Криппса в Москве. 1940–1942).
[74] Rachel Polonsky, Molotov’s Magic Lantern, 64.
[75] Червонная Светлана Александровна, переписка с автором по электронной почте, 9 августа 2010 года.
[76] Axell, Marshal Zhukov, 34 (источник на русском языке: В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 37. М.: Издательство политической литературы, 1969).
[77] Winston S. Churchill, Hinge of Fate, 498.
[78] Dimitrov, Diary, 145.
[79] Volkogonov, Stalin, 455 (издание на русском языке: Д. А. Волкогонов, Вожди. Трилогия. Сталин. В 2 т. М., Агентство печати «Новости», 1991–1992.; переиздание – 1996).
[80] Bohlen, Witness to History, 355.
[81] Kathleen Harriman, Harriman and Abel, Special Envoy, 416.
[82] Тендер – специальный вагон, прицепляемый к паровозу, предназначенный для перевозки запаса топлива для локомотива (Прим. ред.).
[83] С. М. Штеменко. Генеральный штаб в годы войны М.: Воениздат, 1989, http://militera.lib.ru/memo/russian/shtemenko/index.html; «Комсомольская правда», 7 мая 2007 года; «Липецкие известия», 11 апреля 2007 года.
[84] Volkogonov, Stalin, 498 (издание на русском языке: Д.А Волкогонов, Вожди. Трилогия. Сталин. В 2 т. М., Агентство печати «Новости», 1991–1992.; переиздание – 1996).
[85] Harriman, memo of conversations at Tehran, Nov. 27, 1943, Harriman Papers.
[86] Reilly, Reilly of the White House, 178–179.
[87] Bullitt, For the President, 75.
[88] Moran, Churchill at War, 162.
[89] Reilly, Reilly of the White House, 179.
[90] Elliott Roosevelt, As He Saw It, 171 (издание на русском языке: Эллиот Рузвельт, Его глазами, М.: АСТ, 2003).
[91] Costigliola, Roosevelt’s Lost Alliances, 196.
[92] Дневник Макензи Кинга, 21 мая 1943 года.
[93] Kimball, Churchill and Roosevelt, 2:283.
[94] Franklin Delano Roosevelt to Stalin, May 5, 1943, Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 129.
[95] Werth, Russia at War, 617.
[96] Stalin to Franklin Delano Roosevelt, May 26, 1943, Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 134.
[97] Franklin Delano Roosevelt to Stalin, June 16, 1943, in: ibid., 141.
[98] Stalin to Franklin Delano Roosevelt, June 24, 1943, in: ibid., 144–145.
[99] Franklin Delano Roosevelt to Stalin, June 22, 1943, in: ibid., 144.
[100] Фонд Сталина в Российском государственном архиве социально‑политической истории, фонд 558, оп.11, д. 365.
[101] Stalin to Franklin Delano Roosevelt, June 26, 1943, Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 147–148.
[102] Stalin to Franklin Delano Roosevelt, Aug. 8, 1943, Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 150–151.
[103] Stalin to Franklin Delano Roosevelt, Oct. 19, 1945, in: ibid., 174.
[104] Franklin Delano Roosevelt to Stalin, Oct. 21, 1945, in: ibid., 178–179.
[105] Hull, Memoirs, 2:1303.
[106] APP, Excerpts from the Press Conference, Oct. 29, 1943, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=16334.
[107] Daisy Suckley, Closest Companion, ed. Geoffrey C. Ward, 250.
[108] Lash, Love, Eleanor, 399.
[109] Roosevelt and Frankfurter, 737.
[110] Daisy Suckley, Closest Companion, ed. Geoffrey C. Ward, 250.
[111] F.D.R.: His Personal Letters, 3:1462.
[112] Stalin to Franklin Delano Roosevelt, Nov. 5, 1943, Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 180–181.
[113] Welles, Where Are We Heading? 29–30.
[114] Daisy Suckley, Closest Companion, ed. Geoffrey C. Ward, Nov. 6, 253.
[115] King Diary, Dec. 5, 1942.
[116] Daisy Suckley, Closest Companion, ed. Geoffrey C. Ward, 252.
[117] Franklin Delano Roosevelt to Stalin, Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 181–182.
[118] «Советско‑американские отношения, 1939–1945».
[119] Werth, Russia at War, 687.
[120] Zubok and Pleshakov, Inside the Kremlin’s Cold War, 16.
[121] Bullock, Hitler and Stalin, 633.
[122] Dallin and Firsov, eds., Dimitrov and Stalin, 227.
[123] Ibid., 238.
[124] Dimitrov, Dimitrov and Stalin, 253.
[125] Werth, Russia at War, 617.
[126] И. Сталин, О роспуске Коминтерна (издание: И. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, М.: Госполитиздат, 1953), https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1943/05/28.htm.
[127] Birse, Memoirs of an Interpreter, 209.
[128] Werth, Russia at War, 676.
[129] Arthur M. Schlesinger Jr., Coming of the New Deal, 586.
[130] U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, 1941, General, The Soviet Union, 1, 767.
[131] F.D.R.: His Personal Letters, Sept. 3, 1941, 4:1204.
[132] U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, 1941, General, The Soviet Union, 1:832.
[133] Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 297.
[134] Harriman, America and Russia in a Changing World, 16.
[135] Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 391.
[136] Perkins, Roosevelt I Knew, 146.
[137] Harriman Papers, библиотека Конгресса США.
[138] Harriman and Abel, Special Envoy, 103.
[139] Hull, Memoirs, 2:1120.
[140] U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, 1942, 3: 142.
[141] Volkogonov, Stalin, 470 (издание на русском языке: Д. А. Волкогонов, Вожди. Трилогия. Сталин. В 2 т. М., Агентство печати «Новости», 1991–1992.; переиздание – 1996).
[142] Montefiore, Stalin, 461.
[143] Kahan, Wolf of the Kremlin, 214–215.
[144] Stimson Diary, May 1, 1942.
[145] Hull, Memoirs, 1:205.
[146] Stimson Diary, May 1, 1942.
[147] Phillips Diary, April 29, 1943.
[148] Gunther, Roosevelt in Retrospect, 60.
[149] Reilly, Reilly of the White House, 179.
[150] Daisy Suckley, Closest Companion, ed. Geoffrey C. Ward, 299.
[151] Jackson, That Man, 111.
[152] Ickes, First Thousand Days, 127.
[153] Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 344.
[154] Deane, Strange Alliance, 24.
[155] Hull, Memoirs, 2:1311.
[156] Leahy Diary, Nov. 30, 1943.
[157] Грузинское уменьшительное имя от имени Иосиф. – Прим. пер.
[158] Montefiore, Stalin, 48.
[159] Berezhkov, History in the Making, 211 (издание на русском языке: В. М. Бережков, Страницы дипломатической истории, М.: Прогресс, 1983).
[160] Montefiore, Stalin, 116.
[161] Rosenman, Working with Roosevelt, 22.
[162] Arthur M. Schlesinger, Coming of the New Deal, 551.
[163] Montefiore, Stalin, 49.
[164] Arthur M. Schlesinger, Coming of the New Deal, 575–576.
[165] Meacham, Franklin and Winston, 27.
[166] Gunther, Roosevelt in Retrospect, 62.
[167] Harriman and Abel, Special Envoy, 218.
[168] Bohlen, Witness to History, 141.
[169] U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 482–486.
[170] Ibid.
[171] Министерство иностранных дел Великобритании в Москву, телеграмма внешнему адресату, 26 октября 1943 года, Национальный архив Великобритании.
[172] U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 496.
[173] Moran, Churchill at War, 164.
[174] Alldritt, Greatest of Friends, 169.
[175] CAB/65/40/15, Minute 2, 15 декабря 1943 года, Национальный архив Великобритании.
[176] Надиктовано Франклином Д. Рузвельтом 1 июня 1944 года, OF 200, box 64, президентская библиотека Франклина Д. Рузвельта.
[177] Daisy Suckley, Closest Companion, ed. Geoffrey C. Ward, 299.
[178] U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 508–509.
[179] Ibid., 510–514.
[180] McIntire, White House Physician, 173.
[181] Reilly, Reilly of the White House, 180–181.
[182] Moran, Churchill at War, 165.
[183] Первая объединенная разведывательная служба США (была создана во время Второй мировой войны), на основе которой после войны было сформировано ЦРУ. – Прим. пер.
[184] U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 529.
[185] Leahy, I Was There, 209.
[186] U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 530.
[187] Там же.
[188] Там же, 531.
[189] Там же.
[190] Там же.
[191] Там же, 531–532.
[192] «Нью‑Йорк таймс», 17 сентября 1948 года.
[193] Roberts, Stalin’s Wars, 12.
[194] U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 532.
[195] Blum, Years of War, 342.
[196] Gunther, Roosevelt in Retrospect, 116.
[197] Jean Edward Smith, FDR, 587.
[198] U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 532.
[199] Там же, 532–533. Blum, Years of War. Записи Чарльза Болена допускают двоякое толкование того, когда именно Сталин высказался о легкости перепрофилирования предприятий, однако комментарии Рузвельта подтверждают, что эта идея прозвучала в то время, когда Рузвельт еще находился в зале.
[200] U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 533.
[201] Elliott Roosevelt, As He Saw It, 180 (издание на русском языке: Эллиот Рузвельт, Его глазами, М.: АСТ, 2003).
[202] Deane, Strange Alliance, 42.
[203] Montefiore, Stalin, 468.
[204] Alldritt, Greatest of Friends, 173.
[205] Moran, Churchill at War, 167.
[206] Winston S. Churchill, Closing the Ring, 368.
[207] Alldritt, Greatest of Friends, 169.
[208] U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 546.
[209] Там же, 546–548.
[210] Moran, Churchill at War, 149.
[211] Alldritt, Greatest of Friends, 171.
[212] Bohlen, Witness to History, 146.
[213] U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 550.
[214] Там же, 550–552.
[215] Там же, 552.
[216] Elliott Roosevelt, As He Saw It, 184–186 (издание на русском языке: Эллиот Рузвельт, Его глазами, М.: АСТ, 2003).
[217] Там же, 186.
[218] U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 553.
[219] Gunther, Roosevelt in Retrospect, 18.
[220] Elliott Roosevelt, As He Saw It, 188 (издание на русском языке: Эллиот Рузвельт, Его глазами, М.: АСТ, 2003).
[221] Bohlen, Witness to History, 147.
[222] Evans, Third Reich at War, 175 (издание на русском языке: Ричард Эванс, Третий рейх. Дни войны. 1939–1945, У‑Фактория, Астрель, Харвест, 2011).
[223] Там же, 171.
[224] Там же, 186. Бедственное положение военнопленных убедительно задокументировано Ричардом Эвансом и просто ужасает.
[225] Hull, Memoirs, 2:1289.
[226] Harriman and Abel, Special Envoy, 178.
[227] Elliott Roosevelt, As He Saw It, 188 (издание на русском языке: Эллиот Рузвельт, Его глазами, М.: АСТ, 2003).
[228] Winston S. Churchill, Closing the Ring, 374.
[229] Elliott Roosevelt, As He Saw It, 188 (издание на русском языке: Эллиот Рузвельт, Его глазами, М.: АСТ, 2003).
[230] Stimson and Bundy, On Active Service, 584.
[231] Описание этой сцены составлено по следующим источникам: Montefiore, Stalin, 470, 554; Harriman and Abel, Special Envoy, 274; Winston S. Churchill, Closing the Ring, 373–374.
[232] Elliott Roosevelt, As He Saw It, 190 (издание на русском языке: Эллиот Рузвельт, Его глазами, М.: АСТ, 2003).
[233] Winston S. Churchill, Closing the Ring, 373–374.
[234] U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 555.
[235] Elliott Roosevelt, As He Saw It, 191 (издание на русском языке: Эллиот Рузвельт, Его глазами, М.: АСТ, 2003).
[236] Look, Sept. 1946.
[237] Указанная структура действовала в течение Второй мировой войны, была сформирована из британского Комитета начальников штабов и Объединенного комитета начальников штабов США, подчинялась одновременно двум главам союзных государств. – Прим. пер.
[238] U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 564.
[239] Там же, 565.
[240] Там же.
[241] Дайрен – японское название порта Далянь; город на северо‑востоке Китая (основан русскими поселенцами), в 1904 году был захвачен Японией, в августе 1945 года был освобожден Советской армией, по советско‑китайскому договору 1945 года был признан китайским правительством свободным портом; пристани и складские помещения были переданы на 30 лет в аренду Советскому Союзу, в 1950 году все указанное имущество было безвозмездно передано КНР. – Прим. пер.
[242] Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 774.
[243] Bohlen, Witness to History, 128.
[244] Stettinius, Roosevelt and the Russians, 180; Hull, Memoirs, 2:1507–8.
[245] Montefiore, Stalin, 30; Gray, Stalin: Man of History, 386.
[246] Sarah Churchill, Thread in the Tapestry, 65.
[247] Berezhkov, History in the Making, 288 (издание на русском языке: В. М. Бережков, Страницы дипломатической истории, М.: Прогресс, 1983).
[248] U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 469.
[249] Rigdon, White House Sailor, 81–82.
[250] «Политический журнал», 5 апреля 2004 года.
[251] Manchester, American Caesar, 154.
[252] Perkins, Roosevelt I Knew, 84–85.
[253] Джон Булль – прозвище типичного англичанина. – Прим. пер.
[254] Ф. 06, оп. 5, п. 28, д. 327 («Политические и информационные письма, полученные от посольства СССР в США от товарищей М. М. Литвинова и А. А. Громыко, 22 мая – 29 июня 1943 года»), Архив внешней политики Российской Федерации. В документе имеются пометки карандашом, сделанные Молотовым.
[255] Costigliola, Roosevelt’s Lost Alliances, 192.
[256] U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943,587.
[257] Franklin Delano Roosevelt to Lincoln MacVeagh, Dec. 1, 1939, in F.D.R.: His Personal Letters, 4:965.
[258] Doenecke and Stoler, Debating Franklin D. Roosevelt’s Foreign Policies, 73.
[259] Winston S. Churchill, Closing the Ring, 399.
[260] Frank Costigliola, “Broken Circle: The Isolation of Franklin D. Roosevelt in World War II,” Diplomatic History 32, no. 5 (Nov. 2008): 705.
[261] O’Sullivan, Sumner Welles, Postwar Planning, and the Quest for a New World Order, 183.
[262] Costigliola, “Broken Circle”, 705.
[263] U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 595.
[264] Ф. 06, оп. 5, п. 28, д. 327 Архива внешней политики Российской Федерации, «Политические и информационные письма, полученные от посольства СССР в США от товарищей М. М. Литвинова и А. А. Громыко, 22 мая – 29 июня 1943 года».
[265] U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 595.
[266] King Diary, Dec. 5, 1942.
[267] U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 595.
[268] Там же.
[269] Jackson, That Man, 135–136.
[270] U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 596.
[271] Там же, 597.
[272] Там же.
[273] Там же, 598.
[274] Там же, 600.
[275] Там же, 603.
[276] Там же.
[277] Churchill to Eden, personal minute, Jan. 4, 1944, U. K. Archives.
[278] Roberts, Stalin’s Wars, 188.
[279] Bohlen, Witness to History, 143.
[280] Дневник Франклина Д. Рузвельта, 1 декабря 1943 года, президентская библиотека Франклина Д. Рузвельта.
[281] Berezhkov, History in the Making, 303 (издание на русском языке: В. М. Бережков, Страницы дипломатической истории, М.: Прогресс, 1983).
Библиотека электронных книг "Семь Книг" - admin@7books.ru