
Тайна, не скрытая никем (сборник) | Элис Манро
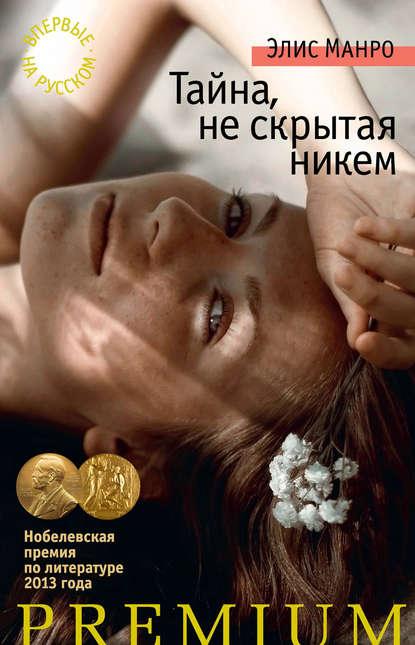
Элис Манро
Тайна, не скрытая никем (сборник)
Азбука Premium
* * *
Манро – одна из немногих живущих писателей, о ком я думаю, когда говорю, что моя религия – художественная литература… Мой совет, с которого и сам я начал, прост: читайте Манро! Читайте Манро!
Джонатан Франзен
Она пишет так, что невольно веришь каждому ее слову.
Элизабет Страут
Самый ярый из когда‑либо прочтенных мною авторов, а также самый внимательный, самый честный и самый проницательный.
Джеффри Евгенидис
Элис Манро перемещает героев во времени так, как это не подвластно ни одному другому писателю.
Джулиан Барнс
Настоящий мастер словесной формы.
Салман Рушди
Изумительный писатель.
Джойс Кэрол Оутс
Когда я впервые прочла ее работы, они показались мне переворотом в литературе, и я до сих пор придерживаюсь такого же мнения.
Джумпа Лахири
Поразительно… Изумительно… Время нисколько не притупило стиль Манро. Напротив, с годами она оттачивает его еще больше.
Франсин Проуз
Она – наш Чехов и переживет большинство своих современников.
Синтия Озик
Она принадлежит к числу мастеров короткой прозы – не только нашего времени, но и всех времен.
The New York Times Book Review
«Виртуозно», «захватывающе», «остро, как алмаз», «поразительно» – все эти эпитеты равно годятся для Элис Манро.
Christian Science Monitor
Как узнать, что находишься во власти искусства, во власти огромного таланта?.. Это искусство говорит само за себя со страниц с рассказами Элис Манро.
The Wall Street Journal
«Тайна, не скрытая никем» – подлинный триумф, вероятно, лучшего из современных мастеров короткой формы.
Chicago Tribune
Манро игнорирует любые условности и не боится рисковать, достигая при этом поразительной убедительности… «Тайна, не скрытая никем» буквально искрится верой в жизнь и силу слова.
The New York Times Book Review
В удивительно откровенных рассказах Манро, пронизанных состраданием к героям, прослеживается мысль: жизнь – это труд, и если мы подходим к этому труду с достаточной решимостью и упорством, то сможем прожить до конца достойно.
San Francisco Chronicle
У Элис Манро памятливый глаз художника. Она владеет почти совершенным пониманием мира ребенка. И у нее невероятное видение канадского пейзажа.
Saturday Night
В хитросплетениях сюжетов Манро не перестает удивлять: банальные бытовые драмы оборачиваются совсем необычными психологическими ситуациями, а типичная ссора приводит к настоящей трагедии. При этом рассказ обрывается столь же неожиданно, как начинался: Манро не делает выводов и не провозглашает мораль, оставляя право судить за читателем.
Известия
Все ее рассказы начинаются с крючочка, с которого слезть невозможно, не дочитав до конца. Портреты персонажей полнокровны и убедительны, суждения о человеческой природе незаезжены, язык яркий и простой, а эмоции, напротив, сложны – и тем интереснее все истории, развязку которых угадать практически невозможно.
Комсомольская правда
Все это Манро преподносит так, словно мы заглянули к ней в гости, а она в процессе приготовления кофе рассказала о собственных знакомых, предварительно заглянув им в душу.
Российская Газета
Банальность катастрофы, кажется, и занимает Манро прежде всего. Но именно признание того, что, когда «муж ушел к другой», – это и есть самая настоящая катастрофа, и делает ее прозу такой женской и, чего уж там, великой. Писательница точно так же процеживает жизненные события, оставляя только самое главное, как оттачивает фразы, в которых нет ни единого лишнего слова. И какая она феминистка, если из текста в текст самым главным для ее героинь остаются дети и мужчины.
Афиша
В эти «глубокие скважины», бездну, скрытую в жизни обывателей, и вглядывается Элис Манро. Каждая ее история – еще и сложная психологическая задачка, которая в полном соответствии с литературными взглядами Чехова ставит вопрос, но не отвечает на него. Вопрос все тот же: как такое могло случиться?
Ведомости
Превосходное качество прозы.
РБК Стиль
Но даже о самом страшном Манро говорит спокойно и честно, виртуозно передавая сложные эмоции персонажей в исключительных обстоятельствах скупыми средствами рассказа. И ее сдержанная, будничная интонация контрастирует с сюжетом и уравновешивает его.
Psychologies
Рассказы Манро действительно родственны Чехову, предпочитающему тонкие материи, вытащенные из бесцветной повседневности, эффектным повествовательным жестам. Но… Манро выступает скорее Дэвидом Линчем от литературы, пишущим свое «Шоссе в никуда»: ее поэзия быта щедро сдобрена насилием и эротизмом.
Газета.ру
Американские критики прозвали ее англоязычным Чеховым, чего русскому читателю знать бы и не стоило, чтобы избежать ненужных ожиданий. Действительно, как зачастую делал и Антон Павлович, Элис показывает своих героев в поворотные моменты, когда наиболее полно раскрывается характер или происходит перелом в мировоззрении. На этом очевидные сходства заканчиваются, – во всяком случае, свои истории Манро рассказывает более словоохотливо, фокусируясь на внутреннем мире…
ELLE
Эта книга посвящается моим неизменно верным подругам – Дафне и Дейрдре, Одри, Салли, Джули, Милдред, Энн, Джинджер и Мэри
Увлечение
Письма
Сидя в столовой гостиницы «Коммерческая», Луиза вскрыла конверт, пришедший в этот день из‑за моря. Она, как всегда, заказала бифштекс с жареной картошкой и бокал вина. В столовой было мало народу – два‑три коммивояжера и зубной врач, который ужинал тут, поскольку был вдовцом. Поначалу он заинтересовался Луизой, но сообщил ей, что никогда раньше не видел, чтобы женщина пила вино или какие‑то другие спиртные напитки.
– Мне это необходимо для здоровья, – серьезно ответила Луиза.
Белые скатерти меняли раз в неделю, а чтобы они не так быстро пачкались, прикрывали их клеенчатыми сервировочными салфетками. Зимой в столовой пахло этими салфетками, сыростью кухонной тряпки, которой их протирали, угольными испарениями печки, говяжьей подливой и подсохшими картошкой и луком. Такой запах был даже приятен голодному человеку, вошедшему с холода. На каждом столе стоял прибор с приправами – бутылочка бурого соуса, бутылочка томатного и баночка с хреном.
Письмо было адресовано «Библиотекарю, Городская библиотека, Карстэрс, Онтарио». На нем стояла дата – шесть недель назад, 4 января 1917 года.
Вы, вероятно, удивитесь, что Вам пишет незнакомый человек, не помнящий даже Вашего имени. Надеюсь, Вы все тот же библиотекарь, хотя прошло уже много времени и Вы могли куда‑то уехать.
Я в госпитале, но ничего серьезного у меня нет. Я каждый день вижу вокруг случаи гораздо хуже моего и стараюсь о них не думать и для этого представляю себе всякое и гадаю, например, все ли Вы еще там, в библиотеке. Если Вы – та, кого я имею в виду, то Вы – среднего роста (или, может, чуть ниже), со светло‑русыми волосами. Вы появились за несколько месяцев до того, как мне пришла пора идти в армию. Вы заменили мисс Тэмблин, которая работала в библиотеке с тех самых пор, как мне было лет девять или десять. В ее время книги стояли как попало, и упаси Господь спросить ее, как найти нужную или еще что‑нибудь, – голову откусит. Она была настоящая мегера. А потом появились Вы, и все изменилось! Все книги расставились по отделам, «Художественная литература», «Научно‑популярная литература», «История», «Путешествия», и еще Вы рассортировали по порядку все журналы и стали выставлять их в зал сразу, как только они приходили, а не мариновать где‑нибудь в шкафу, пока все материалы в них устареют. Я был очень благодарен, но не знал, как об этом сказать. И еще мне хотелось бы знать, что привело Вас, образованного человека, в наш город, работать в библиотеке.
Меня зовут Джек Агнью, и мой формуляр лежит в картотеке. Последняя книга, которую я взял, была очень хорошая – Г. Дж. Уэллс, «Становление человечества». Я два года проучился в старших классах, а потом поступил работать к Дауду, как и многие. Я не пошел записываться в армию сразу, как мне исполнилось восемнадцать, поэтому Вы не сочтете меня Храбрецом. Я вообще стараюсь во всем придерживаться собственного мнения. Вся родня, какая у меня есть в Карстэрсе, да и вообще на всем свете, – это мой отец Патрик Агнью. Он тоже работает на Даудов, но не на фабрике, а в усадьбе – он тамошний садовник. Он одинокий волк – еще больше, чем я, – и при каждом удобном случае уходит за город рыбачить. Я иногда пишу ему письма, но сомневаюсь, что он их читает.
После ужина Луиза поднялась в дамскую гостиную на втором этаже и села за письменный стол сочинять ответ.
Мне очень приятно, что Вы оценили проведенную мной реорганизацию библиотеки, хотя это совершенно обычная библиотечная система, ничего особенного.
Я уверена, что Вам хочется услышать вести из дому, но я не гожусь для этого – ведь я в городе чужая. Я, правда, разговариваю с людьми в библиотеке и в гостинице. Коммивояжеры в гостинице говорят по большей части о том, как идет торговля (бойко, если удалось достать товар), немножко о болезнях и много – о войне. Слухи и сплетни множатся – я уверена, если бы пересказать Вам эти слухи, Вы бы рассмеялись или очень рассердились. Я не буду их тут воспроизводить, так как уверена, что смысла нет – наверняка это письмо просмотрит цензор и изрежет его на ленточки.
Вы спрашиваете, как получилось, что я приехала в город. Здесь нет ничего интересного. Мои родители умерли. Мой отец работал в универсальном магазине Итона в Торонто, в отделе мебели. После его смерти моя мать тоже поступила на работу в магазин Итона, в отдел столового и постельного белья. Да и я одно время работала у Итона, в книжном отделе. Наверно, можно сказать, что Итон – это наш Дауд. Я закончила гимназию на Джарвис‑стрит. Потом я болела и много времени провела в больнице, но сейчас я совсем здорова.
У меня было много времени на чтение, а мои любимые писатели – Томас Гарди (его обвиняют в мрачности, но, по‑моему, его книги очень жизненны) и Уилла Кэсер. Я случайно оказалась в вашем городке в момент смерти предыдущего библиотекаря и решила, что, возможно, эта работа как раз для меня.
Хорошо, что Ваше письмо пришло сегодня. Меня как раз выписывают отсюда, и я не знаю, стала бы почта пересылать письмо мне вдогонку или нет. Я рад, что Вы не сочли мое письмо глупостью.
Если Вы случайно наткнетесь на моего отца или на кого‑нибудь еще, не нужно говорить, что мы переписываемся. Это никого не касается, и я точно знаю – найдутся люди, которые будут надо мной смеяться за то, что я переписываюсь с библиотекарем. Точно так же, как надо мной смеялись даже за то, что я ходил в библиотеку. Зачем давать им лишний повод для смеха?
Я рад, что наконец выберусь отсюда. Мне повезло гораздо больше многих – тех, кто уже никогда не сможет ходить или видеть и будет вынужден прятаться от мира.
Вы спросили, где я жил в Карстэрсе. Надо сказать, что место это не шикарное и гордиться мне нечем. Вы знаете, где Уксусная горка? Так вот, если свернуть на Цветочный проезд, наш дом будет последний по правой стороне. Он покрашен желтым (когда‑то давно). Мой отец растит картошку. Или растил. Я помню, как возил картошку по городу на своей тележке, и с каждой проданной тележки отец оставлял мне пять центов.
Вы говорили о любимых писателях. Одно время я любил Зейна Грея, но потом мне разонравилась выдуманная литература и я стал читать книги по Истории и о Путешествиях. Я знаю, что иногда беру читать книжки, которые мне не по уму, но все равно я из них что‑то почерпываю. Например, та книжка Уэллса, которую я уже упоминал, и еще Роберта Ингерсолла, он пишет про религию. В этих книгах много пищи для ума. Если Вы очень религиозны, надеюсь, я Вас не оскорбил.
Однажды я пришел в библиотеку в субботу после обеда, и Вы как раз отперли дверь и включали повсюду свет, потому что день был темный и дождливый. Вы попали под дождь без шляпы и зонтика, и у Вас намокли волосы. Вы вытащили из них шпильки, и волосы рассыпались у Вас по плечам. Можно спросить, у Вас все еще длинные волосы или Вы их подстригли? Или это слишком личный вопрос? Вы встали у батареи и встряхнули над ней волосами, и капли воды разбежались по батарее, как жир по сковородке. Я сидел и читал «Лондонские иллюстрированные новости», про войну. Мы с Вами улыбнулись друг другу. (Я вовсе не хотел сказать, что у Вас жирные волосы!)
Нет, я не подстриглась, хотя часто думала об этом. Я не знаю отчего – из тщеславия или от лени.
Я не очень религиозна.
Я сходила на Уксусную горку и нашла Ваш дом. Картофель, кажется, растет хорошо. Со мной повздорила сторожевая собака – это ваша?
У нас стало совсем тепло. Река разлилась – насколько я понимаю, это случается каждую весну. Паводком затопило подвал гостиницы, и запас питьевой воды каким‑то образом испортился, так что нас бесплатно поили пивом и имбирным лимонадом. Но только тех, кто живет в гостинице. Можете себе представить, сколько было шуток по этому поводу.
Мне давно следовало спросить, могу ли я Вам что‑нибудь прислать.
Мне ничего особенного не нужно. Я получаю табак и прочие мелочи, которые дамы из Карстэрса присылают для всех нас. Мне хотелось бы почитать книги тех авторов, о которых Вы упомянули, но сомневаюсь, что здесь у меня это получится.
На днях у нас один человек умер от сердечного приступа. Это была как будто новость всех времен и народов. День и ночь только и слышно было: «Вы слыхали, тут один умер от сердечного приступа?» И все смеялись. Наверно, Вы подумаете, что мы злые, но просто это происшествие казалось ужасно странным. У нас даже не было тогда особенно жарких деньков, так что нельзя предположить, что он умер от страха. И вообще, он в это время писал письмо (может, мне стоит быть осторожней?). До него и после люди умирали от пули или взрыва, но он – самый знаменитый, потому что умер от сердечного приступа. Все говорят, что вот он приехал в такую даль и армия потратила на него кучу денег – и все ради этого.
Лето стояло такое сухое, что поливальная машина ездила по улицам, чтобы хоть немножко прибить пыль. Дети бежали за машиной и плясали в струях воды. В городе появилась еще одна новинка – тележка с колокольчиком, с которой продают мороженое, и ее дети тоже не оставляли своим вниманием. Тележку толкал человек, который тогда покалечился на фабрике, – Вы знаете, о ком я говорю, но я сейчас не помню его фамилии. Он потерял руку до локтя. Моя комната в гостинице – на третьем этаже, она раскалялась, как духовка, и я часто бродила по улицам до полуночи, ожидая, пока она остынет. Многие так делали. Некоторые ходили прямо в пижамах. Как во сне. В реке еще оставалось немножко воды, достаточно, чтобы плавать на лодочке, и как‑то в воскресенье, в августе, методистский священник выплыл на реку на лодке с веслами и устроил публичный молебен о дожде. Но в лодке оказалась течь, и вода налилась внутрь и намочила ему ноги, и в конце концов лодка утонула, а он остался стоять в воде, которая не доходила ему до пояса. Что это было – несчастный случай или чья‑то злая проделка? Все говорили, что Небо ответило на его молитву, но не с той стороны.
На прогулках я часто прохожу мимо особняка Даудов. Ваш отец просто прекрасно заботится о газонах и изгородях. Мне нравится дом – он такой необычный и воздушный. Но, может быть, и там не было достаточной прохлады – по ночам я слышала голоса матери и маленькой дочери совсем близко, так что, видимо, они тоже выходили на газон.
Я тогда написал, что мне ничего не нужно, но одну вещь мне хотелось бы иметь. Вашу фотографию. Надеюсь, Вы не сочли, что эта просьба переходит границы. Может быть, Вы с кем‑то обручены или у Вас парень на фронте и Вы переписываетесь и с ним тоже. Вы незаурядная девушка, и я не удивлюсь, если какой‑нибудь Офицер обратил на Вас внимание. Но раз уж я попросил, то просьбы своей обратно не беру, и можете думать обо мне что хотите.
Луизе было двадцать пять лет. Ей случилось влюбиться один раз в жизни – во врача, с которым она познакомилась в санатории. Врач в конце концов ответил ей взаимностью и за это поплатился работой. Луизу, правда, мучили мрачные догадки о том, что врача вовсе не уволили – он уехал сам, оттого что ему наскучили запутанные отношения. Он был женатый, и дети у него были. В той истории тоже сыграли роль письма. После отъезда врач завязал переписку с Луизой. Раз‑другой они обменялись письмами уже после того, как Луизу выпустили из санатория. Потом она попросила больше ей не писать, и он перестал. Его молчание выгнало Луизу из Торонто и заставило взяться за работу коммивояжера. Теперь ей приходилось переживать только одно разочарование в неделю, когда она возвращалась домой в пятницу или субботу вечером. Ее финальное послание дышало мужеством и стойкостью; она отчасти утешалась, представляя себя героиней любовной драмы, и это утешение сопровождало ее в поездках, когда она таскала чемоданы с образцами вверх‑вниз по лестницам гостиниц в мелких городках, разглагольствовала о парижской моде, называла фасон шляпки «чарующим», пила свой одинокий бокал вина. Будь у нее собеседник, она бы высмеяла именно этот взгляд на вещи. Сказала бы, что любовь – чепуха, выдумка, обман, и сама бы верила в это. Но в предчувствии все еще ощущала мгновение тишины, трепетание нервов, чудовищное изнеможение.
Она сфотографировалась. Она знала, какой хочет быть на снимке: в простой белой блузке, крестьянской. Распустить шнурок, на который собирается ворот. У нее не было такой блузки – она их видела только на картинках. И еще она хотела бы распустить волосы. А если сниматься с волосами, забранными в прическу, то уложить их очень свободно и переплести жемчужными нитями.
Вместо этого она надела свою повседневную синюю шелковую блузку и волосы тоже уложила как обычно. Ей показалось, что на фотографии она какая‑то бледная, с запавшими глазами. Лицо вышло строже и неприступней, чем она хотела. Но все равно она послала снимок.
Я не обручена, и парня у меня тоже нет. Однажды я была влюблена, но мне пришлось разорвать отношения. Тогда я была расстроена, но знала, что должна это вынести, а теперь я верю: что ни делается, всё к лучшему.
Она, конечно, ломала голову, пытаясь его вспомнить. Она не помнила, как трясла волосами или как улыбалась какому‑то молодому человеку, роняя на батарею капли дождевой воды. Как будто все это ему приснилось. А может, и вправду приснилось.
Она стала пристальнее следить за ходом войны, уже не пытаясь жить так, словно никакой войны нет. Она ходила по улицам, чувствуя: голова у нее забита теми же радостными или тревожными новостями, что у всех. Сен‑Квентин, Аррас, Мондидье, Амьен, а потом битва на реке Сомме – но ведь там, кажется, уже была одна? Луиза раскладывала у себя на конторке карты военных действий, которые печатались на разворотах журналов. Она видела по цветным линиям, как немцы довели линию фронта до Марны, видела первое наступление американцев у Шато‑Тьерри. Она смотрела на побуревшие рисунки, где художник изобразил лошадь, вставшую на дыбы во время воздушной атаки, или каких‑то солдат в Восточной Африке, пьющих из кокосов, или колонну немецких военнопленных с перевязанными головами или руками и мрачными, холодными лицами. Теперь и Луизу захватило всеобщее чувство – постоянный страх, опасения и в то же время восторг, к которому, казалось, привыкаешь и хочешь все больше и больше. Можно было поднять взгляд от сиюминутной жизни и ощутить, как за стенами дома рушится миропорядок.
Я рад, что у Вас нету жениха, хоть и знаю, что это эгоизм с моей стороны. Думаю, нам с Вами не суждено увидеться. Я это говорю не потому, что мне приснился вещий сон, и не потому, что я угрюмый и всегда предсказываю плохое. Мне просто кажется, это самое вероятное, что может быть, хотя я стараюсь об этом не думать и каждый день делаю все нужное для выживания. Я не стараюсь Вас напугать или выпросить у Вас сочувствие, просто объясняю: когда я думаю, что больше не увижу Карстэрс, то набираюсь храбрости и могу говорить что хочу. Наверно, это что‑то вроде лихорадки. Поэтому я скажу, что люблю Вас. Я представляю себе, как Вы встали на табуретку в библиотеке и тянетесь к полке, чтобы поставить книжку, а я подхожу сзади и беру Вас за талию, чтобы снять оттуда, и Вы поворачиваетесь у меня в объятиях, как будто мы уже давно обо всем договорились.
Каждый вторник после обеда девушки и дамы из Общества Красного Креста собирались в зале заседаний муниципалитета, который располагался в том же коридоре, что и библиотека. Когда библиотека опустела на несколько минут, Луиза прошла по коридору и очутилась в зале, полном женщин. Она решила связать шарф. В санатории она освоила простую вязку, но так и не научилась набирать и спускать петли.
Женщины постарше занимались упаковкой ящиков или скатыванием бинтов – матерчатых полос, которые они отрезали от тяжелых хлопчатобумажных простыней, расстеленных на столах. Но у двери было много девушек, которые ели булочки и пили чай. Одна девушка держала на руках моток шерсти, а другая его сматывала.
Луиза объяснила, зачем пришла.
– Так что же вы хотите связать? – спросила одна девушка с непрожеванным куском булки во рту.
– Шарф, – сказала Луиза. – Для солдата.
– А, тогда вам нужна стандартная шерсть, – чуть вежливей сказала другая девушка и спрыгнула со стола. Она вернулась с клубками коричневой шерсти, выудила у себя из сумки пару спиц и сказала Луизе, что та может оставить их себе.
– Я помогу вам начать, – добавила она. – Ширина тоже должна быть стандартная.
Подошли другие девушки и начали дразнить эту, которую звали Корри. Они говорили ей, что она все делает неправильно.
– Ах, неправильно? – отвечала Корри. – А кто это захотел получить спицей в глаз?.. Это для друга? – фамильярно спросила она у Луизы. – Для друга за морем?
– Да, – ответила Луиза. Конечно, они все сочтут ее старой девой, будут смеяться над ней или жалеть ее, в зависимости от того, какую маску считают нужным носить – доброты или развязности.
– Тогда вяжите хорошо, плотно, – сказала девушка, дожевавшая свою булочку. – Хорошо, плотно, чтобы ему было тепло!
Среди вязальщиц была Грейс Хоум. Застенчивая, но решительная на вид девятнадцатилетняя девушка с широким лицом, тонкими, обычно поджатыми губами, каштановыми волосами, подстриженными в каре, и аппетитным зрелым телом. Она обручилась с Джеком Агнью, когда его послали на фронт, но они договорились хранить это в тайне.
Испанка
Луиза подружилась кое с кем из коммивояжеров, которые часто останавливались в гостинице. Одного звали Джим Фрери. Он продавал пишущие машинки, конторское оборудование и разные канцелярские товары. Джим был светловолосый, сутулый, но крепкий мужчина лет сорока пяти. По его виду казалось, что он торгует не канцтоварами, а чем‑то более массивным и более важным в мужском мире – например, сельскохозяйственными орудиями.
Джим Фрери упорно разъезжал с товаром все время, пока бушевала испанка, хоть и рисковал наткнуться на закрытую дверь магазина. Иногда закрытыми оказывались и гостиницы, а также школы, кинотеатры и даже – хотя Джим считал, что это безобразие, – церкви.
– Им должно быть стыдно, этим трусам, – сказал он Луизе. – Что толку прятаться дома и ждать, когда тебя накроет? Вы вот не закрывали библиотеку, верно ведь?
Луиза сказала, что закрывала только на время собственной болезни. У нее испанка прошла легко и длилась едва ли неделю, но все равно ее, конечно, отправили в больницу. Не позволили остаться в гостинице.
– Трусы, – сказал он. – Кому суждено заболеть, тот заболеет. Верно ведь?
Они обсудили тесноту в больницах, смерть докторов и медсестер, унылое зрелище бесконечных похорон. В Торонто Джим Фрери жил через дорогу от похоронного бюро. Он говорил, что там по‑прежнему использовали черных лошадей, черный катафалк и все дела на похоронах людей, которые при жизни были большими шишками.
– Днем и ночью шли, – рассказывал он. – Днем и ночью.
Он поднял бокал и сказал:
– Ну, за наше здоровье. У вас цветущий вид.
Он подумал, что Луиза стала выглядеть лучше. Может, начала румяниться. У нее была бледно‑оливковая кожа, и Джиму казалось, что раньше у нее щеки были совершенно бесцветными. Она и одеваться стала элегантней, и старалась быть любезней. Раньше она бывала то мила, то резка – по настроению. Еще она теперь пила виски, хоть и обязательно разбавляла его водой. Раньше она ограничивалась бокалом вина. Уж не мужчина ли у нее завелся, подумал Джим, раз она так изменилась. Впрочем, появление мужчины объясняло только перемены во внешности, но не повышенный интерес к жизни вообще – а Джим был почти уверен, что с Луизой случилось именно это. Наверно, дело в том, что она поняла: ее время уходит, а ряды женихов поредели из‑за войны. Это могло толкнуть ее на решительные действия. Она была умней, приятней в разговоре, да и красивей большинства тех, кто уже замужем. Отчего же такая женщина до сих пор одна? Бывает просто невезение. Или неудачное решение в момент, определяющий судьбу. А может, в былые дни она держалась чуть‑чуть слишком резко и уверенно, отпугивая мужчин?
– Но все равно, жизнь не остановишь, – сказал он. – Вы правильно сделали, что не стали закрывать библиотеку.
То было ранней зимой 1919 года, когда эпидемия испанки вроде бы прошла и вдруг вспыхнула снова. Джим и Луиза были практически одни во всей гостинице. Только пробило девять, но хозяин гостиницы уже ушел спать. Его жена лежала в больнице с испанкой. Джим Фрери принес бутылку виски из бара (закрытого, чтобы не служить рассадником болезни), и они с Луизой сидели в столовой, у окна. Снаружи сгустился зимний туман и как будто давил на стекло. В тумане можно было едва‑едва разглядеть уличные фонари и машины, осторожно едущие по мосту.
– О, это было не из принципа, – сказала Луиза. – То, что я держала библиотеку открытой. Я это сделала по личным причинам.
Тут она засмеялась и пообещала рассказать необычную историю.
– Должно быть, от виски у меня развязался язык.
– Я не сплетник, – заверил ее Джим.
Она посмотрела на него жестким смеющимся взглядом и сказала: если человек объявляет, что он не сплетник, то, скорее всего, именно сплетником и окажется. То же самое, если тебе обещают, что никогда, ни одной живой душе не откроют секрет.
– Вы можете рассказывать эту историю где хотите, кому хотите, главное – не здесь в городе, и не называйте настоящих имен. Я надеюсь, что вам можно доверять. Хотя сейчас кажется, что мне все равно. Наверно, когда хмель выветрится, я буду думать по‑другому. Моя история весьма поучительна. Это урок женщинам – история о том, какими дурами они себя выставляют. Вы скажете – что тут нового, о таком слышишь каждый день!
Она стала рассказывать о солдате, который вдруг начал писать ей с фронта. Он помнил ее по тем временам, когда ходил в библиотеку. Но Луиза его не помнила. Однако ответила по‑дружески на его первое письмо, и между ними завязалась переписка. Он назвал свой адрес в городке, и она сходила посмотреть на дом, чтобы рассказать солдату, как там обстоят дела. Он перечислил книги, которые читал, и она в ответ тоже. Короче говоря, каждый открыл другому нечто личное, и отношения стали теплее. Сначала с его стороны – он признался первым. Она‑то не торопилась подставляться по‑глупому. Сперва она думала, что просто жалеет солдата. Даже позже ей не хотелось отвергать его чувства и ставить его в неловкое положение. Он попросил ее фотографию. Она сфотографировалась – ей не понравилось то, что вышло, но она послала снимок. Он спросил, нет ли у нее жениха, и она честно ответила, что нет. Он не прислал своей фотографии, да Луиза о ней и не просила, хотя, конечно, ей было любопытно, как он выглядит. На фронте ему было бы непросто сфотографироваться. Более того, Луиза не хотела показаться женщиной, которая перестает хорошо относиться к мужчине, если он невзрачен с виду.
Он писал ей, что не надеется вернуться домой. Что не так боится умереть, как уподобиться кое‑кому из раненых, виденных им в госпитале. Он не стал вдаваться в детали, но Луиза предположила, что он имеет в виду случаи, о которых в тылу только начали узнавать, – живые обрубки, слепые, чудовищно обезображенные ожогами. Он не скулил о своей судьбе, Луиза и не думала его в этом обвинять. Просто он смирился со смертью, и она была для него предпочтительней некоторых других вариантов, и он думал об этом и написал Луизе, как пишут о таких вещах невесте.
Под конец войны он вдруг замолчал. Луиза ежедневно ждала письма, но письма не было. Ничего не было. Она боялась, что он оказался в числе тех солдат, кому не повезло больше всего, – тех, кого убили в последнюю неделю, последний день или даже последний час войны. Она ежедневно просматривала местную газету, где печатались имена новых раненых и убитых, – это продолжалось даже после Нового года, но имени Джека среди них не было. Теперь газета начала публиковать и сведения о солдатах, возвращающихся с фронта, – часто при имени была еще фотография и краткий отчет о радостной встрече. И тут она увидела его имя – очередное имя в списке. Его не убило, не ранило – он возвращался в Карстэрс, а может, уже и вернулся.
Именно тогда она решила держать библиотеку открытой, несмотря на эпидемию. Каждый день Луиза была уверена, что сегодня он придет, каждый день была готова к его приходу. Воскресенья были для нее пыткой. Входя в здание муниципалитета, она всегда представляла себе, что он уже там – стоит, прислонившись к стене, и ждет ее. Порой эта уверенность была так сильна, что Луиза видела тень и принимала ее за человека. Теперь она знала, откуда берутся рассказы о привидениях. Каждый раз, когда открывалась дверь, Луиза ждала, что сейчас, подняв голову, увидит его. Иногда она обещала себе не поднимать взгляд, пока не досчитает до десяти. В библиотеку приходило мало народу – из‑за испанки. Луиза взялась за реорганизацию библиотечных материалов, чтобы не сойти с ума. Она неизменно запирала библиотеку минут на пять‑десять позже положенного времени. И, выходя на улицу, думала, что, может быть, он стоит через дорогу, на ступеньках почты, и смотрит, стесняясь подойти. Конечно, Луиза беспокоилась также, что он заболел, и всегда переводила разговор на новейшие случаи испанки. Но никто не произнес его имени.
Именно в это время она полностью бросила читать. Обложки книг казались ей гробами, обшарпанными или пышными, а внутри с тем же успехом мог быть прах.
Ведь это простительно, правда? Она думала, что после таких писем он не может не появиться, не может просто взять и внезапно замолчать. Ведь правда, это естественно с ее стороны? Ей можно простить уверенность, что он обязательно переступит ее порог, – после таких‑то клятв? За окном проходили похоронные процессии, но Луиза не думала о них – ведь это не его хоронили. Даже свалившись с испанкой, лежа в больнице, она думала лишь о том, что надо встать, надо идти назад, в библиотеку, чтобы его там не встретила запертая дверь. Она кое‑как оправилась и, едва держась на ногах, вышла на работу. Однажды в жаркий послеобеденный час она раскладывала на стойках свежие номера газет, и его имя прыгнуло на нее со страницы, как бредовое видение.
Она прочла короткое сообщение о его браке с некой мисс Грейс Хоум. Эту девушку Луиза не знала. Грейс Хоум не ходила в библиотеку.
Невеста была в платье из палевого шелкового крепа с коричнево‑кремовым кантом и бежевой соломенной шляпе с коричневыми бархатными лентами.
Фотографии в газете не было. Коричнево‑кремовый кант. Таков был конец Луизиного романа, и другим он быть не мог.
Но всего несколько недель назад у нее на конторке в библиотеке – в субботу вечером, когда все ушли и она заперла двери и выключала повсюду свет, – обнаружился клочок бумаги. С нацарапанными на нем словами. «Я был обручен до того, как ушел на фронт». Никаких имен – ни его, ни ее. Но рядом лежала ее фотография, придавленная пресс‑папье.
Он заходил в библиотеку в этот самый вечер. Посетителей было много, и Луиза часто покидала конторку, чтобы найти ту или иную книгу, поправить газеты, вернуть книги на полки. Он был в одной комнате с ней, смотрел на нее. Он рискнул. Но так и не дал о себе знать.
Я был обручен до того, как ушел на фронт.
– Как вы думаете, это он так надо мной подшутил? Неужели мужчина может быть так дьявольски коварен?
– По моему опыту, так чаще склонны развлекаться женщины. Нет‑нет. Даже не думайте такого. Гораздо вероятней, что он был искренен. И немножко увлекся. Все именно так, как выглядит со стороны. Он был обручен до того, как ушел на фронт. Он никогда не думал, что вернется живым, но вернулся. А когда вернулся, его ждала невеста – и что ему оставалось делать?
– Действительно, что? – сказала Луиза.
– Он откусил больше, чем мог прожевать.
– О, это так, это так! А с моей стороны это было чистое тщеславие, и судьба совершенно правильно щелкнула меня по носу! – Ее взгляд стал безжизненным, а лицо – злым. – А вы не думаете, что он взглянул на меня и решил, что оригинал еще хуже того несчастного снимка, и дал задний ход?
– Нет, я так не думаю! – ответил Джим Фрери. – И не смейте так себя принижать.
– Я не хочу, чтобы вы считали меня глупой. Я вовсе не такая глупая и неопытная, как кажется по этой истории.
– Но я вовсе не считаю вас глупой.
– Но наверняка считаете неопытной.
Вот, подумал он. Все как всегда. Стоит женщине рассказать про себя что‑нибудь одно, она уже не может удержаться, чтобы не выложить и другое. От выпивки у них мозги съезжают набекрень и благоразумие летит ко всем чертям.
Луиза уже раньше говорила Джиму, что лечилась в туберкулезном санатории. Теперь она рассказала еще и то, что была влюблена в тамошнего врача. Санаторий занимал красивейший участок на Гамильтонской горе, и Луиза с врачом встречались на прогулочных дорожках, обрамленных живыми изгородями. Выступы известняка располагались ступенями, и в прикрытых от холодного ветра местах росли растения, какие в Онтарио не часто увидишь, – азалии, рододендроны, магнолии. Доктор, разбирающийся в ботанике, объяснял Луизе, что это все – растительность, характерная для штатов Северная и Южная Каролина. Там совсем не так, как здесь, – зелень гораздо пышнее, и леса тоже встречаются, но небольшие. Восхитительные деревья, под ними проложены тропинки. Тюльпановые деревья.
– Тюльпаны! – воскликнул Джим Фрери. – Тюльпаны на деревьях!
– Да нет же, это у них форма листьев такая!
Она засмеялась, словно бросая ему вызов, потом прикусила губу. Он счел нужным продолжать диалог, повторяя: «Тюльпаны на деревьях!» – а Луиза повторяла, что нет, это у них листья в форме тюльпанов, нет же, я такого не говорила, перестаньте! Так они вступили в фазу осторожной оценки шансов – хорошо известную Джиму и, как он надеялся, Луизе тоже, – полную маленьких приятных сюрпризов, полуиронических сигналов, нарастания нахальных надежд и роковой доброты, в одночасье меняющей судьбу.
– Мы совсем одни, – сказал Джим Фрери. – Такого раньше не бывало, а? Может, и не будет больше.
Он взял ее за руки и почти приподнял со стула, и она ему позволила. На выходе из столовой Джим выключил свет. Они вместе поднялись по лестнице, которую так часто преодолевали поодиночке. Мимо картин, изображающих верного пса на могиле хозяина, Мэри Кэмпбелл, поющую в поле, и пучеглазого старого короля, взгляд которого говорил о сластолюбии и пресыщенности.
– Ночь туманна, ливень хлещет, сердце бедное трепещет, – напевал Джим Фрери, поднимаясь по лестнице.
Он по‑хозяйски поддерживал Луизу, приобняв ее.
– Все хорошо, все хорошо, – сказал он, когда они огибали поворот на лестничной площадке. А оказавшись на узкой лестнице, ведущей на третий этаж: – Никогда я еще не был так близок к небесам в этой гостинице!
Но чуть позже он издал финальный стон и приподнялся на локте, чтобы сонно отругать ее:
– Луиза, Луиза, почему ты мне не сказала, как обстоит дело?
– Я тебе все рассказала, – слабо ответила Луиза. Голос ее не слушался.
– Значит, я тебя не понял. Я не хотел, чтобы это было для тебя чем‑то важным.
Она сказала, что это для нее вовсе не важно. Теперь, когда он уже не придавливал ее к месту, она почувствовала, что ее неудержимо крутит, словно матрас превратился в детский волчок и несет ее по кругу. Она попыталась объяснить следы крови на простыне наступлением месячных, но слова выходили с роскошной несвязностью и не складывались вместе.
Несчастные случаи
Вернувшись домой с фабрики – незадолго до полудня, – Артур закричал:
– Не подходите ко мне, пока я не вымоюсь! У нас был несчастный случай!
Ему никто не ответил. Миссис Фир, экономка, висела на телефоне в кухне – она говорила так громко, что не слышала Артура, а его дочь, конечно же, была в школе. Он вымылся, засунул всю одежду в корзину и оттер ванную комнату, словно убийца. И уже чистый – даже волосы мокрые и приглаженные – двинулся в путь, к дому покойного. Адрес пришлось узнавать. Он думал, что надо идти на Уксусную горку, но оказалось, что там – дом отца, а молодые живут на другой стороне города, где до войны была выпарка яблочного сока.
Он нашел два кирпичных домика и выбрал левый, согласно полученным указаниям. Впрочем, он и так не перепутал бы. Новости его опередили. Дверь домика стояла открытой, и дети, слишком маленькие, чтобы ходить в школу, торчали во дворе. Маленькая девочка сидела на детском игрушечном автомобиле – она никуда не ехала, только загораживала дорогу. Он обошел ее. В это время девочка постарше заговорила с ним формальным тоном – точнее, предупредила:
– Это ейного папку убило. Ейного!
Из гостиной вышла женщина с охапкой занавесок и отдала их другой женщине, которая стояла в прихожей. Та – седая, с умоляющим лицом – приняла занавески. Верхних зубов у нее не было. Наверно, дома снимает мост, ей так удобнее. Та, что отдала занавески, была плотная, но молодая, со свежей кожей.
– Скажите ей, чтобы не лазила на стремянку, – сказала седая Артуру. – Она сейчас начнет снимать занавески и обязательно сломает шею. Она думает, что нам надо все перестирать. Вы гробовщик? Ох, нет, извините! Вы мистер Дауд. Грейс, поди сюда! Грейс! Это мистер Дауд!
– Не беспокойте ее, – сказал Артур.
– Она думает, что сейчас поснимает все занавески, постирает и к завтрему снова развесит. Потому что его ж надо будет положить в гостиной. Она моя дочь. Но только она совсем меня не слушает.
– Она скоро успокоится, – сказал мужчина серьезного вида, в священническом воротничке, вышедший из задних комнат дома. Их священник. Но не из знакомых Артуру церквей. Баптисты? Пятидесятники? Плимутское братство? Священник пил чай.
Пришла еще какая‑то женщина и быстро забрала занавески.
– Мы налили воды и запустили машину, – сказала она. – А высохнут они в такой день мигом. Только не пускайте сюда детей.
Священнику пришлось отступить в сторону и высоко поднять чашку, чтобы освободить дорогу женщине с бельем. Он сказал:
– А вы, дамы, разве не собираетесь предложить мистеру Дауду чашку чаю?
– Нет‑нет, не беспокойтесь из‑за меня, – запротестовал Артур.
– Расходы на погребение, – продолжал он, обращаясь к седой женщине. – Пожалуйста, передайте ей…
– Лилиан описалась! – торжествующе закричала девочка у двери. – Миссис Агнью! Лилиан надула в трусы!
– Да, да, – сказал священник. – Они будут очень благодарны.
– Участок на кладбище, камень, абсолютно всё. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы они это поняли. И памятник с любой надписью, какую они захотят.
Седая ушла во двор и вернулась с воющим ребенком на руках.
– Бедненький ягненочек, – сказала она. – Ей не велели заходить в дом, так куда ей было деваться? Конечно, с ней случился конфуз!
Молодая женщина вышла из гостиной, волоча за собой ковер:
– Это надо повесить на веревку и выколотить как следует.
– Грейс, мистер Дауд пришел выразить свои соболезнования, – сказал священник.
– И спросить, что я могу для вас сделать.
Седая двинулась наверх по лестнице с обмочившейся девочкой на руках. Еще несколько детей увязались за нею.
Но их заметила Грейс.
– А ну‑ка нечего вам туда! Быстро на улицу!
– Моя мамка там.
– Да, и она там занята, поэтому нечего ее дергать. Она мне помогает. Ты что, не знаешь, что папка Лилиан погиб?
– Я что‑нибудь могу для вас сделать? – спросил Артур, намереваясь убраться восвояси.
Грейс уставилась на него с разинутым ртом. Дом сотрясали звуки работающей стиральной машины.
– Можете. Стойте тут.
– Она вне себя от горя, – объяснил священник. – Она вовсе не намеренно груба с вами.
Вернулась Грейс со стопкой книг:
– Вот. Он их взял в библиотеке. Мне ни к чему еще и пени за них платить. Он ходил каждую субботу, так что, должно быть, их надо вернуть завтра. Я не хочу, чтобы у меня еще и из‑за них голова болела.
– Я все сделаю, – сказал Артур. – С радостью.
– Я просто не хочу, чтобы у меня еще и из‑за них голова болела.
– Мистер Дауд обещал позаботиться о похоронах, – с кротким упреком сказал священник. – Все, включая памятник. С любой надписью, какую вы захотите.
– О, мне бы что‑нибудь попроще, – ответила Грейс.
В пятницу утром на прошлой неделе в лесопильном цеху фабрики Дауда произошел особенно ужасный и трагический несчастный случай. Мистер Джек Агнью, пытаясь достать что‑то в пространстве под главным валом, имел несчастье зацепиться рукавом за стопорный винт соседнего фландца, и его руку и плечо затянуло под вал. Вследствие этого его голова пришла в соприкосновение с полотном циркулярной пилы, имеющим приблизительно фут в диаметре. В единый миг голова несчастного молодого человека была отделена от тела. Разрез прошел под углом, начиная от левого уха, через всю шею. Предполагается, что смерть наступила мгновенно. Он не издал ни звука, поэтому лишь брызнувшая струя крови оповестила его товарищей по работе о случившемся несчастье.=
На следующей неделе отчет опубликовали еще раз – для тех, кто случайно его пропустил или хотел иметь лишний экземпляр, чтобы послать друзьям или родственникам (особенно если они раньше жили в Карстэрсе, а теперь уехали). Написание слова «фланец» было исправлено, и газета поместила примечание, в котором извинялась за ошибку. В газете было также описание чрезвычайно масштабных похорон, на которые приехали даже люди из соседних городков, аж из самого Уэлли. Они ехали на машинах и поездом, а некоторые – на тележке, запряженной лошадью. Они не знали Джека Агнью при жизни, но, как выразилась газета, хотели отдать дань его сенсационной и трагической гибели. Все магазины Карстэрса в тот день закрылись на два часа. Гостиница, правда, не закрылась, но лишь потому, что всем этим приезжим надо было где‑то есть и пить.
У покойного остались жена Грейс и дочь Лилиан четырех лет. Он храбро сражался в великой войне и был ранен один раз, легко. Иронию этой ситуации заметили многие.
В газете забыли упомянуть отца покойного, но не нарочно. Редактор газеты был не уроженец Карстэрса, а приезжий, и люди сначала забыли сказать ему про отца, а потом было уже поздно.
Сам отец не жаловался на это упущение. В день похорон – выдалась прекрасная погода – он вышел пешком за город, как обычно делал, когда решал, что сегодня работать в усадьбе Даудов не будет. Отец надел фетровую шляпу и длинное пальто, которым заодно мог накрыться, если вздумается где‑нибудь прилечь поспать. На ногах у него были бахилы, аккуратно закрепленные резиновыми кольцами, какие подкладывают под крышки домашних консервов. Он собирался половить рыбу, белых чукучанов. Сезон еще не начался, но старик всегда слегка опережал установленные даты. Он рыбачил всю весну и начало лета и съедал свой улов. Под обрывом на берегу реки у него были спрятаны сковородка и кастрюля. В кастрюле он варил кукурузные початки, которые рвал на ходу в полях ближе к концу лета. В это время он ел еще плоды с диких яблонь и дикий виноград. Он был не сумасшедший, просто терпеть не мог разговаривать с людьми. В течение нескольких недель после смерти сына старику не удавалось полностью избегать разговоров, но, по крайней мере, он умел их обрубать:
– Сам виноват – надо было смотреть, что делаешь.
Прогуливаясь в тот день за городом, он встретил еще одного человека, тоже пропустившего похороны. Женщину. Она не попыталась завязать разговор со стариком и вообще, кажется, намерена была так же яростно охранять свое одиночество, как он – свое, вспарывая воздух усердными широкими шагами.
Фабрика пианино, которая начала свое существование с производства фисгармоний, вытянулась на западном краю города, словно средневековая крепостная стена. Два длинных здания напоминали внешнюю и внутреннюю оборонительные линии, а соединял их крытый мостик (в котором располагались конторы). В жилую часть городка, где стояли дома рабочих, вдавался участок с сушильными печами, лесопилкой, складом пиломатериалов и сараями. По свистку фабрики жили многие горожане: вставали по шестичасовому, потом свисток свистел еще раз в семь часов, знаменуя начало работы, в двенадцать – перерыв на обед, в час – возобновление работы и в полшестого – сигнал рабочим положить инструменты и идти домой.
Под часами в рамке за стеклом висели правила. Первые два гласили:
За минуту опоздания вычитается 15‑минутная оплата.
Будь пунктуален.
Безопасность не гарантирована.
Бди за себя и за товарища.
На фабрике и раньше бывали несчастные случаи. Одного человека убило, когда на него обрушился груз пиломатериалов. То было еще до Артура. Один раз – во время войны – рабочий потерял руку или часть руки. В тот день, когда это случилось, Артур был в отъезде, в Торонто. Поэтому он ни разу не видел несчастных случаев – по крайней мере, серьезных. Но у него в подсознании всегда сидело, что рано или поздно что‑то случится.
Вероятно, теперь, после смерти жены, он уже не был уверен в том, что никакая беда его не коснется. Жена умерла в 1919 году, во время последней вспышки испанки, когда все уже перестали бояться. Даже сама жена уже не боялась. То было почти пять лет назад, но Артуру до сих пор казалось, что с ее смертью кончился беззаботный период его жизни. Впрочем, другим людям Артур всегда казался очень ответственным и серьезным человеком – никто не заметил в нем особой перемены.
Когда ему снился этот несчастный случай, во сне расползалась тишина. Все отключалось. Каждый станок на заводе перестал издавать привычные звуки, и все людские голоса затихли, и когда Артур выглянул из окна конторы, он понял, что рок наконец обрушился. Артур не смог бы сказать, какая именно деталь дала ему понять это. Само пустое пространство, пыль во дворе фабрики сказали: «Вот оно».
Книги валялись в машине на полу еще с неделю. Беа, дочь Артура, спросила:
– Что эти книжки тут делают?
И тогда он вспомнил.
Беа прочитала вслух имена авторов и названия. Г. Б. Смит, «Сэр Джон Франклин и романтика поисков Северо‑восточного прохода». Честертон, «Что стряслось с миром?». Арчибальд Хендри, «Взятие Квебека». Лорд Бертран Рассел, «Практика и теория большевизма».
Беа прочитала «больше́визм», и отец ее поправил. Она спросила, что это такое, и он сказал:
– Это что‑то такое, что делают люди в России. Я сам не очень хорошо понимаю. Но судя по тому, что я слышал, это вопиющее безобразие.
Беа в это время было тринадцать лет. Она слыхала о русском балете, а также о пляшущих дервишах. Еще года два после этого она была уверена, что большевизм – это некий дьявольский и, возможно, непристойный танец. По крайней мере, так она рассказывала, когда была уже взрослая.
Она не упоминала, что книги были связаны с человеком, погибшим от несчастного случая. Тогда рассказ был бы менее смешным. А может, она и вправду про это забыла.
Библиотекарь была взволнована. В книгах все еще лежали карточки, а это значило, что выдачу не зарегистрировали. Их просто кто‑то снял с полок и унес.
– Эта книга, лорда Рассела, уже очень давно отсутствует.
Артур не привык к подобным выговорам, но сказал мягко:
– Я их возвращаю за другого человека. Они были у того парня, который погиб. От несчастного случая, на фабрике.
Библиотекарь держала открытой книгу про Франклина. Она смотрела на картинку: лодка, вмерзшая в лед.
– Я это делаю по просьбе его жены, – добавил Артур.
Библиотекарь брала каждую книгу по очереди и вытрясала, словно ожидая найти что‑то. Она проводила пальцем между страниц. Нижняя часть лица у нее некрасиво двигалась, будто она жевала собственные щеки изнутри.
– Наверно, он просто взял книги домой, как ему заблагорассудилось, – сказал Артур.
– Что‑что? – откликнулась библиотекарь через минуту. – Что вы сказали? Извините.
Все дело в несчастном случае, подумал Артур. В мысли о том, что человек, погибший так трагически, брал эти книги последним. Переворачивал эти страницы. Мог оставить в книгах частицу своей жизни – клочок бумаги или ершик для чистки трубок вместо закладки. Даже крошки табаку. Вот она и расстроилась.
– Не важно, – сказал он. – Я зашел их вернуть.
Он отвернулся от конторки библиотекаря, но не ушел сразу. Он не был в библиотеке уже много лет. Вот между двумя фасадными окнами висит портрет его отца. И всегда будет висеть.
«А. В. Дауд,
основатель органной фабрики Даудов и покровитель этой Библиотеки.
Он верил в Прогресс, Культуру и Образование. Истинный друг города Карстэрс и Рабочего Человека».
Конторка библиотекаря загораживала арочный проем, соединяющий переднюю комнату с задними. Книги стояли рядами на стеллажах в задних комнатах. В проходах висели лампы под зелеными абажурами, а с них свисали длинные шнуры. Артур вспомнил, как много лет назад на заседании муниципального совета обсуждали необходимость покупки шестидесятиваттных лампочек вместо сорокаваттных. Вопрос подняла тогда именно эта библиотекарь, и он был решен положительно.
В передней комнате лежали на деревянных подставках журналы и газеты и стояли тяжелые круглые столы, чтобы люди могли посидеть и почитать. За стеклом выстроились в ряд толстые книги в темных переплетах. Вероятно, словари, атласы, энциклопедии. Два красивых высоких окна выходили на главную улицу города. Из проема меж ними смотрел отец Артура. В комнате висели и другие картины, но слишком высоко; краски потускнели, а на картинах было много народу, поэтому нельзя было разобрать, что на них нарисовано. (Потом, когда Артур проведет в библиотеке много часов и обсудит эти картины с библиотекарем, он узнает, что на одной изображена битва при Флоддене и король Шотландский, несущийся в атаку вниз по склону в облаке дыма; на другой – похороны «Орленка»; на третьей – ссора Оберона и Титании из «Сна в летнюю ночь».)
Артур присел за один из столов – так, чтобы смотреть в окно. Он взял со стола старый «Нэшнл джиографик». К библиотекарю он сел спиной. Он подумал, что этого требует чувство такта – ведь она, кажется, переживает. Вошли какие‑то люди, и Артур услышал, как библиотекарь с ними разговаривает. Теперь ее голос звучал более или менее нормально. Артур все думал, что сейчас уйдет, но не уходил.
Ему нравилось высокое голое окно, полное светом весеннего вечера, достоинство и порядок этих комнат. Мысль о том, что сюда приходят взрослые люди, что они читают книги, приятно интриговала. Неделю за неделей, книгу за книгой, и так всю жизнь. Он сам время от времени что‑то читал, когда ему рекомендовали, и обычно ему это нравилось, а потом он читал журналы, чтобы быть в курсе всего, и не вспоминал про чтение книг, пока ему не рекомендовали что‑нибудь еще, практически случайно.
По временам, ненадолго, в помещении оставались только он сам и библиотекарь.
Во время одного из этих перерывов она подошла и встала недалеко от него, возвращая на место какие‑то газеты. Закончив, она обратилась к Артуру – в голосе прорывалась настойчивость, но библиотекарь владела собой.
– Рассказ о несчастном случае, который напечатали в газете… я полагаю, он был довольно точным?
Артур сказал, что, вероятно, даже слишком точным.
– Как это? Почему вы так говорите?
Он объяснил, что люди бесконечно жадны до кровавых подробностей. Неужели газета должна идти у них на поводу?
– О, я думаю, это естественно, – сказала библиотекарь. – Естественно для людей – хотеть знать самое худшее. Люди хотят представить себе все в деталях. Я сама такая. Я очень мало что знаю о промышленных станках. Мне трудно представить, что произошло. Хотя я и прочитала описание в газете. Станок повел себя каким‑то неожиданным образом?
– Нет. Нельзя сказать, что станок схватил его и затянул в себя, как хищный зверь. Он сам сделал неправильное движение. Во всяком случае, беспечное. И подписал себе приговор.
Она ничего не сказала, но и не ушла.
– В этом деле нужна постоянная бдительность, – продолжал Артур. – Нельзя расслабляться ни на секунду. Машина – слуга. Она прекрасный слуга, но никуда не годный хозяин.
Он тут же задался вопросом: сам ли он это придумал или прочитал где‑нибудь.
– И надо полагать, никаких способов защиты людей не существует? – спросила библиотекарь. – Но вы наверняка досконально в этом разбираетесь.
Тут она его оставила, потому что пришли новые посетители.
После несчастного случая установилась хорошая теплая погода. Длинные вечера и нега жаркого дня казались внезапными и удивительными, будто вовсе не такая погода почти ежегодно приходила на смену зиме в этой местности. Зеркала паводков съежились и убрались обратно в бочаги, листья выстреливали из покрасневших ветвей, и запахи скотного двора приплывали в городок, обернутые в запах сирени.
Но Артура в такие вечера почему‑то не тянуло на природу. Он думал о библиотеке и часто оказывался именно там. Садился на то же место, которое выбрал в первый раз. Он проводил в библиотеке полчаса или час. Проглядывал «Лондонские иллюстрированные новости», «Нэшнл джиографик», «Субботний вечер» или «Журнал Коллиера». Все эти журналы он выписывал сам и прекрасно мог читать их у себя дома, в кабинете, глядя в окно на подстриженные газоны, которые старый Агнью поддерживал в пристойном виде, и клумбы, сейчас покрытые тюльпанами всевозможных ярких цветов и их сочетаний. Но, казалось, ему приятней вид на главную улицу, где иногда проезжал бойкий новый «форд» или какой‑нибудь старый чихающий автомобиль с запыленным тряпочным верхом. Казалось, ему приятней смотреть на здание почты с башней, на которой четыре циферблата, глядя в разные стороны, показывали время – и, как любили говорить горожане, все четыре врали. И на людей, что проходили по тротуару или болтались на улице без дела. Кое‑кто пытался включить питьевой фонтанчик, хотя он начинал работать только 1 июля.
Не то чтобы Артура так уж тянуло общаться с людьми. Он сидел в библиотеке не для того, чтобы болтать, хотя приветствовал тех, кого знал по имени, а знал он многих. И еще он обменивался парой слов с библиотекарем – хотя, как правило, говорил лишь «Добрый вечер», когда входил, и «До свидания» перед уходом. Он ни от кого ничего не требовал. Он чувствовал, что своим присутствием источает благодушие и подбадривает, и самое главное – что оно естественно. Ему казалось, что, сидя здесь, читая и размышляя, он оказывает какую‑то важную услугу. Что‑то надежное, прочное.
Ему нравилось одно выражение. «Слуга народа». Его отец, глядящий сейчас со стены, с подкрашенными розовым младенческими щеками, стеклянистыми голубыми глазками и обиженным ртом старика, никогда не считал себя слугой народа. Он скорее видел себя трибуном и благодетелем публики. Он повелевал и самодурствовал, и ему это сходило с рук. Когда на фабрике было мало работы, он обходил цеха и рявкал то одному рабочему, то другому: «А ну, пошел домой! Пошел! И сиди там, пока ты мне опять не понадобишься». И они уходили. Возились в саду, стреляли кроликов, покупали все нужное в лавках в долг и принимали это как само собой разумеющееся. Они пародировали его рявканье и смеялись над этим «Пошел домой!». Они обожали старика, как никогда не будут обожать Артура, но сегодня уже не стали бы терпеть такое обращение. Во время войны они привыкли к хорошим заработкам и к постоянному спросу на их труд. Они не думали об избытке рабочих рук, который настал, когда вернулись с фронта солдаты. Они не думали о хитроумии, об удачливости, необходимых для выживания бизнеса от сезона к сезону. Им не нравились перемены – им было не по душе, что фабрика переключилась на выпуск пианол, которые Артур считал надеждой будущего. Но Артур делал то, что находил нужным, хотя его методы были совершенно противоположны методам отца. Обдумай все хорошенько, а потом обдумай еще раз. Сливайся с фоном, кроме случаев, когда необходимо иное. Сохраняй достоинство. Старайся всегда быть справедливым.
Они ждали, что он о них позаботится. Этого ждал весь город. Люди были уверены в том, что их обеспечат работой, – так же, как в том, что завтра взойдет солнце. Но налоги на производство поднялись одновременно с введением платы на воду, которая раньше доставалась даром. Поддерживать подъездные дороги в хорошем состоянии теперь тоже должна была фабрика, а раньше этим занимался город. Методистская церковь требовала кругленькую сумму на постройку новой воскресной школы. Городской хоккейной команде нужна была новая форма. В мемориальном парке в память войны воздвигались новые ворота с каменными столбами. И каждый год самый умный мальчик из выпускного класса отправлялся в университет за счет семьи Дауд.
Просите, и дастся вам.
Дома от Артура тоже чего‑то ожидали. Беа ныла, требуя, чтобы он отправил ее в частную школу‑пансион. Миссис Фир присмотрела какой‑то смешивающий аппарат для кухни и новую стиральную машину. В этом году следовало обновить всю белую краску на декоративных деталях дома. На украшениях, которые придавали дому сходство со свадебным тортом. И посреди всего этого Артур не мог не купить себе новенький автомобиль – «крайслер»‑седан.
Это было необходимо – он обязан ездить на новой машине. Ему положено ездить на новой машине, Беа положено учиться в дорогом пансионе, миссис Фир положено иметь в кухне новейшие аппараты, а декоративные детали дома должны блистать белизной, как свежевыпавший снег. Иначе семью перестанут уважать, перестанут в нее верить и задумаются, а не пошла ли она под уклон. И все это можно было провернуть – при малой толике удачи все это можно было провернуть.
Многие годы после смерти отца Артур чувствовал себя мошенником, надевшим чужую личину. Не постоянно – время от времени. А теперь это ощущение исчезло. Он сидел здесь и чувствовал, что оно исчезло.
Когда произошел несчастный случай, Артур сидел в конторе и беседовал с торговым агентом, продающим шпон. Артур уловил какое‑то изменение в уровне шума, но скорее усиление, чем внезапное затишье. Его это не встревожило, только царапнуло нервы. Поскольку все случилось в лесопильном цеху, в других цехах, в сушильнях и на лесном дворе узнали не сразу, и кое‑где работа продолжалась еще несколько минут. Артур в это время склонялся над образцами шпона, разложенными на столе, и, по правде сказать, возможно, что он узнал о происшествии последним. Он о чем‑то спросил собеседника, но тот не ответил. Артур поднял взгляд и увидел отвисшую челюсть, испуганное лицо. Вся самоуверенность торгового агента начисто пропала.
Потом Артур услышал, что его зовут: и «мистер Дауд», как принято было его называть, и «Артур, Артур!» – это кричали старые рабочие, которые знали его еще мальчиком. Еще он услышал: «станок», «голова» и «Господи Исусе!».
Если бы Артур мог, он бы пожелал тишины – чтобы звуки и предметы отступили, даровав пусть ужасное, но освобождение, и дали ему дышать. Но ничего подобного не происходило. Вопли, вопросы, беготня, и сам он в центре сбившейся кучи – его тащило к лесопильному цеху. Один человек потерял сознание и упал так, что ему тоже отрезало бы голову, если бы станок не отключили за миг до того. Именно его тело, упавшее, но целое, Артур сперва принял за тело жертвы. Нет, нет, нет. Его толкали дальше. Дальше были алые опилки. Насквозь промокшие, яркие. Штабель досок заляпан ярким, веселым красным цветом, и полотно пилы тоже. Кучка рабочей одежды, пропитанной кровью, лежала в опилках, и до Артура дошло, что это тело – торс и конечности. Из тела вытекло столько крови, что его форму поначалу было трудно различить – оно стало мягким, как пудинг.
Первое, о чем подумал Артур, – прикрыть это. Он снял пиджак и положил сверху. Пришлось подойти близко, хлюпая туфлями в этом. До него никто не прикрыл тело по той простой причине, что ни на ком не было пиджака.
– Доктора позвали? – вопил кто‑то.
– «Доктора позвали?» – повторил человек, стоящий совсем рядом с Артуром. – А что он сделает, доктор‑то? Голову обратно пришьет?
Но Артур все же приказал послать за врачом – он решил, что это необходимо. Не может быть смерти без врача. Приход врача запускает всю последовательность – врач, похоронных дел мастер, гроб, цветы, панихида. Вот и надо ее запустить, чтобы людям было чем заняться. Сгрести опилки, отчистить станок. Людей, оказавшихся рядом, послать мыться. Того, кто потерял сознание, отнести в столовую. С ним все в порядке? Велеть пишбарышне заварить чаю.
Пригодилось бы бренди или виски. Но у Артура было правило, запрещающее вносить алкоголь на территорию фабрики.
Чего‑то еще не хватает. Где? Вон, ответили ему. Вон там. Кого‑то начало рвать, совсем рядом. Хорошо. Это надо подобрать или сказать кому‑нибудь, чтобы подобрали. Звуки рвоты спасли Артура, придали ему устойчивость и почти радостную решимость. Он подобрал это. Он нес это бережно и надежно, как неухватистый, но очень ценный кувшин. Прижимая лицо к груди, словно утешая, – так, чтобы лица не было видно. Кровь просачивалась через рубашку, прилепляя ткань к телу. Теплая. Он чувствовал себя как раненый. Он чувствовал, что на него смотрят, и видел себя со стороны, подобно актеру, или, может быть, священнику. Что теперь делать с этой штукой, которую он прижимает к груди? Ответ на этот вопрос тоже пришел. Положить, приставить к тому месту, где она должна быть, – конечно, не точно приставить, как будто этот шов может срастись. Просто положить рядом, более или менее на место, приподнять пиджак, потянуть за край, накрыть все в новой позиции.
Он не мог сейчас спросить, как звали этого человека. Придется узнать имя каким‑то другим способом. После оказанных им интимнейших услуг такое невежество будет оскорбительным.
Но Артур понял, что знает имя. Вспомнил. Прикрывая краем пиджака голову, которая легла и до сих пор так и лежала ухом кверху – и оттого ухо выглядело совершенно свежим и годным к употреблению, – он вспомнил нужное имя. Сын того человека, что ухаживает за садом Артура, – не всегда регулярно ухаживает. Молодой, его снова взяли на фабрику, когда он вернулся с войны. Женатый? Вроде бы да. Надо пойти сообщить жене. Как можно скорее. Переодеться в чистое.
Библиотекарь часто надевала темно‑красную блузку. Губы у нее были накрашены помадой в тон, а волосы подстрижены и завиты. Она была уже не молоденькая, но по‑прежнему сохраняла элегантность. Артур вспомнил, что много лет назад, когда ее брали на работу, он подумал, что она одевается очень строго. Она тогда не стриглась, а закручивала косы вокруг головы, по старинной моде. Цвет волос остался прежним – теплый, приятный, напоминающий дубовые листья по осени. Артур попытался вспомнить, сколько ей платят. Наверняка немного. Она умудрялась хорошо выглядеть на эти деньги. А где же она живет? В одном из пансионов, с незамужними учительницами? Нет, не там. Она живет в гостинице «Коммерческая».
Тут он начал припоминать что‑то еще. Не какое‑то определенное событие. Нельзя было сказать с уверенностью, что у библиотекаря дурная репутация. Но безупречной ее тоже нельзя было назвать. Говорили, что она выпивает с коммивояжерами, которые останавливаются в гостинице. Что, возможно, один из них – ее любовник. А может, и не один.
Ну что ж, она взрослая женщина и имеет право вести себя, как хочет. Библиотекарь ведь не то же самое, что учительница – человек, которого нанимают в том числе и для того, чтобы он показывал пример ученикам. Пока библиотекарь выполняет свою работу хорошо – а любому видно, что это именно так, – она имеет право жить своей жизнью, как любой другой. Ведь гораздо лучше иметь в библиотеке женщину приятной внешности, чем мегеру вроде Мэри Тэмблин. Ведь туда заходят и приезжие. И судят о городе по тому, что они там увидели. Поэтому в библиотеке должна работать женщина приятной внешности, с хорошими манерами.
Остановись. Разве кто‑то говорит, что не должна? Он вел спор у себя в голове, словно кто‑то пришел и заявил, что библиотекаря нужно выгнать, – а ведь ни о чем подобном Артур не слышал.
А что означал ее вопрос о машинах, заданный в первый вечер? Что она хотела сказать? Может, это она так хитро намекала, кто виноват?
Он поговорил с ней о картинах, об освещении, а также вспомнил, как его отец послал сюда своих собственных рабочих и заплатил им, чтобы сделали для библиотеки стеллажи. Но ни разу не упомянул о человеке, который выносил книги без ведома библиотекаря. Вероятно, по одной. Под полой? И приносил обратно так же. Наверняка приносил обратно, иначе у него сейчас был бы полный дом книг, а его жена ни за что такого не потерпела бы. Не крал – только заимствовал, на время. Безвредное, но странное поведение. Была ли тут какая‑то связь? Между готовностью отступить немного от правил и убежденностью, что неверное движение сойдет с рук? Неверное движение, из‑за которого можно зацепиться рукавом и подтянуть к собственной шее диск циркулярной пилы?
Да, может, может быть, что эти вещи связаны. Вопрос отношения к заведенному порядку.
– Этот человек… ну, знаете… с которым произошел несчастный случай, – сказал Артур библиотекарю. – То, что он вынес те книги, ни слова не говоря. Как вы думаете, почему он это сделал?
– Люди всякое творят, – ответила она. – Вырывают страницы. Потому что им не нравится то, что там написано. Вообще всякое делают. Не знаю.
– А он когда‑нибудь вырывал страницы? Может, вы когда‑нибудь сделали ему выговор? И с тех пор он боялся показаться вам на глаза?
Артур хотел ее немножко подразнить, имея в виду, что она не способна никого напугать. Но она восприняла его шутку по‑другому.
– Как это могло быть, если я ни разу с ним не разговаривала? Я его никогда не видела. Никогда не видела, не знала его в лицо.
Она отошла, положив конец разговору. Значит, она не любит, чтобы ее дразнили. Может, она одна из тех людей, которые сплошь покрыты кое‑как заделанными трещинами, видными лишь в упор? Может, ее беспокоит какая‑то старая тайна, давнее несчастье? Может, у нее возлюбленный погиб на войне?
Чуть позже, опять вечером – субботним летним вечером, – она сама заговорила на тему, которую Артур про себя поклялся больше не трогать.
– Помните, мы говорили о человеке, который погиб от несчастного случая?
Артур сказал, что помнит.
– У меня к вам есть вопрос, который может показаться странным.
Он кивнул.
– И то, что я об этом спрашиваю… сохраните, пожалуйста, в тайне.
– Разумеется, – сказал он.
– Как он выглядел?
Выглядел? Артур удивился. Удивило его то, что она обставила свой вопрос такими реверансами и такой секретностью. Ведь это естественно – интересоваться, как мог выглядеть человек, который без ее ведома приходил и таскал у нее книги. Но Артур покачал головой – он ничем не мог помочь ей. Он не мог мысленным взором увидеть Джека Агнью.
– Высокий, – сказал он. – Кажется, он был выше среднего роста. Но больше я ничего не могу вам сказать. На самом деле об этом лучше не меня спрашивать. Я хорошо узнаю людей, но совершенно не способен их описать, даже если вижу человека каждый день.
– Но мне казалось, что это вы… Я слышала, что вы… Подобрали. Голову.
– Ну не мог же я ее там оставить, – сдавленным голосом сказал Артур.
Эта женщина его разочаровала. Ему было не по себе и стыдно за нее. Но он старался говорить как обычно, без упрека в голосе.
– Я даже не смогу вам сказать, какого цвета у него были волосы. В тот момент оно все как‑то… стерлось.
Она молчала несколько секунд, и он на нее не смотрел. Потом она сказала:
– Вам, наверно, кажется, что я одна из тех людей… людей, которых подобные вещи завораживают.
Артур издал протестующие звуки, но, конечно, он именно это и подумал – что она из таких.
– Мне не следовало вас спрашивать, – сказала она. – Не следовало об этом упоминать. Я никогда не смогу объяснить вам, почему спросила. Но я прошу вас, если это в ваших силах, ни в коем случае не думать, что я – из таких.
Артур услышал слово «никогда». Она никогда не сможет объяснить. Он ни в коем случае не должен думать. В самом сердце разочарования он уловил эту нотку – намек на то, что их разговоры будут продолжаться и, может быть, станут более‑менее постоянными. В голосе женщины он услышал смирение, но смирение это опиралось на какую‑то уверенность. Возможно, с сексуальным подтекстом.
А может, ему это лишь кажется, потому что сегодня особенный вечер? Этим субботним вечером он собирался ехать в Уэлли. Он уже отправился в путь и лишь по дороге заглянул в библиотеку, не собираясь сидеть столько, сколько в итоге просидел. Он направлялся в гости к некой Джейн Макфарлейн. Она давно разъехалась с мужем, но не собиралась просить развода. Детей у нее не было. Зарабатывала она портновским ремеслом. Артур познакомился с ней, когда она приехала к ним домой, чтобы шить платья его жене. Тогда между ними ничего не было, и ни одному из них ничего такого не пришло в голову. Джейн Макфарлейн в чем‑то походила на библиотекаря – хороша собой, хотя и не первой молодости, решительная, элегантная, умелая в своем деле. Но в других отношениях они совсем не были похожи. Артур никак не мог представить себе, чтобы Джейн предъявила ему загадку, а вслед за тем сообщила, что эта загадка никогда не будет разгадана. Джейн была из тех, кто несет мужчине покой. Разговор без слов, который происходил между ним и ею, – чувственный, добрый и ограниченный узкими рамками – был очень похож на его отношения с женой.
Библиотекарь подошла к двери, где был выключатель, и погасила основной верхний свет. Заперла дверь. Скрылась меж стеллажей, неторопливо выключая свет и там. Часы на ратуше били девять. Наверно, она считала их правильными. Собственные часы Артура утверждали, что еще только без трех минут.
Ему пора было вставать, двигаться, ехать в Уэлли.
Она погасила весь свет, пришла и села за стол рядом с Артуром.
Он сказал:
– Я никогда не стану думать о вас так, чтобы вам это было неприятно.
В комнате вдруг стало очень темно – неужели только оттого, что она выключила свет? Ведь на дворе середина лета. Но, видимо, небо успели затянуть тяжелые тучи. Когда Артур последний раз смотрел на улицу, там было совсем светло: шли сельские жители, приехавшие в город за покупками, мальчишки брызгали друг на друга водой из питьевого фонтанчика, молодые девушки разгуливали туда‑сюда в дешевеньких мягких цветастых летних платьях на виду у молодых парней, что кучковались в своих излюбленных местах – на ступеньках почты или у входа в магазин кормов. Теперь, снова взглянув на улицу, Артур увидел, что по ней с грохотом летит ветер, уже неся с собой первые капли дождя. Девушки визжали, хохотали и прикрывали головы сумочками, спеша в укрытия, магазинные продавцы скатывали холщовые козырьки и втаскивали внутрь корзины с фруктами, подставки с летней обувью, садовые принадлежности, ранее выставленные на тротуаре. Двери городской думы хлопали – это фермерши вбегали внутрь, таща детей и свертки, чтобы набиться битком в дамскую уборную. Кто‑то подергал дверь библиотеки. Библиотекарь бросила взгляд на дверь, но не пошевелилась. И тут же ливень обрушился на улицу полотнищами воды и ветер замолотил по крыше, обдирая верхушки деревьев. Этот рев и ощущение опасности длились несколько минут, пока не ослабел ветер. Потом остался только шум дождя, который теперь шел вертикально и так густо, будто они стояли под водопадом.
«Если в Уэлли то же самое, – подумал Артур, – то Джейн догадается, что сегодня меня ждать не стоит». Это была его первая мысль о Джейн за долгое время.
– Миссис Фир тогда не хотела стирать мои вещи, – сказал он и сам удивился. – Она боялась до них дотрагиваться.
Библиотекарь произнесла странно дрожащим, пристыженным, но решительным голосом:
– Я считаю, то, что вы сделали… Это был замечательный поступок.
Дождь шумел так сильно, что отвечать было необязательно. Артур понял, что может повернуться и посмотреть на нее. Ее профиль виднелся в свете, проникающем через залитые дождем окна. Лицо у нее было спокойное и отчаянное. Во всяком случае, так показалось Артуру. Он понял, что вообще ничего о ней не знает – что она за человек на самом деле и какие тайны хранит. Он даже не мог понять, насколько он сам для нее значим. Но знал: что‑то он для нее значит, и притом что‑то необычное.
Он не мог описать чувство, которое она у него вызывала. Это было так же невозможно, как описать запах. Похоже на разряд электричества. На горелые зерна пшеницы. Нет, на горький апельсин. Сдаюсь.
Он никогда не воображал себя в подобной ситуации, не представлял, что им может двигать такой ясный порыв. Но, судя по всему, этот порыв не застал его врасплох. Не подумав даже единожды о том, во что собирается влипнуть, он проговорил:
– Мне хотелось бы…
Он сказал это слишком тихо, и она его не услышала.
Он заговорил громче:
– Мне хотелось бы, чтобы мы с вами поженились.
Тогда она посмотрела на него. Засмеялась было, но сдержала смех.
– Простите, – сказала она. – Простите. Просто я как раз только что подумала…
– О чем?
– Я подумала – «все, больше я его не увижу».
– Ошибаешься, – сказал Артур.
Толпаддлские мученики
Пассажирский поезд Карстэрс – Лондон перестал ходить во время Второй мировой войны, и даже рельсы разобрали. Говорили, что это для фронта и для победы. И когда в середине пятидесятых Луизе нужно было в Лондон, показаться кардиологу, ей пришлось ехать на автобусе. Машину ей уже не разрешали водить.
Кардиолог сказал, что сердце у нее шалит, а пульс скачет. Луиза подумала, что, судя по этим словам, ее сердце – невоспитанный мальчишка, а пульс – щенок на поводке. Она не для того проехала пятьдесят семь миль, чтобы выслушивать подобные непочтительные выражения, но не стала придираться к словам – отвлеклась на мысли о газете, которую прочитала, ожидая у доктора в приемной. Может, именно от этого чтения у нее пульс начал скакать.
На второй странице городской газеты она увидела заголовок: «Чествование местных мучеников» – и, просто чтобы скоротать время, стала читать дальше. Там было написано, что в этот день в парке Виктории должна состояться некая церемония. В честь мучеников из Толпаддла. В газете говорилось, что мало кто слыхал о Толпаддлских мучениках. Луиза уж точно не слыхала. Это оказались люди, которых судили и нашли виновными в принесении незаконных клятв. За это странное преступление, совершенное более ста лет назад в Дорсете, в Англии, виновных выслали в Канаду, и кое‑кто из них в результате оказался тут, в Лондоне. Здесь они прожили до конца своей жизни и умерли незамеченными, без каких‑либо почестей. Сейчас они считались самыми ранними предтечами профсоюзного движения, и канадский совет профсоюзов, наряду с представителями Канадской федерации труда и священниками каких‑то местных церквей, организовали церемонию, которая должна была пройти сегодня, так как исполнялось сто двадцать лет со дня ареста мучеников.
«Мученики» – это явное преувеличение, подумала Луиза. Их ведь не казнили, в конце‑то концов.
Церемония должна была начаться в три часа, а в качестве главных ораторов значились один из местных священников и мистер Джон (Джек) Агнью, профсоюзный делегат из Торонто.
Когда Луиза вышла из кабинета, было четверть третьего. Автобус в Карстэрс уходил только в шесть часов. Она решила, что пойдет перекусит и выпьет чаю на верхнем этаже универмага Симпсона, а потом поищет в магазинах свадебный подарок или, если хватит времени, сходит в кино на дневной сеанс. Парк Виктории лежал на пути от приемной врача к универмагу, и Луиза решила срезать угол. День был жаркий, а в тени деревьев – прохладно. Она не могла не заметить, что в парке стоят стулья и небольшая трибуна для выступающих, задрапированная в желтую ткань, с канадским флагом с одного боку и каким‑то еще (Луиза решила, что профсоюзным) с другого. Там уже собралась кучка людей, и Луиза обнаружила, что меняет курс, чтобы посмотреть на них. Среди собравшихся были старики, очень просто, но прилично одетые, и женщины, повязанные платками даже в такой жаркий день – на европейский манер. Были еще фабричные рабочие: мужчины – в чистых рубашках с короткими рукавами, женщины – в свежих блузах и брюках. Видно, их отпустили пораньше. Кто‑то из женщин, видимо, пришел из дома – эти были в летних платьях и пытались уследить за бегающими рядом мелкими детьми. Луиза подумала, что участникам церемонии не по душе придется ее наряд – она была одета, как всегда, по моде, в бежевый чесучовый костюм и алый шелковый берет, – но тут же заметила женщину, одетую еще элегантней, в зеленое и шелковое, с темными волосами, туго стянутыми назад и перевязанными зелено‑золотым шарфом. Женщине было, наверно, лет сорок – лицо с явной печатью возраста, но красивое. Она тут же с улыбкой подошла к Луизе, показала ей на стул и вручила отпечатанную на мимеографе листовку. Луиза не смогла прочитать фиолетовые буквы. Она попыталась разглядеть кучку мужчин, которые стояли рядом с трибуной и разговаривали. Может, ораторы – среди них?
Совпадение имен ее не слишком интересовало. И имя, и фамилия не такие уж редкие.
Она сама не знала, почему села или зачем вообще сюда пришла. Она уже ощущала, как подступают знакомое возбуждение и легкая тошнота. Возможно, на пустом месте. Но раз уж на нее накатило, твердить себе, что это на пустом месте, бесполезно. Нужно вставать и уходить, пока рядом с ней не сели еще люди и не отрезали ей путь к отступлению.
Женщина в зеленом перехватила ее и спросила, что случилось.
– Мне нужно на автобус, – хрипло сказала Луиза. Она прокашлялась. – На междугородный.
Последние слова вышли уже лучше. Она двинулась прочь – не в ту сторону, где располагался универмаг Симпсона. Луиза подумала, что, в сущности, и не хочет туда идти – ни туда, ни к Бэрксу за свадебным подарком, ни в кино. Лучше она спокойно посидит на автостанции, пока не придет ее автобус.
Не дойдя полквартала до автостанции, она вдруг вспомнила, что сегодня утром автобус привез ее не сюда. Автостанцию снесли и перестраивали, а пока что использовали другую, временную, в нескольких кварталах отсюда. Но утром Луиза не обратила внимания, на какой улице располагается новая станция – на Йорк‑стрит, к востоку от настоящей, или на Кинг‑стрит? В любом случае придется сделать крюк, потому что обе улицы перерыли. Она уже успела решить, что заблудилась, как вдруг ей повезло – она наткнулась на временную станцию, выйдя к ней сзади проулком. Это был старый дом на одну семью – высокий, из грязно‑желтого кирпича, типичный для той эпохи, когда здесь еще был жилой квартал. Вероятно, станция – последнее, что размещается в доме перед тем, как его снесут. Все окрестные дома, похоже, уже снесли, чтобы сделать большую, посыпанную гравием площадку для прибывающих автобусов. На краю площадки еще росли какие‑то деревья, а под ними в несколько рядов стояли стулья, которых Луиза не заметила, сходя с автобуса утром. На том, что когда‑то было верандой дома, сидели на старых автомобильных сиденьях двое мужчин в коричневых рубашках с логотипом автобусной компании. Они, кажется, не пылали особым энтузиазмом к своему делу – даже не встали, когда Луиза спросила, уходит ли автобус на Карстэрс в шесть часов и где можно найти что‑нибудь попить.
Да, в шесть часов, насколько им известно.
Вон в той стороне кофейня.
В помещении есть холодильник, но там остался только апельсиновый сок и кока‑кола.
Луиза взяла кока‑колу из холодильника в маленьком грязном зале ожидания, где отвратительно воняло уборной. Видимо, то, что автостанцию перевели в этот полуразвалившийся дом, повергло всех в состояние ленивого безразличия. В комнате, временно переоборудованной под контору, был вентилятор, и, проходя мимо, Луиза увидела, как со стола снесло бумаги потоком воздуха. «О черт», – воскликнула девушка‑служащая и прижала их ногой.
Стулья, расставленные в тени пыльных городских деревьев, оказались прямыми, старомодными, когда‑то покрашенными в разные цвета, – видимо, их натаскали сюда из разных кухонь. Перед ними лежали полоски старого ковролина и коврики из ванной – чтобы не ставить ноги на гравий. Луизе показалось, что за первым рядом стульев на земле лежит овца, но, присмотревшись, она поняла, что это грязно‑белая собака. Собака подбежала к ней и посмотрела на нее серьезно, почти официально; обнюхала ее туфли и потрусила прочь. Луиза не заметила, были ли рядом с холодильником соломинки для питья, а идти обратно проверять ей не хотелось. Она стала пить кока‑колу прямо из бутылочки, запрокинув голову и закрыв глаза.
Когда она снова открыла глаза, через один стул от нее сидел мужчина и обращался к ней.
– Я прибежал сюда, как только смог. Нэнси сказала, что вы пошли на автобус. Как только я закончил свою речь, я помчался сюда. Но автостанция вся перекопана.
– Это временно, – сказала Луиза.
– Я вас сразу узнал. Хотя прошло… ну, много лет прошло. Когда я вас увидел, я разговаривал с одним человеком. Потом я снова посмотрел, и вас уже не было.
– Я вас не узнаю, – сказала Луиза.
– Ну, конечно нет. Разумеется. Откуда вам меня узнать.
На нем были светло‑коричневые брюки, бледно‑желтая рубашка с короткими рукавами и желто‑кремовый аскотский шарф. Для профсоюзного делегата он выглядел франтом. Волосы – седые, но густые, волнистые – поднимались упругими волнами назад и вверх ото лба. Он раскраснелся, сморщил лоб от ораторских упражнений – и наверно, подумала Луиза, от последующих приватных разговоров, которые он вел с тем же жаром и убедительностью. На нем были затемненные очки, но сейчас он их снял, словно для того, чтобы она разглядела его получше. Глаза голубые, с кровавыми прожилками, и в них таится осторожность. Мужчина приятной внешности, все еще стройный, если не считать начальственного животика над ремнем брюк. Луиза, впрочем, не находила привлекательным его целенаправленное обаяние – рассчитанно небрежную спортивную одежду, демонстрацию волнистых волос и убедительной мимики. Внешность Артура нравилась ей больше. Сдержанность, достоинство, темный костюм – кое‑кто назвал бы его помпезным, но Луизе Артур казался достойным восхищения и бесхитростным.
– Я все время хотел разбить лед, – сказал ее собеседник. – Я хотел с вами поговорить. Должен был, по крайней мере, зайти и попрощаться. Но мне так внезапно представилась возможность покинуть город.
Луиза понятия не имела, что на это ответить. Он вздохнул:
– Наверно, вы на меня очень сердились. И до сих пор сердитесь?
– Нет, – сказала она и прибегла к банальному вежливому ходу, что было очень смешно: – Как поживает Грейс? А ваша дочь Лилиан?
– Грейс – не очень хорошо. У нее артрит и еще лишний вес, что тоже вредит суставам. У Лилиан все в порядке. Она вышла замуж, но все еще преподает в старших классах. Математику, это необычно для женщины.
Как могла Луиза его поправить? С чего начать? «Нет, ваша жена Грейс снова вышла замуж во время войны – за фермера, вдовца. А до этого она приходила к нам убираться в доме раз в неделю. Миссис Фир стала слишком стара для уборки. А Лилиан сама недоучилась в старших классах, как же она может там преподавать? Она рано вышла замуж, нарожала детей и теперь работает продавщицей в аптеке. У нее твой рост и твои волосы, только она их осветляет. Я часто смотрела на нее и думала, что она, должно быть, похожа на тебя. Пока она росла, я отдавала ей одежду, из которой выросла моя падчерица».
Но вместо всего этого она сказала:
– Значит, та женщина в зеленом платье – это не Лилиан?
– Нэнси? О нет! Нэнси – мой ангел‑хранитель. Она следит за тем, куда и когда мне нужно ехать, и захватил ли я с собой текст речи, и что я ем и пью, и принял ли я таблетки. У меня давление высоковато. Ничего серьезного. Но мой образ жизни это усугубляет. Я все время в разъездах. Сегодня вечером я лечу отсюда в Оттаву, завтра днем у меня трудная встреча, а вечером – какой‑то дурацкий банкет.
Тут Луиза сочла нужным сказать:
– Вы ведь знаете, что я вышла замуж? За Артура Дауда.
Ей показалось, что он слегка удивился. Но он ответил:
– Да, я слышал об этом. Да.
– Мы тоже много и тяжело работали, – не сдаваясь, сказала Луиза. – Артур умер шесть лет назад. Мы удерживали фабрику на плаву все тридцатые годы, хотя по временам у нас оставалось только трое рабочих. У нас не было денег на ремонт. Помню, как я срезала холстину с козырьков над окнами конторы и отдавала ее Артуру, чтобы он мог залезть по лестнице наверх и починить крышу. Мы пытались производить все, что только можно. Даже дорожки для уличного боулинга, для увеселительных парков. А потом началась война, и наша продукция пошла нарасхват. Сколько ни сделай – все мало. Мы продавали все пианино, какие только успевали произвести, а кроме этого, делали еще корпуса радаров для военно‑морского флота. Я все это время работала в фабричной конторе.
– Вот это, наверно, была большая перемена, – сказал он, кажется стараясь, чтобы голос звучал тактично. – После библиотеки.
– Работа есть работа. Я до сих пор работаю. Моя падчерица Беа развелась и теперь вроде как ведет мое хозяйство. Мой сын наконец доучился в университете, – предполагается, что он изучает семейный бизнес, но он под каким‑то предлогом сбегает каждый раз в середине дня. Я прихожу домой, уже во время ужина, такая усталая, что едва на ногах стою, – и слышу, как они смеются за живой изгородью и лед звенит у них в бокалах. «Ой, Ма!» – говорят они при виде меня. «Ой, бедная Ма, садись сюда! Принесите ей выпить!» Они зовут меня Ма, потому что так звал меня сын, когда был еще младенцем. Но теперь они уже не младенцы. В доме прохладно, когда я прихожу, – если вы помните, это прекрасный дом, в три яруса, как свадебный торт. Мозаика на полу в прихожей. Но я вечно думаю о фабрике – это моя главная забота. Что нам делать, чтобы выжить? В Канаде осталось только пять фабрик по производству пианино, и три из них – в Квебеке, где труд дешевый. Но вы, конечно, все это прекрасно знаете. Когда я мысленно разговариваю с Артуром, то всегда об одном и том же. Мы до сих пор очень близки, но никакой мистики в этом нет. Казалось бы, когда человек стареет, он должен обращаться, что называется, к духовной стороне бытия. А я, кажется, наоборот, становлюсь все более практичной, вечно пытаюсь что‑то устроить. Нашла, можно сказать, о чем разговаривать с покойником.
Она замолчала – ей стало неудобно. Но трудно было понять, услышал ли он ее слова, – в сущности, она и сама не знала, действительно ли сказала все это вслух.
– Что меня сподвигло… – проговорил он. – Что меня сподвигло в первую очередь и позволило добиться всего, чего я добился, – это библиотека. Поэтому я вам очень многим обязан.
Он положил руки на колени и опустил голову.
– А, все это чепуха. – Он издал стон, перешедший в смешок. – Мой отец. Вы ведь не помните моего отца?
– О да, помню.
– Ну вот. Иногда я думаю, что он был прав.
Тут он поднял голову, встряхнул ею и изрек:
– Любовь никогда не умирает.
Луизу охватило раздражение, почти гнев. Вот что делают с человеком все эти ораторские выступления – превращают его в личность, способную изречь вот такое. Любовь умирает каждый день. Во всяком случае, отвлекается, задерживается где‑то – так что с тем же успехом могла бы и умереть.
– Артур завел привычку приходить и сидеть в библиотеке. Вначале меня это очень злило. Я смотрела на его затылок и думала: «Ха, а что, если тебя кто‑нибудь треснет по этому затылку!» Вы не найдете в этом никакого смысла. Тут никакого смысла и не было. А потом оказалось, что я хотела чего‑то совершенно другого. Я хотела выйти за него замуж и вести нормальную жизнь. Вести нормальную жизнь, – повторила она, и у нее как будто закружилась голова от внезапно нахлынувшей волны прощения, безумия, наполняющей светом пятнистую кожу на руках и крупные сухие пальцы – совсем рядом с его рукой, лежащей на сиденье стула между ними. Любовная вспышка в каждой клетке, оживает забытое чувство. «О, никогда не умирает».
По засыпанной гравием площадке к ним приближалась группа странно одетых людей. Они двигались плотно сбитой кучкой черноты. У женщин были полностью закрыты волосы – черными платками или чепцами. У мужчин – широкополые шляпы и широкие подтяжки. Дети были одеты точно так же, как взрослые, вплоть до чепцов и шляп. Видно было, что им всем ужасно жарко в этой одежде – вспотевшим, запыленным, настороженным и робеющим.
– Толпаддлские мученики, – сказал он как‑то обреченно и в то же время сочувствуя этим людям и слегка подшучивая над ними. – Наверно, мне следует подойти к ним. Подойти и перекинуться словечком.
Эта неуклюжая шутка, вымученная доброта напомнили ей кого‑то еще. Кого же? Увидев со спины ширину его плеч и широкие плоские ягодицы, она поняла кого.
Джима Фрери.
О, какую шутку над ней сыграли! Какую шутку сыграла над собой она сама! Но она такого не потерпит. Она выпрямилась и втянула живот, и черные одежды пришельцев расплылись облаком. У нее кружилась голова, она чувствовала себя униженной. Она не потерпит.
Но люди подошли поближе, и она разглядела, что они не сплошь в черном. Она видела теперь проблески темно‑синего – рубашки мужчин – и темно‑синие и фиолетовые платья женщин. Она стала различать лица – мужские за бородами, женские в густой тени широких краев чепца. Луиза наконец поняла, кто они. Менониты.
Менониты жили теперь и в этой части страны тоже. Поселение менонитов было в Бонди – деревне к северу от Карстэрса. Эти люди собирались ехать домой на том же автобусе, что и Луиза.
Джека с ними не было, и нигде вокруг – тоже.
Предатель поневоле. Странник.
Как только Луиза поняла, что эти люди – менониты, а не какие‑нибудь никому не известные потерянные незнакомцы, они перестали казаться ей застенчивыми и настороженными. Скорее наоборот, они были весьма благодушны и передавали друг другу пакетик конфет, причем взрослые ели конфеты наравне с детьми. Менониты расселись на стульях вокруг Луизы.
Неудивительно, что ее бьет озноб. Она пронырнула под волной – а никто вокруг не заметил. Называйте это как хотите, но, по сути, она пронырнула под волной. Нырнула в глубину, проплыла насквозь и вынырнула с другой стороны и теперь сидела вся в холодном поту, с грохотом в ушах, провалом в груди и бунтующим желудком. Она сражалась с хаосом – бездной, грозящей ее поглотить. Внезапные ямы, импровизированные трюки, сияющие и вдруг исчезающие утешители.
Но приход менонитов ее спас. Плюханье задов на стулья, шорох пакета с конфетами, медитативное чмоканье и тихий разговор. Не глядя на Луизу, маленькая девочка протягивает пакет, и Луиза берет мятную карамельку. Она удивлена, что еще способна держать конфету в руках, что губы еще могут сложиться в «спасибо», что вкус во рту – именно тот, ожидаемый. Луиза сосет конфету, как менониты – свои, не торопясь, и этот вкус вопреки всему вселяет в нее надежды на некое разумное продолжение бытия.
Загораются огни, хотя вечер еще не наступил. На деревьях, под которыми стоят деревянные стулья, кто‑то развесил гирлянды из маленьких цветных лампочек, которые Луиза до сих пор не замечала. Они наводят ее на мысль о празднике. Карнавале. Лодках с певцами на озере.
– Что это за место? – спрашивает она у женщины, сидящей рядом.
Так получилось, что в день смерти мисс Тэмблин Луиза жила в гостинице «Коммерческая». Она тогда работала торговым агентом в компании, которая продавала шляпки, ленты, носовые платки, фурнитуру и дамское нижнее белье розничным магазинам. Луиза услышала в гостинице разговоры о смерти библиотекарши и подумала, что городу скоро понадобится кто‑то на замену. Она немыслимо устала от постоянного таскания чемоданов с образцами – то грузи их на поезд, то выгружай из поезда, то показывай в отелях, доставай из чемоданов да укладывай обратно. Она сразу же пошла и поговорила с людьми, которые были начальниками над библиотекой. Мистер Дауд и мистер Маклеод. Это звучало как псевдоним водевильных артистов, но выглядели они совершенно по‑другому. Платили в библиотеке плохо, но Луиза и на комиссионных не очень хорошо зарабатывала. Она сказала, что закончила старшие классы в Торонто и работала в книжном отделе универмага Итона до того, как перешла в разъездные торговые агенты. Она умолчала о том, что у Итона пробыла только пять месяцев, а потом у нее обнаружили туберкулез и она провела четыре года в санатории. В любом случае от туберкулеза ее вылечили – все очаги исчезли.
В гостинице ее переселили на третий этаж, где располагались постоянные жильцы. Оттуда из окна виднелись покрытые снегом вершины над крышами городка. Карстэрс лежал в долине реки. В нем было три‑четыре тысячи жителей и длинная главная улица, идущая под горку, через реку, а там снова в горку. Еще в городе была фабрика по производству пианино и органов.
Дома в городе строились навечно, дворы были широкие, а улицы обрамлены рослыми вязами и кленами. Луиза еще не видела городок в то время, когда деревья стоят в листве. Должно быть, он тогда выглядит совсем по‑другому: зелень скрывает многое, что сейчас открыто всем.
Она была рада начать все сначала. Она чувствовала себя притихшей и благодарной. Она уже не в первый раз начинала все сначала, и в прошлые разы все складывалось не так, как ей хотелось, но она верила в силу мгновенных решений, в непредвиденное вмешательство, в неповторимость своей судьбы.
Городок был полон запахом лошадей. Вечерело, и большие кони в шорах, с оброслыми копытами тянули сани через мост, мимо гостиницы, туда, где кончались уличные фонари, по темным проселочным дорогам. За городом они разъедутся в разные стороны, и звон колокольчиков на чужой упряжи затихнет вдали.
Настоящая жизнь
Один мужчина взял и влюбился в Дорри Бек. Во всяком случае, хотел на ней жениться. Честное слово.
– Будь жив ее брат, ей сроду незачем было бы ходить замуж, – сказала Миллисент.
Что она имела в виду? Ничего плохого. И про деньги она тоже не думала. Она хотела сказать, что в нищей и отчасти безалаберной жизни, которую вели Дорри и Альберт, была любовь, была утешительная доброта и одиночество им не грозило. Миллисент, проницательная и практичная, была в некоторых отношениях упорно сентиментальна. Она всегда верила, что настоящая нежная любовь изгоняет телесные потребности.
Миллисент думала, что жених Дорри влюбился в нее за то, как она держит нож и вилку. И действительно, сам он их держал точно так же. Дорри не выпускала вилки из левой руки, а правой только резала ножом. Она не перекладывала все время вилку в правую руку, чтобы донести еду до рта. Это потому, что в юности она училась в колледже для благородных девиц в Уитби. На остатки семейных денег. Еще Дорри там научили красиво писать, и это, возможно, тоже сыграло свою роль, так как после первой встречи ее роман проходил исключительно по переписке. Миллисент очень нравилось, как звучит это название, «Колледж для благородных девиц», и она втайне твердо решила, что ее дочь обязательно будет там учиться.
Миллисент и сама была образованной женщиной. Она преподавала в школе. Она отвергла двух серьезных претендентов на ее руку – одного за то, что он пытался засовывать язык ей в рот, а другого за то, что у него была до ужаса противная мать. После этого она согласилась выйти за Портера, который был старше ее на девятнадцать лет. Он владел тремя фермами и обещал Миллисент, что не позже чем через год оборудует уборную в доме и еще купит столовый гарнитур, диван и кресла. В первую брачную ночь он сказал: «А теперь терпи все, что положено», но Миллисент знала, что он вовсе не хотел ее обидеть.
Это было в 1933 году.
Она вскоре родила троих детей, одного за другим, и после третьих родов у нее начались какие‑то неполадки. Портер был порядочный человек и с этого времени почти перестал ее трогать.
Дом, в котором жили Беки, стоял на земле Портера, но не Портер перекупил у них землю. Он приобрел землю и дом Альберта и Дорри у человека, который купил все это у них. Так что, строго говоря, Альберт и Дорри арендовали бывший свой дом у Портера. Но никаких денег Портер с них не брал. Пока Альберт был жив, он приходил поработать денек, когда предстояла важная работа – например, если заливали цементный пол в сарае или укладывали сено на сеновал. Дорри тоже приходила по такому случаю и еще когда Миллисент рожала или устраивала в доме генеральную уборку. Дорри была удивительно сильная, она таскала мебель и могла делать мужскую работу, например приколачивать ставни на окна на случай бури. Приступая к трудному делу – если, допустим, предстояло содрать старые обои в целой комнате, – она расправляла плечи и вздыхала. Это был долгий, счастливый вздох. Она излучала решимость: большая, крепкая, с тяжелыми ногами, каштановыми волосами, широким застенчивым лицом и темными веснушками, похожими на бархатные точки. Один местный житель назвал в ее честь лошадь.
Несмотря на то что Дорри получала такое удовольствие от уборки, у себя дома она убиралась не часто. Дом, где жили они с Альбертом – и где она после смерти Альберта жила одна, – был большой и красивый, но почти без мебели. Мебель иногда возникала в рассказах Дорри – дубовый буфет, мамин гардероб, кровать с точеными столбиками, – но к этим упоминаниям неизменно прибавлялась фраза «пошли с молотка». «Молоток» казался чем‑то вроде природной катастрофы, бурей и ураганом, роптать на которые бессмысленно. Ковров тоже не осталось. И картин. Только календарь из бакалейной лавки Нанна, где работал Альберт. В отсутствие обычных вещей – и в присутствии других, таких как капканы и ружья Дорри и доски, на которых она растягивала кроличьи и нутриевые шкурки, – комнаты лишились своего назначения. Теперь сама мысль о том, что в них можно убираться, казалась странной. Как‑то летом Миллисент увидела на верхней лестничной площадке собачью кучку. Кучку оставили явно не сегодня, но она была относительно свежей и резала глаз. На протяжении лета кучка меняла цвет, превращаясь из коричневой в серую. Она каменела, приобретала некое достоинство, стабильность – и, как ни странно, все меньше казалась Миллисент чем‑то неуместным, будто обретала право находиться тут.
Кучку оставила собака Далила. Черная, помесь лабрадора. Она гонялась за машинами и под колесами машины в конце концов и погибла. Возможно, после смерти Альберта обе – Дорри и собака – чуточку съехали с катушек. Но это не бросалось в глаза. Сначала дело было в том, что некого стало ждать с работы, а потому отпала нужда готовить ужин к определенному часу. Не стало мужской одежды, которую надо было бы регулярно стирать, и регулярная стирка тоже прекратилась. Не стало собеседника, и потому Дорри стала больше разговаривать с Миллисент или с ней и Портером сразу. Она говорила про Альберта и про его работу – он развозил товары из бакалеи Нанна, сначала в фургоне, потом на грузовике. Он был не какой‑нибудь тупица, он учился в колледже в свое время, но вернулся домой с Великой войны не совсем здоровым и решил, что ему нужна работа на воздухе, так что устроился развозчиком к Нанну и проработал там до самой смерти. Альберт был чрезвычайно общительным человеком и не ограничивался доставкой продуктов. Он подвозил людей в город. Он привозил пациентов из больницы. У него на маршруте была одна сумасшедшая тетка – однажды он привез ей продукты и как раз выгружал их, и тут его словно что‑то подтолкнуло обернуться. И за спиной оказалась та тетка с топором. Она уже начала замах, и, когда Альберт увернулся, она не успела остановить топор, и он врезался в ящик с продуктами и разрубил пополам пачку масла. Альберт после этого продолжал возить тетке продукты – у него не хватило духу сдать ее властям, потому что ее посадили бы в сумасшедший дом. Она больше не кидалась на него с топором, но все время угощала его кексами, которые были посыпаны какими‑то страшными на вид семечками. Альберт брал их, доезжал до поворота и выкидывал в траву. Другие женщины – не одна, а несколько – показывались ему нагишом. Одна поднялась из ванны, наполненной водой, – эта ванна стояла у нее посреди кухни, – и Альберт поклонился ей и сложил продукты к ее ногам. «Правда, удивительные люди бывают на свете?» – спросила Дорри. А потом рассказала про холостяка, у которого дом кишел крысами, так что ему приходилось держать продукты в мешке, подвешенном к балке потолка на кухне. Но крысы пробегали по балке, прыгали на мешок и раздирали его когтями, так что хозяину дома в конце концов пришлось класть продукты с собой в постель.
– Альберт всегда говорил, что люди, живущие в одиночку, достойны жалости.
Дорри словно не понимала, что теперь и она одна из таких людей. У Альберта отказало сердце – он успел только съехать на обочину и заглушить мотор. Он умер в прекрасном живописном месте, где в низине росли черные дубы и ручеек с прозрачной вкусной водой бежал вдоль дороги.
Дорри рассказывала и эпизоды из истории семьи Беков, которые слышала от Альберта. Как они – два брата – приплыли по реке на плоту и основали лесопилку у Большой Излучины, где были только дикие леса. Теперь там тоже только леса, да еще развалины лесопилки и плотины. Ферма у братьев была скорее для развлечения. Они построили большой дом и привезли мебель из Эдинбурга. Изголовья кроватей, кресла, резные сундуки – все, что потом «пошло с молотка». Дорри рассказывала, что это все привезли на корабле вокруг мыса Горн, потом через озеро Гурон и вверх по реке.
– Ох, Дорри, этого не может быть, – сказала Миллисент и принесла завалявшийся у нее школьный учебник географии, чтобы разъяснить Дорри ее ошибку.
– Ну тогда, наверно, по каналу, – сказала Дорри. – Я помню, там был какой‑то канал. Панамский?
Миллисент сказала, что, наверно, это все же был канал Эри.
– Ну да, – сказала Дорри. – Вокруг мыса Горн и прямо в канал Эри.
– Дорри – настоящая леди, кто бы там что ни говорил, – заявила Миллисент Портеру, который с ней и не спорил. Он уже привык к ее непререкаемым суждениям о людях.
– Она во сто раз больше настоящая леди, чем Мюриель Сноу, – сказала Миллисент. (Мюриель Сноу была, пожалуй, ее лучшая подруга.) – Это я тебе говорю, а я всем сердцем люблю Мюриель Сноу.
Это Портер тоже уже слышал.
– Я всем сердцем люблю Мюриель Сноу и буду стоять за нее, что бы там ни было, – говаривала Миллисент. – Я люблю Мюриель Сноу, но это не значит, что я одобряю все, что она делает.
Курение. И словечки вроде «черт», «мать его за ногу», «описаться». «Я чуть не описалась от смеха».
Будь воля Миллисент, она не Мюриель Сноу назначила бы лучшей подругой. В ранние годы своего брака она замахивалась на большее. Жена адвоката Несбитта. Жена доктора Финнегана. Миссис Дауд. Они взваливали на нее львиную долю работы в женском кружке при церкви, но никогда не приглашали к себе на чай. Она не бывала у них дома, разве что там устраивалось собрание. Портер был фермером. Не важно, сколькими фермами он владел, – фермер, и все тут. Миллисент могла бы и сразу догадаться.
Она познакомилась с Мюриель, когда решила, что ее дочь Бетти Джин будет учиться играть на пианино. Мюриель была учительницей музыки. Она преподавала в школах и давала частные уроки. Поскольку времена были тяжелые, она брала всего по двадцать центов за урок. Она также играла на органе в церкви и руководила хором в нескольких местах, но кое‑где – забесплатно. Мюриель и Миллисент сразу так поладили, что скоро Мюриель стала проводить у Миллисент едва ли не больше времени, чем Дорри, хотя ее визиты были совершенно иного рода.
Мюриель, разменявшая четвертый десяток, еще ни разу не бывала замужем. О замужестве она говорила открыто – шутливо и жалобно, особенно в присутствии Портера. «Ты что, Портер, не знаешь никаких мужчин? – спрашивала она. – Не можешь подыскать мне хоть одного подходящего?» Портер на это отвечал, что, может, и подыскал бы, но они ей вряд ли подойдут. Летом Мюриель уезжала к сестре в Монреаль, а однажды поехала в гости в Филадельфию к каким‑то кузинам, которых никогда не видела – только переписывалась с ними. Вернувшись, она первым делом рапортовала, как там обстоит дело с мужчинами.
«Жуть! Они все женятся молодыми и все – католики, а жены у них никогда не умирают – слишком заняты, непрестанно рожают».
«Да, они мне кого‑то подыскали, но я сразу поняла, что от него толку не будет. Он из этих, с мамочками».
«Я с одним познакомилась, но у него был роковой недостаток. Он не стриг ногти на ногах. У него на ногах были огромные желтые ногти. Ну? Вы не хотите спросить, как я об этом узнала?»
Мюриель всегда одевалась в оттенки синего. Она говорила, что женщина должна выбрать цвет, который ей по‑настоящему идет, и носить его все время. Как духи. Это все равно что личная подпись. Все думают, что синий идет только блондинкам, но это неправда. Блондинки в нем часто выглядят белесыми, еще более бесцветными, чем обычно. Синий больше всего подходит к коже теплого оттенка – вот как у Мюриель. К коже, которая легко загорает и долго сохраняет загар. И к каштановым волосам и карим глазам, как раз таким, как у нее. Она никогда не экономила на одежде – если женщина так делает, это большая ошибка. Ногти у нее всегда были накрашены – каким‑нибудь сочным, броским цветом: абрикосовым, кроваво‑рубиновым или даже золотым. Мюриель была маленькая и кругленькая и делала гимнастику, чтобы не расползтись в талии. Спереди на шее у нее была темная родинка, словно кулон на невидимой цепочке, и другая, как слеза, в углу глаза.
– Тебе не подходит слово «хорошенькая», – сказала однажды Миллисент и сама удивилась. – Подходит «колдовское очарование».
И покраснела от смущения за эту вспышку, зная, что слова прозвучали излишне эмоционально, по‑детски.
Мюриель тоже слегка покраснела, но от удовольствия. Она упивалась чужим восхищением, откровенно выпрашивала его. Однажды она заехала к Миллисент по дороге на концерт, в Уэлли, на который она возлагала кое‑какие надежды. На ней было голубое платье цвета льда. Оно переливалось.
– Платьем дело не ограничилось, – сказала она. – На мне надето все новое и все шелковое.
Нельзя сказать, что она не могла найти себе мужчину. Они попадались ей все время, но, как правило, такие, что в гости с собой не приведешь. Мюриель находила мужчин в других городах, куда ездила с хорами на большие концерты, или в Торонто на фортепьянных вечерах, на которые иногда возила способных учеников. Иногда мужчины подворачивались и в домах самих учеников. Это были их дядюшки, отцы, деды, а причина, по которой они не могли прийти на ужин к Миллисент и лишь махали рукой – кто скупо, кто залихватски – из припаркованной машины, заключалась в том, что они были женаты. Жена, прикованная к постели, пьющая, сварливая? Возможно. Иногда о ней не упоминалось вообще. Призрак жены. Эти мужчины сопровождали Мюриель на музыкальные мероприятия – интерес к музыке служил удобным предлогом. Иногда кто‑нибудь из учеников или учениц Мюриель, выступающих на этом концерте, присоединялся к ним в качестве дуэньи. Эти мужчины возили Мюриель ужинать в ресторан в мелкие городки куда‑нибудь подальше. В разговоре Мюриель именовала их «друзьями». Миллисент ее защищала. Что тут может быть дурного, если все происходит открыто, у всех на глазах? Впрочем, это было не так или не совсем так и кончалось раздорами, резкими словами и взаимной неприязнью. Предупреждение от школьного попечительского совета. Мисс Сноу следует задуматься о своем поведении. Дурной пример. Или телефонный звонок от жены – «Мисс Сноу, к сожалению, мы вынуждены отказаться…». Или просто тишина. Он не являлся на свидание, не отвечал на записку. Его имя больше никогда не произносилось вслух.
– Я же совсем немногого прошу, – говорила Мюриель. – Я хочу, чтобы друг был надежным. А эти заявляют, что всегда будут на моей стороне, но только запахнет жареным, растворяются в воздухе. Почему так?
– Ну, понимаешь, Мюриель, жена есть жена, – ответила однажды Миллисент. – Дружба и все такое – это прекрасно, но брак – это все же брак.
Услышав это, Мюриель взорвалась. Она заявила, что Миллисент, как и весь город, во всем видит дурное. Что плохого, если Мюриель иногда хочется развлечься? Совершенно невинно причем. Она со всей силы грохнула дверью и, выезжая со двора, смяла клумбу с каллами, явно нарочно. Миллисент целый день ходила с пятнистым от слез лицом. Но размолвка оказалась недолгой, и Мюриель вернулась – тоже в слезах, обвиняя во всем себя.
– Я вела себя как дура с самого начала, – сказала она и ушла в гостиную играть на пианино.
Миллисент уже знала, чего ждать. Когда у Мюриель только появлялся новый друг и она была счастлива, она играла грустные лирические песни, вроде «Лесных цветов». Или вот эту:
Я падаю, Джимми, падаю, таю, Кровью из сердца я истекаю. Джимми, о Джимми, как ты жесток: Как ты со мной поступить этак мог…[1]
А разочаровавшись в очередном друге, она быстро и сильно била по клавишам и пела презрительно:
Ты мастер говорить слова, Посмотрим: сила какова! Как рябчик, согнанный с гнезда, От нас побежишь ты утром![2]
Иногда Миллисент устраивала званый ужин (хотя, конечно, среди ее гостей не было ни Финнеганов, ни Несбиттов, ни Даудов). Тогда она любила приглашать и Дорри с Мюриель. Дорри помогала мыть кастрюли после ужина, а Мюриель развлекала гостей игрой на пианино.
На этот раз Миллисент устроила ужин в воскресенье и позвала англиканского священника – просила прийти после вечерни вместе с другом, который, как она слышала, у него гостит. Священник был холостой, но Мюриель давно уже поняла, что здесь ловить нечего. Ни рыба ни мясо, сказала она. Такая жалость. Миллисент священник нравился – в основном из‑за голоса. Ее воспитали в лоне Англиканской церкви; позже она перешла в Объединенную церковь, к которой принадлежал Портер (по его собственным словам; в нее также ходили все важные и богатые люди города), но все равно ей нравились англиканские порядки. Вечерня, колокольный звон, торжественное – ну, насколько получится – шествие хора по проходу, с пением… Совсем не то, когда все просто вваливаются в церковь толпой и рассаживаются как попало. А лучше всего – слова богослужения. «Но ты, о Господи, помилуй нас, заблудших. Прощение и оставление грехов даруй нам. Восставь на путь правый кающихся, да сбудется реченное в Писании…»
Портер однажды сходил с ней на англиканское богослужение, и ему страшно не понравилось.
Приготовления к званому ужину были делом нешуточным. На свет появлялись камчатная скатерть, серебряный половник, черные десертные тарелки, расписанные вручную маргаритками. Скатерть надо было выгладить, серебро – начистить, и Миллисент все время боялась, что останется крохотный мазок серой полировальной пасты – на зубьях вилки, на гроздьях винограда, украшающих ободок чайника, подаренного ей на свадьбу. Все воскресенье Миллисент раздирали противоречивые чувства – наслаждение и агония, надежда и страх. Потенциальные катастрофы множились. Что, если баварский крем не застынет? (У них еще не было холодильника, и если нужно было что‑нибудь охладить летом, то блюдо ставили на пол в погребе.) Что, если «ангельский бисквит» не поднимется как следует? Или поднимется, но пересохнет? Что, если сконы будут отдавать залежалой мукой или из салата выползет слизняк? К пяти часам она уже так себя накрутила, что рядом с ней на кухне никто долго не выдерживал. Мюриель пришла заранее, чтобы помочь, но сначала порезала картошку недостаточно мелко, а потом стала тереть морковь на терке и ободрала костяшки пальцев. Миллисент отругала ее, назвав бесполезной, и отправила играть на пианино.
Мюриель была одета в бирюзовый креп и пахла испанскими духами. Священника она списала со счетов, но гостя его еще не видела. Должно быть, он вдовец или холостяк, раз путешествует один. Богатый, иначе не мог бы путешествовать вообще или не поехал бы так далеко. Одни говорили, что он из Англии. Другие – что из Австралии.
Она пыталась сыграть «Половецкие пляски».
Дорри опаздывала. От этого все шло наперекосяк. Разноцветное желе пришлось унести обратно в погреб, чтобы оно не подтаяло. Сконы, которые разогревались в духовке, – вытащить, чтобы не зачерствели. Трое мужчин сидели на веранде – Миллисент собиралась сервировать ужин там, а‑ля фуршет, выставив все блюда сразу, чтобы гости сами себе накладывали. Мужчины пили шипучий лимонад. Миллисент изведала всю пагубность пьянства – ее отец умер от алкоголизма, когда ей было десять лет, – и потому перед свадьбой взяла с Портера обещание, что он больше никогда не притронется к спиртному. Он, конечно, пил – бутылку он хранил в хлебном амбаре, – но когда пил, то прятался от жены, и она искренне верила, что он держит обещание. Такое часто встречалось в те годы – во всяком случае, среди фермеров: в сарае пьяница, дома трезвенник. Более того, если бы женщина не установила такое правило в семье, большинство мужчин решило бы, что с ней что‑то не так.
Но Мюриель, выпорхнув на веранду – в туфлях на каблуке и в соблазнительном креповом платье, – тут же воскликнула:
– Обожаю! Джин с лимонным соком!
Она отхлебнула глоток и сказала Портеру, надув губы:
– Ну вот, ты опять! Опять забыл добавить джину!
Потом она принялась дразнить священника, спрашивая, нет ли у него в кармане фляжки спиртного. Священник был не то галантен по характеру, не то безрассуден от скуки. Он сказал, что, к сожалению, нет.
Гость поднялся, когда его представляли. Он был высокий, худой, с меланхоличным землистым лицом, покрытым складками, которые казались точно пригнанными друг к другу. Мюриель не выдала своего разочарования. Она села рядом с гостем и попыталась втянуть его в воодушевленный разговор. Она рассказала, что преподает музыку, и пренебрежительно отозвалась о местных хорах и музыкантах. Англикан она тоже не пощадила. Она щебетала с Портером и священником. Она рассказала смешную историю о том, как во время концерта в сельской школе на сцену забрела курица.
Портер загодя переделал все дела по хозяйству, вымылся и надел костюм, но все время беспокойно поглядывал в сторону скотного двора, словно вспоминая о чем‑то неотложном. Одна корова громко ревела в поле, и наконец Портер извинился, встал из‑за стола и пошел посмотреть, в чем дело. Оказалось, что ее теленок запутался в проволочной изгороди и умудрился сам себя удавить. Портер вернулся, снова вымыл руки и никому не сказал об этой неприятности. Он проговорил только: «Теленок запутался в изгороди». Но в уме каким‑то образом связал беду с приходом гостей, необходимостью надевать парадное и есть, держа тарелку на коленях. Он решил, что все это неестественно.
– С этими коровами забот – как с детьми, – сказала Миллисент. – Вечно требуют внимания в самый неподходящий момент!
Детей она покормила раньше, и сейчас они торчали на лестнице и высовывали головы между балясин, рассматривая еду, которую женщины носили на веранду.
– Думаю, придется начать без Дорри. Вы, мужчины, уже, наверно, умираете с голоду. У нас сегодня очень простое угощение. Мы иногда едим на свежем воздухе в воскресенье вечером.
– Начинаем, начинаем! – закричала Мюриель, которая помогала выносить на веранду многочисленные блюда – картофельный салат, морковный салат, разноцветное желе, салат из капусты, фаршированные яйца и холодных жареных кур, «хлеб» из лосося и теплые сконы, а также разнообразные соусы.
Как раз когда они все расставили, из‑за угла показалась Дорри. На ней было ее лучшее летнее платье из жесткой темно‑синей кисеи в белую крапинку, с белым воротничком. Оно подошло бы маленькой девочке или старушке. Из воротничка торчали нитки – там, где Дорри оторвала кружево, вместо того чтобы его заштопать. Из одного рукава, несмотря на жаркий день, выбилась кайма нижней рубашки. Туфли Дорри, видимо, начистила зубным порошком – так недавно и так небрежно, что на траве оставались белые следы.
– Я бы вышла вовремя, да пришлось пристрелить дикую кошку, – сказала Дорри. – Она рыскала у меня вокруг дома и никак не отставала. Я уверена, что она была бешеная.
Дорри намочила волосы и закрепила их заколками‑невидимками. От этого и еще из‑за блестящего розового лица она походила на куклу, у которой фарфоровая голова, кисти и ступни пришиты к тряпочному туловищу, туго набитому соломой.
– Я сначала подумала, что, может, она в течке, но она вела себя совсем по‑другому. Не ползала на брюхе и не терлась, как обычно бывает. И еще я заметила, что у нее слюни летели. Так что мне ничего не оставалось, как ее пристрелить. Потом я засунула ее в мешок и позвонила Фреду Нанну, чтоб он свез ее в Уэлли к ветеринару. Хотела знать, по правде ли она бешеная, а Фреда хлебом не корми, только дай сгонять куда‑нибудь на машине. Я ему сказала, сейчас воскресенье, вечер, так что если ветеринара не окажется дома, оставь мешок у него на крыльце.
– Интересно, что он подумает? – сказала Мюриель. – Что это подарок?
– Нет. Я пришпилила на мешок записку на этот случай. У нее точно слюни текли. – Дорри ткнула пальцем себе в лицо, чтобы показать, где были слюни. – Как вам нравится у нас в гостях?
Последний вопрос был обращен к священнику, который прожил в городке три года и хоронил брата Дорри.
– Дорри, это мистер Спирс у нас в гостях, – сказала Миллисент.
Гостя представили Дорри, которая вроде бы совсем не смутилась из‑за своей ошибки. Она сказала, что у кошки свалялась вся шерсть и вид был ужасный, а значит, она, скорее всего, была дикая.
– Я думаю, дикая кошка не пойдет к человеческому жилью, если она не бешеная. Но я все равно дам объявление в газете и все объясню. Мне будет очень жалко, если эта кошка окажется чья‑нибудь. Я сама три месяца назад потеряла мою любимую собачку, ее звали Далила. Ее сбила машина.
Было странно слышать, как Далилу называют любимой собачкой – большую черную Далилу, которая, сопровождая Дорри, обегала всю округу и которая с такой отчаянной собачьей радостью преследовала машины. Дорри тогда не убивалась по собаке; она даже сказала, что рано или поздно это должно было случиться. Но при словах «любимая собачка» Миллисент подумала, что, видно, Дорри все же горевала, только не напоказ.
– Идите скорее, положите себе еды, а то мы все умрем с голоду, – сказала Мюриель мистеру Спирсу. – Вы гость, ваша очередь первая. У яиц желтки очень темные, но это только из‑за куриного корма, вы не отравитесь. Я сама терла морковку для этого салата, и если вы увидите на ней кровь, то это только потому, что я увлеклась и ободрала себе кожу с пальцев. А теперь мне лучше заткнуться, а то Миллисент меня убьет.
Миллисент негодующе смеялась, повторяя:
– Ничего подобного! Ничего подобного!
Мистер Спирс внимательнейшим образом слушал все, что говорила Дорри. Может, именно потому Мюриель и вела себя так развязно. Миллисент подумала, что, наверно, Дорри показалась гостю в новинку – дикая канадская женщина, которая бегает по лесу и стреляет зверей. Вероятно, он изучает ее, чтобы, вернувшись, рассказать о ней своим друзьям в Англии.
Дорри молчала, когда ела, а ела она много. Мистер Спирс тоже много ел – Миллисент была этому очень рада, – но он, кажется, вообще был молчалив. Разговор поддерживал священник – он начал рассказывать о книге, которую в это время читал. Она называлась «Орегонский путь».
– Чудовищные лишения, – произнес он.
Миллисент сказала, что слыхала об этом.
– У меня в Орегоне родня, но я не могу припомнить, в каком городе. Интересно, путешествовали ли они по Орегонской тропе.
Священник ответил, что если они жили сто лет назад, то это вполне вероятно.
– О нет, не думаю, что они там в это время уже были, – сказала Миллисент. – Их фамилия Рафферти.
– Один Рафферти держал как‑то спортивных голубей, – внезапно с большим воодушевлением произнес Портер. – Давно было дело, тогда такое чаще встречалось. И конечно, ставил на них большие деньги. Ну и вот, у него была одна закавыка: бывало, что голубь прилетал первым, а в голубятню не залетал, а значит, не дергал проволоку, и победу не засчитывали. И что он сделал, он взял у своей голубки яйцо, из тех, на которых она сидела, выдул его и запустил туда жука. И жук шебуршал там в яйце, а голубка, конечно, решила, что это у нее птенец вот‑вот вылупится. И сразу быстро полетела домой, дернула за проволоку, и все, кто на нее ставил, получили большие деньги. И он сам, конечно, тоже. Это было еще в Ирландии, и тот человек так заработал денег, чтобы доехать до Канады. Он сам рассказал мне эту историю.
Миллисент была уверена, что голубятника звали вовсе не Рафферти. Просто Портер воспользовался предлогом.
– Значит, вы держите дома ружье? – спросил священник у Дорри. – Наверно, вас беспокоят бродяги и всякий сброд?
Дорри положила нож и вилку, старательно прожевала то, что было у нее во рту, и проглотила.
– Я его держу, чтобы стрелять, – сказала она.
После паузы она разъяснила, что стреляет кроликов и сурков. Сурков она сдает на пушную ферму на другом конце города. А кроликов обдирает, потом выделывает шкурки и продает в одну лавку в Уэлли, где туристы покупают кучу всего. Мясо же кроликов Дорри с удовольствием ест в жареном и вареном виде, но самой ей столько не съесть, поэтому она часто относит тушку, ободранную и потрошеную, какой‑нибудь семье, которая сидит на пособии. Но люди часто отказываются. Некоторые думают, что есть кролика – все равно что кошку или собаку. Хотя, сказала Дорри, насколько она знает, в Китае и их едят.
– Это правда, – сказал мистер Спирс. – Я ел и тех и других.
– Ну вот, значит, вы знаете, – ответила Дорри. – У людей ужасные предрассудки.
Он спросил про шкурки, – наверно, их надо снимать очень осторожно? Дорри это подтвердила и сказала, что нужен надежный нож. Она со смаком описала, как делает первый надрез на животе.
– С нутриями еще трудней – их мех приходится больше беречь, он ценный. Он плотнее. Водоотталкивающий.
– А нутрий вы тоже стреляете? – спросил мистер Спирс.
– Нет‑нет, – сказала Дорри. – Я ловлю их в западни.
– О да, западни! – отозвался мистер Спирс, и Дорри рассказала про свою любимую конструкцию западни, которую она немного усовершенствовала; она хотела бы запатентовать свои улучшения, но все руки не доходят.
Она заговорила о весенних водных путях, о сети ручейков, которые обходит, покрывая много миль ежедневно, день за днем. Это надо делать, когда снег уже почти стаял, но почки на деревьях еще не раскрылись, тогда у нутрий самый лучший мех. Миллисент знала, что Дорри этим занимается, но думала, что из‑за денег. Послушать ее сейчас, так можно подумать, что она обожает такую жизнь. Слепни жалят вовсю, холодная вода заливает в сапоги, кругом плавают утонувшие крысы. А мистер Спирс слушал, как слушают собаки, может быть как охотничий пес: сидит с полузакрытыми глазами, и лишь самоуважение не позволяет ему впасть в невежливый ступор. И вдруг учуял что‑то понятное лишь ему одному: глаза широко распахнулись, нос трепещет и мускулы повинуются, перекатываясь волнами на боках, когда он вспоминает какой‑то давний день и свою самоотверженную преданность охоте. Мистер Спирс начал спрашивать, как далеко ходит Дорри, насколько высоко стоит вода, сколько весят нутрии, сколько их можно наловить в день и употребляется ли для обдирания нутрий точно такой же нож.
Мюриель попросила у священника сигарету, получила ее, затянулась несколько раз и погасила прямо в блюдце с баварским кремом.
– А то соблазнюсь, съем его и потолстею, – объяснила она, встала и принялась помогать Миллисент убирать тарелки, но скоро опять очутилась у пианино и снова взялась за «Половецкие пляски».
Миллисент была рада, что гость участвует в разговоре, хотя и не могла понять, чем его привлекает эта тема. Еще она думала о том, что вся еда была хорошая и ей как хозяйке удалось избежать позора – не обнаружилось ни испорченных блюд со странным вкусом, ни липких чашек.
– А я всегда думал, что трапперы живут дальше на север, – сказал мистер Спирс. – За полярным кругом или, по крайней мере, на докембрийском щите.
– Я раньше хотела туда поехать, – ответила Дорри. Она впервые за весь вечер начала запинаться – не то от смущения, не то от избытка чувств. – Собиралась жить в хижине и всю зиму промышлять шкурки. Но у меня здесь был брат. Я не могла оставить брата. И вообще, здешние места мне знакомы.
В конце зимы Дорри явилась к Миллисент с огромным куском белого атласа. Она сказала, что собирается шить свадебное платье. До того ни единая живая душа в городке не слыхала о свадьбе – которая, как сказала Дорри, назначена на май – и не знала имени мистера Спирса. Оказалось, его зовут Уилкинсон. Уилки.
Когда же и где Дорри с ним виделась после того ужина на веранде?
Нигде. Он уехал обратно в Австралию, у него там имение. Они с Дорри переписывались.
Дорри и Миллисент сдвинули стол в столовой к стене и устлали пол простынями, а потом разложили на них атлас. Казалось, весь дом притих, глядя на его широкие сверкающие просторы, беззащитное сияние. Дети пришли поглазеть на атлас, и Миллисент завопила, чтобы они убирались. Она боялась кроить. И Дорри, которая с такой легкостью вспарывала шкурки, отложила ножницы. Она созналась, что у нее дрожат руки.
Они позвонили в школу и попросили передать Мюриель, чтобы она после уроков зашла к Миллисент. Услышав новость, Мюриель схватилась за сердце и назвала Дорри скрытной хитрюгой, Клеопатрой, охмурившей миллионера.
– Бьюсь об заклад, он миллионер, – сказала она. – Имение в Австралии – что это значит? Небось не ферма со свиньями! Мне остается только надеяться, что у него есть брат. Ох, Дорри, какая я скотина, я тебя даже не поздравила!
Она принялась осыпать Дорри звучными поцелуями. Дорри стояла смирно, как пятилетняя девочка.
Дорри объяснила, что она и мистер Спирс намерены «пройти через формальности брака».
– Что это значит? – не поняла Миллисент. – Вы хотите венчаться и играть свадьбу? Это ты имеешь в виду?
Дорри сказала, что да.
Мюриель первой взрезала атлас, сказав, что кто‑то должен это сделать, хотя, будь у нее вторая попытка, она, может быть, не стала бы резать именно в этом месте.
Скоро они привыкли ошибаться. Они ошибались и исправляли ошибки. Каждый день, ближе к вечеру, когда приходила Мюриель, оказывалось, что они уже на новой стадии. Они кроили, закалывали булавками, наметывали, шили, стиснув зубы и издавая мрачные боевые кличи. Выкройку пришлось подгонять, чтобы ликвидировать непредвиденные проблемы – то рукава оказывались узки, то платье сборило на талии, все из‑за своеобразия фигуры Дорри. Дорри за шитьем была опасна для себя и других, так что ее отправили подметать обрезки и наматывать шпульки. Сидя за швейной машиной, она зажимала зубами кончик языка. Иногда ей нечем было заняться, и она ходила по дому Миллисент, из комнаты в комнату, останавливаясь, чтобы поглядеть из окна на снег и поземку, конец затянувшейся зимы. Или стояла, словно кроткий зверь, в шерстяном нижнем белье, откровенно пахнущем ее телом, а Мюриель с Миллисент тянули и обдергивали на ней материю.
Приданым занималась Мюриель. Она знала, что в нем должно быть. Свадебным платьем дело не ограничивалось. Нужен прощальный наряд на день отъезда, свадебная ночная рубашка и соответствующий ей халат и, конечно, целый запас нового белья. Шелковые чулки и лифчик – первый в жизни Дорри.
Дорри этого не предвидела.
– Я думала, свадебное платье – это самое сложное, – сказала она. – Дальше я не заходила.
Снег растаял, ручейки набухли, и нутрии уже, наверно, вовсю плавали в холодной воде, гладкие и лоснящиеся, в богатых шубах. Может, Дорри и вспоминала про охоту, но ничего об этом не говорила. Той весной она ходила только от своего дома к дому Миллисент и обратно.
Набравшись опыта и осмелев, Мюриель, как заправский портной, раскроила костюм из тонкой золотисто‑коричневой шерсти и подкладку к нему. Репетиции хора она совершенно запустила.
Миллисент вынуждена была заняться свадебным обедом. Его устроят в гостинице «Брансуик». Но кого позвать, кроме священника? Дорри знали многие, но знали только как женщину, которая оставляет на чужом крыльце тушки кроликов, бродит по лесам и полям с собакой и ружьем, переходит ручьи, натянув высокие резиновые бахилы. История рода Беков забылась, хотя Альберта помнили и любили все. Не сказать, чтобы над Дорри смеялись, – что‑то не дало ей стать всеобщим посмешищем: то ли всеобщая любовь к Альберту, то ли ее собственное суровое достоинство. Однако новость о ее замужестве вызвала немалый интерес, и не всегда сочувственный. Об этом браке говорили как о чем‑то уродливом, отчасти скандальном – и, возможно, даже считали его каким‑то розыгрышем. Портер сказал, что горожане заключают пари – явится жених или нет.
Наконец Миллисент вспомнила каких‑то кузенов, которые приезжали на похороны Альберта. Обычные респектабельные люди. У Дорри нашлись их адреса. Приглашения были отправлены. Еще – братья Нанн из продуктовой лавки, у которых работал Альберт, и их жены. Пара приятелей Альберта, с которыми он играл в боулинг на траве, и их жены. Владельцы пушной фермы, которым Дорри продавала сурков? Женщина из кондитерской лавки, которая должна была покрыть торт глазурью?
Торт они собирались испечь дома, а потом отвезти его в лавку, чтобы его украсила кондитерша, у которой был диплом по украшению выпечки, полученный в каком‑то заведении в Чикаго. Она покроет торт белыми розами, кружевными рюшечками, сердечками, гирляндами, серебряными листьями и крохотными серебряными сахарными шариками, о которые можно сломать зуб. А пока нужно было замесить тесто и испечь торт, и тут пригодились сильные руки Дорри. Она ворочала неподатливую смесь – одни сплошные цукаты да черный и желтый изюм и лишь чуть‑чуть мучной болтушки с имбирем, чтобы все это склеить вместе. Прижав к животу огромную миску и взявшись за веселку, Дорри испустила счастливый вздох – первый за долгое время.
Мюриель решила, что нужна подружка невесты. Замужняя подруга невесты. Она бы сама выступила в этой роли, но ей предстояло играть на органе. «О Совершенная Любовь». И марш Мендельсона.
Значит, подругой невесты будет Миллисент. Мюриель вынудила у нее согласие. Мюриель принесла собственное вечернее платье – длинное, небесной синевы – и вспорола его в поясе – какой уверенной и лихой швеей она стала! Она предложила сделать кружевную вставку на талии – тоже синюю, но потемнее – и жилет из такого же кружева. Платье станет как новенькое, и ты в нем будешь как картинка, сказала она.
Впервые примерив платье, Миллисент засмеялась и сказала: «Мне в нем только ворон пугать!» Но на самом деле была довольна. Они с Портером вообще не играли свадьбу, лишь наскоро обвенчались в доме викария, решив потратить сэкономленные деньги на мебель.
– Наверно, мне нужна еще какая‑нибудь штуковина, – сказала она. – На голову.
– А ей‑то фата! – закричала Мюриель. – Дорри‑то! Мы с тобой совсем застряли на этих платьях и напрочь забыли про фату!
Тут Дорри вдруг подала голос. Она заявила, что никакую фату не наденет. Она не потерпит, чтобы ее заматывали какой‑то тряпкой, – а то у нее будет такое чувство, как будто ее всю облепили паутиной. При слове «паутина» Миллисент и Мюриель дернулись, так как по городу ходили шутки о паутине в кое‑каких местах.
– Она права, – сказала Мюриель. – Фата – это слишком.
Они стали думать, чем заменить фату. Венком из цветов? Нет, это тоже слишком. Красивой широкополой шляпой? Да, можно взять старую летнюю шляпу и обтянуть белым атласом. А другую – темно‑синим кружевом.
– Теперь меню, – робко сказала Миллисент. – Суп‑крем куриный в корзиночках из теста, пресное печенье, желе в формочках, тот салат из яблок с грецкими орехами, бело‑розовое мороженое и торт…
При слове «торт» Мюриель спросила:
– Дорри, у него, случайно, нету сабли?
– У кого? – не поняла Дорри.
– У твоего жениха, Уилки. У него, случайно, нету сабли?
– С какой стати у него вдруг будет сабля? – удивилась Миллисент.
– Ну я просто подумала – вдруг есть, – объяснила Мюриель.
– Не могу тебя просветить на этот счет, – ответила Дорри.
Тут настал момент, когда все замолчали, стараясь представить себе жениха. Его нужно было допустить в комнату и расположить посреди всего этого. Шляпок, обтянутых материей. Супа в печеных корзиночках. Серебряных листьев. Всех обуяли непреодолимые сомнения. Во всяком случае, Миллисент и Мюриель обуяли сомнения. Женщины едва смели глядеть друг на друга.
Конец ознакомительного фрагмента – скачать книгу легально
[1] Канадская народная песня шотландского происхождения. Перевод Д. Никоновой.
[2] «Джонни Коуп», шотландская народная баллада. Цитируется по переводу Г. Плисецкого.
Библиотека электронных книг "Семь Книг" - admin@7books.ru