
Третий ход | Емельян Марков
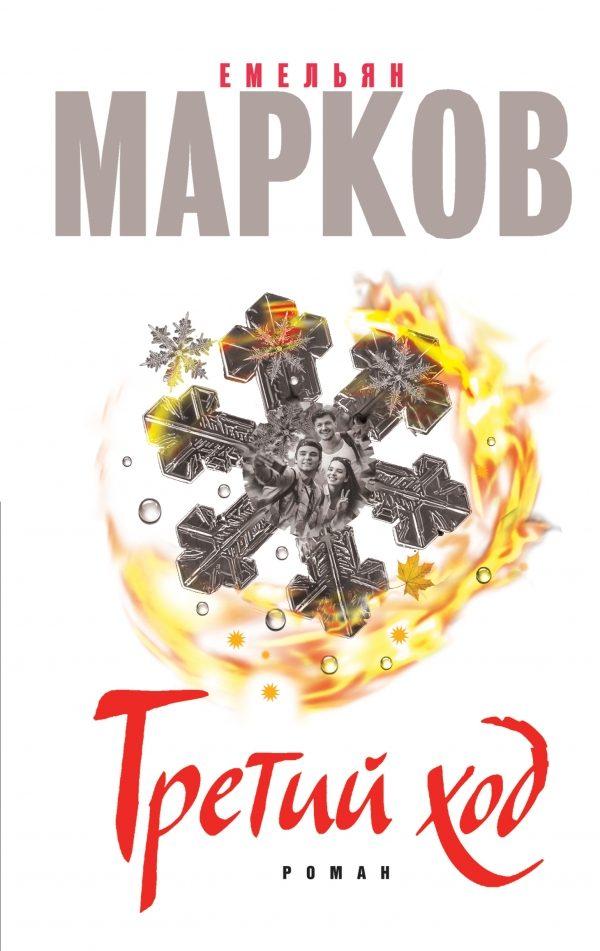
Емельян Александрович Марков
Третий ход
Часть первая
Колодин
I
Дешево, всё
Для пожарного главное – поспать. Раз в четверо суток он становится пожарным, человеком долга, а в остальное время он невесть кто. Студент, торговец, шофер, музыкант, художник, великий русский писатель, часто просто шалопай, ведущий таинственную жизнь. Но каждый четвертый день его жизни грядет праздником, очищением, оправданием и страхом. Однако заступает он в смену и не думает ни об очищении, ни об оправдании, даже страх сходит с него. Только бы вздремнуть, – тихо, хвойно, берложно, завьюженно, укромно, вдохновенно, умиротворенно храпнуть. А когда диспетчер сообщает о пожаре, то с самого скольжения по спусковому шесту сквозь отверстие в полу начинаются грамотные действия и выполнение приказа. О празднике пожарный, правда, думает, но совсем о другом празднике – свободы от приказа, свободы от всего.
Митя Мятлев работал в третьем ходе, самом опасном, поднимался по автолестнице в огнедышащее окно. Пожарный расчет выезжает в один, два, три хода. Первый – это машина с канистрой и рукавом. В один ход тушат слабые возгорания, скажем, мусорного контейнера во дворе или комка (коммерческого ларька). Второй ход – машина с автонасосом, подключаемым через тротуарный люк к гидранту; тут уже серьезный напор, струя добивает до пятого‑шестого этажа. Третий ход – машина с автолестницей и магистралкой, многоколенной широкой кишкой. Третий ход посылают, когда возгорание происходит в верхних этажах и нужно лезть в окно.
Мятлев – непомерной силы человек, поджарый и огромный, как атлант. Где другому, чтобы взломать запертую или заклинившую дверь, надобен лом, пила‑болгарка, пожарный топорик, Митя справлялся руками. Хлопком ладони он высаживал оконную раму, как огромный голодный хищник, впрыгивал в квартиру, выталкивал с коротким ошеломляющим грохотом запертые двери и вытаскивал людей, часто обморочных или в истерике. Иные, одуревшие от угарного газа, принимали Митю за дьявола, который поволочет их сейчас в преисподнюю, и сопротивлялись, но сопротивление Мите было бесполезно. Митя тащил их, наоборот, к жизни, спасению.
После смены, сопряженной с получкой, Митя последнее время поступал следующим образом. Отковыривал пальцем дверцу своего незапертого почтовогоящика, доставал бесплатную газету. Дома (жил он один) разворачивал газетные листы, находил чаемую колонку интимных услуг, пробегал ее хмарным, усталым взглядом: «приветливая, страстная блондинка… все виды интимных услуг, пикантная опытная брюнетка поможет забыться… бирюлевские гейши помогут вам окунуться… рыжая гетера удовлетворит самые смелые желания, студентки‑заочницы, лучшие индивидуалки, феи из ближнего зарубежья, недорого…» А! Вот оно. «Дешево, всё». Не отрывая взгляда от «дешево, всё», Митя брал телефонную трубку.
У Мити была постоянная женщина, которую он любил. Он не говорил себе, что любит ее, как он себе ничего не говорил, когда принимал публичную женщину и когда поднимался в воющее пламенем окно. Он вообще ничего почти себе не говорил, все было сказано еще в молодости, что – он забыл, но сказано всё. Иной человек мечтает поймать себя на отсутствии мысли и не может, вот уже и возраст, а он никак не поймает себя на отсутствии. У Мити не было мыслей, ему и без них было о чем помечтать, он мечтал о Людмиле, она была его единственной страстной мечтой и единственной мыслью.
С Милой Митя познакомился, когда тушили в ее доме мусоропровод. Засунули в мусоропроводную трубу на последнем этаже кишку, подключенную к аварийному отводу, и пустили воду. Митя тогда работал в первом ходе. Он стоял на площадке первого этажа праздный: первый ход не был его призванием, тогда Мятлев еще не нашел себя. Мила вышла на лестничную клетку взлохмаченная. Митя кратко оглядел ее белое, избалованное мужской лаской приземистое тело, облаченное лишь в домашний халатик. Мила слегка выпячивала живот, ее гладкие ножки стояли широко, как у куклы. Контраст – его, перегруженного казенной амуницией, и ее, в одном ветхом халатике, – поразил Митю. Каре‑зеленые глаза, губы, верхняя галочкой, жадно взывали издалече, из мглы снов, а вблизи Мила расхохоталась утробным благоухающим смехом над Митей, над соседями, что выбегали из квартир с пластмассовыми, полными воды ведрами, над пугающим соседей дымом.
– О! Приехали! А вот когда действительно гореть будем, никто не приедет, – произнесла она.
Митя запомнил номер квартиры и пришел на следующий день.
– Кто? – спросила через дверь Мила.
– Вчерашний пожарный.
– Вчерашний? – удивилась Мила, открыла дверь. – А что, опять пожар?
– Да, в душе, – сказал Митя и сам изумился непривычному слову.
– Так вы ухаживать?.. – Мила раздумчиво помяла свой белый кукольный подбородок. – А где же цветы? Я без цветов…
– Будут цветы, потом. Все будет – и цветы, и конфеты.
– Проходите на кухню, – сказала Мила.
Митя разулся, снял плащ и пошел по коридору медленно, будто на ощупь.
– У вас, наверное, уже в глазах темно от постоянных пожаров!.. – захохотала Мила.
Митя взял ее за плечо, она не противилась.
И не сказать, что у них вышел серьезный роман. У них завязалась крепкая дружба. Мила сразу не сохранила верность Мите, а Митя, старомодный человек в глубине души, не то что не простил – он не мог не простить Милу, – просто опасался ее убить. Да и сама Мила тоже почувствовала себя не в своей тарелке: не стыдно или горько – ей стало так грустно, что захотелось или плакать, или петь, но не получалось ни заплакать, ни запеть. В такую яркую минуту Мила взяла за горлышко со стола опорожненную ею с Митей бутылку портвейна, отбила ее о подоконник. В своей покорной любви Митя показался неуязвимым, она была маленькая, нечистая, полупьяная, а он огромный, кристально чистый и пьяный абсолютно, вломину. И тогда безмолвно и торжественно она взметнула отбитую бутылку, еле касаясь пола босыми ногами, подлетела к Мите и вонзила ему «розочку» в грудь. После небольшой, так знакомой Миле (она работала медсестрой) паузы заструилась кровь. Митя стоял также неподвижно. Мила вызвала «Скорую». Суда не было, Митя не допустил бы суда над Милой. А «розочка» о его мощную глухую грудь только покрошилась, нанеся поверхностные ранения.
У Милы было прошлое, и это прошлое норовило стать настоящим. Из прошлого вычленялись люди и под маской настоящего возвращались в жизнь Милы. Мила срывала с них маски, как бы говоря: «Знаю я тебя!» Она одна была настоящим призраком, настоящей феей, настоящей Коломбиной, настоящей куклой в этом карнавале бытия. И потому ее постоянно подмывало сорвать маску, или полумаску, с окружающих ее ряженых, чтобы обнаружить там то же самое свое пресловутое прошлое. Только Митя был тоже настоящий – вампир, арлекин, фавн, оборотень, словом, тоже всамделешный призрак. И он помогал ей, скрашивал ее одиночество наедине с прошлым.
II
Пустой стакан кагора
Красным пламенем настурции горят.
Иван Бунин
Руки втянуты в длинные рукава черной кожимитовой куртки, связка крупных ключей свисает из одного; черная полушерстяная шапочка похожа на монашескую скуфейку; в изжелта‑белых валенках выше колен ловчее взбираться на сугроб, чем степенно ходить по ровной дороге. Дворник не должен работать слишком красиво, лишний раз привлекать внимание начальства; и потом, снежные кручи, куда, как ананас в небеса, забрасываешь с лопаты порцию снега, все равно возвращают снег к твоим ногам досадной лавинкой. Так что скрепя сердце срываешь сугробные верхи.
Церковный сторож, он же дворник, Андрей Колодин совершал вечерний обход территории храма. Выразительные утонченные лицевые кости делали Колодина много красивее издалека, чем вблизи. Вблизи обнаруживались слишком пухлые губы, слишком мягкий нос, но глаза и вблизи оставались прекрасны, хотя выражение их сбивало с толку, потому что толку в их выражении не было.
В диагонально противоположных углах подворья Андрей запер на висячие замки ворота и калитку и глянул на ветви высоких тополей за оградой; бесспорно, это были его тополя, хотя формально они принадлежали детскому саду.
Поздними вечерами, один на подворье, Андрей, как правило, бывал счастлив. Снегопады не слишком омрачали счастье. Так что один в поле воин. А разгуляться истинно было где на воле. Тротуары засыпало стремительно, как глаза, но, помимо тротуаров, сторож вычищал ступени высоких крутых белокаменных лестниц северного и западного храмовых крылец, уйму укромных крылечек, как то: три крылечка нижнего храма, два маленьких крылечка… У вас лопнуло терпение, вы отвернулись и в высоких изжелта‑белых валенках степенно, даже слишком степенно, таковы валенки, пошли по метеной дорожке прочь, хорошо, хорошо в валенках! А я все перечисляю, загибаю на морозе пальцы вам вслед. Так вот, значится, два маленьких: трапезной и крестильни, оно же – к иерейским кельям, и одно побольше, настоятельское (значимо подмигиваю) с выходом на площадку для иерейских автомобилей, площадку сторож тоже чистит. А откосы цоколей? А красной плитки просторные парадные эспланады перед западной и северной лестницами? А еще два крылечка бухгалтерии и непосредственно дворницкой с телефоном? Вы с треском рукава в подмышке издалека отмахиваетесь, словно камень бросаете или снежок: изыди, уймись, ирод! Ирод, да? Тут станешь иродом. Потому как площадка перед туалетом, стежки дорожки всякие, и еще наступает продавщица церковного ларька: как посмел вокруг ларька не почистить?! Да я, да вы… Ага!.. Я, вы, я тебе… Я вот настоятелю. Да чистил я, намело… Ага, намело, а лед, а лед почему не сколол? «Намело»… А если я руку‑ногу сломаю? «Намело»… Да как колоть на таком морозе?! А ты песочком, песочком… Смягчается. Песочком… Песочком можно… Ты чего песка навалил?! – гремит комендант. – Народ песок в храм на ногах тащит!.. А лед же… Дети и старики… лед… Лед! Мать твою! Давай сейчас же сметай песок, лом в руки и скалывай. И пошел, пошел к себе. Да… Какой скорый… Скалывай. Так всю плитку перед лестницей и переколешь, ведь сам будешь рвать и метать, а сейчас: «Скалывай»… Староста тут как тут, мерлушковая борода. А ты потюкай, потюкай для виду, что с ним спорить? Опасливо вслед рыкающему коменданту. Вот и стоишь тюкаешь. Так что, мил‑человек, разве только на крыши не залезаешь: сбиваешь пышные снеговые наросты, покрытые нежным глянцем, и обметанные поземкой сосульки шестом, отпрыгиваешь в сторону, но все равно весь в свежем снегу, как пончик в сахарной пудре.
Ладно, крылечки, эспланады и откосы цоколей с капельниками, которые только метлой возьмешь, когда старание разберет. А снег? Куда сам снег девать? На газоны? А киоск мешает? А у других ворот не на храм же бросать? То‑то… И толкаешь двуручным движком снег за ворота, на проезжую часть. Имеют место частые конфликты с водителями снегоуборочных машин. Похмелье и гнев водителей свежи и беспримесны, как выпавший ночью снег.
Вконец заработавшись, сторож чувствовал себя на рассвете то Зевсом с колючим молниеносным взглядом и колючей лучистой бородой, всесильно разгребающим роскошные телеса заспанных снежных облаков, одно облако свесило до крыши девятиэтажки дородную рыхлую икру… то встречным мальчонкой Блаженного Августина, кружкой вычерпывающим Средиземное море.
Нередко за одну смену весь снег убрать не получалось, оставался снежный подарочек сменщику, а если мело несколько дней подряд, подарочек разрастался, и приходилось выходить всем сторожам сверх смены. Есть упоение в бою у снежной бездны на краю, снежная бездна не под ногами, а над головой, но когда балансируешь с двойной порцией снега на лопате, все равно будто на краю. Не кровь, а пот в этом бою течет рекой и леденит рубаху на спине под свитером и курткой.
Храм за ночь вбирал могильный холод из темных недр земли, как старик; но гремели железные двери, возжигались внутри лампады, свечи, румянились лики икон, и в храме начинался детский праздник. Настоящий праздник всегда детский. А «не по‑детски» – уже не праздник, а форменное мучение. Да… Истинно, истинно говорю вам. Жаль, что вы уже ушли с подворья, да еще в моих валенках, что ж, во славу Божью… Хотя нет, просто у вас такие же, пардон. Или почудилось, и вы не в валенках, это я в валенках, и уже на каждого думаю, что и он должен быть непременно в валенках. Снобизм, знаете ли… Белые валенки, такие высокие, что и смотришь на людей поверх валенок. Снобизм церковного сторожа, снобизм валенка.
Случалось, близкий ночной снегопад предварялся сильным ветром. Андрей бродил по подворью и с вызовом подставлялся ветру. Тополя вместе с Андреем противостояли ветру дюжими ветвями; а зачем, когда плакучая береза между ними покорна ветру и когда его нет? За нее не страшно, за нее больно – что в июне звонарь опять хмуро, словно вдруг перепутал березу с колокольней, полезет ломать ветки к Троице. А за тополя страшно, как за себя, но страшно и сладко, ведь хочется втайне жертвы, хочется, чтобы ветвь переломилась, чтобы что‑то переломилось в одинокой судьбе! Но Бог милостив, он надломленное не преломляет.
* * *
Колодин побродил около храма туда‑сюда, вернулся к себе в сторожевую келью.
Сторожевая келья помещалась в мансарде домика бухгалтерии. Скошенный согласно со скатами крыши потолок, высокие, на три стороны окна. Выходишь в смену, словно в морское плаванье. По большим праздникам, когда присутствовали все сторожа, в мансарде и было так же бесприютно уютно и меланхолически весело, как в кубрике. Снежные волны застят окна, староста боцманом кричит снизу, чтоб выходили, настоятель на амвоне, как на капитанском мостике, отважно смотрит вдаль, звонарь на колокольне управляется с оледенелыми веревками, словно на рее со снастями, прихожане кишат на паперти, как рыба в неверных сетях над пучиной, а профессиональные нищие мелькают в зимнем мраке, подобно тритонам в черных волнах, с бородами, как обломки кораблекрушений. Впрочем, зимой нечасто увидишь такого тритона, в основном бабушки‑пенсионерки с пластмассовыми одноразовыми стаканчиками для мелочи в пугливых руках. Самодеятельность! А профессиональные нищие то ли в спячку погружаются, то ли, как и полагается тритонам, уходят на дно, то ли мигрируют в теплые края, то ли боятся, что их снег заставят убирать, во всяком случае, в подавляющем большинстве своем исчезают. И появляются только вместе с подснежниками, сами весенние, посвежевшие, как подснежники, и такие же синие; дефилируют по подворью, норовят пробраться в туалет, с удобством соснуть на чистом белом унитазе, уронив в забытьи голову; сторожа их гонят от туалета, кричат истерично: «За ворота, за ворота!..», – и нищие неспешно и величественно удаляются за ворота. А как осенью они сбиваются в стаю и сидят в куче жухлых листьев за облупленными гаражами соседнего жилого дома? Сидят немо, живописно, взирают всяк в свою сторону, кажется, вот сейчас запоют, но они не поют, а все равно кажется – нет, нет! еще мгновение – и запоют! Но…
Колодин сел за письменный стол перед амбарной книгой. Он опять и опять медлил внести запись о факте своей вахты. Поздний вечер, опустело подворье, что надо? Почему не расписываешься в минувшем дне? Вон другой сторож, татарин, только прибежит на всех парах, так сразу, не раздеваясь, за стол, сохранно сопит, записывает. Почему не расписался? Со сговорчивой улыбкой глянет и сразу отводит красивые глаза, даже в толпе воскресной заметно, как он за спинами прихожан глаза прячет. Обрюзглый, но глаза красивые, у него дочь‑красавица. В глазах – дочь, вот и отводит красоту ревниво, чтобы не испугать. Больно красива дочь. Я вот сразу расписываюсь… Как же так сразу, мало ли что?.. Что?.. Нет, сразу, как же… Как же расписываться в несбывшемся дне? Мудришь, Андрей, хе‑хе… Какая разница? Ты вот часто вообще пустую строчку оставляешь, с толку сбиваешь: был ты, не было тебя… Пиши лучше сразу… Этот сторож очень ревностно относился к своему сну, уважал его, для него уважать себя значило уважать свой сон. Сну он предавался благоговейно. Ну и что, что смена, что значит не положено? Должен же я поспать. Он отключал телефон, запирал ворота, нижнюю дверь и приходил в объятия Морфея. Спать начеку, как остальные, он не мог и не желал, остальные – полуодетые, разве покрывалами тонкими прикроются, спят чутко, напряженно, на грани. А он – нет, у него и простыня хрустит, и перьевая подушка взбита, и ватное стеганое одеяло… Хорошо! Будильник завел – и отбой, хоть трава не расти. Настоятель приехал раз на своей «Субару» среди ночи, названивал, названивал по сотовому. Ни в какую. Перелез (настоятель, протоиерей!) через забор, стучит уже снизу в дверь, долбит кулаком, кричит своим кряжистым голосом. Без толку, спит сторож. Достучался‑таки, вышел сторож заспанный, в трусах. Ворота!.. Что ворота? Беги, ворота отпирай. В таком виде? Сейчас, оденусь… С завтрашнего дня ты у нас не работаешь. Хорошо… Обижен, но невозмутим, потому что все что угодно – пожалуйста, но сон – это святое. Уволили, потом вскоре восстановили…
Теперь из‑за подвижек в графике сторож татарин Андрея не сменял. Андрей всегда тосковал по сторожу через смену, оттого, наверное, что встречались они только в праздники или если аврал, тоже своего рода праздник, веселая паника, славная запарка.
Колодин сел за письменный стол и снова захотел есть. Не навязших в зубах поминальных конфеток «Цитрон» с чаем, а – есть! К вечеру выдаваемая в трапезной к обеду добавка на ужин чаще потреблялась дочиста. Остывшее первое, какие‑нибудь щи из шпината с накрошенным яйцом, Андрей увлеченно подбирал под колокольный звон к вечерней службе, а второе, если вкусное, сметал сразу после обеда, но, скажем, холодная невкусная рисовая каша могла киснуть в тарелке на шкафу до утра; ее Андрей тайком проносил за сарай для ворон перед пересменком в страхе попасться поварихе на глаза и оскорбить ее. Так вот, поздними вечерами от голода спасал черный хлеб с растительным маслом и солью. И соль, и масло у сторожей были общие, тем слаще елось. Но хлеб, напитанный маслом и натертый солью, хорошо бы закусить чем‑нибудь свеженьким или острым. Часто Андрей закусывал чесноком, но сегодня его ожидало кое‑что полакомее. Под снегом еще оставалась декоративная капуста!
Андрей плеснул в блюдце подсолнечного масла, утопил в нем кусок бородинского хлеба и сорвался вниз по лестнице в два крутых пролета через темную безоконную дворницкую за капустой. Своими огромными валенками он попрал девственные млечные сувои, вложил руку в жгучий морозный снег, нашарил и со счастливым ожесточением выдрал несколько листков декоративной капусты, потом, ликовствуя, припустил опять наверх. Влажные, яркие, свежие, сочные, с чистой слезой в стебле, гофрированные, женственные, лапчатые, пузырчатые, складчатые, сетчатые, морщинистые, упругие, кружевные, с кислинкой, с вяжинкой, с горчинкой, пегие, сиренево‑зеленые, с лиловыми и красными прожилками листья сполоснул под холодной водопроводной водой, откусил добрый кусок истекающего маслом посоленного бородинского хлеба и затолкал в рот капустную роскошь. Капустный сок огнем пробежал по телу и вернулся сильной, испепеляющей все греховные помыслы, отрадной, как весеннее дуновение, отрыжкой.
Кое‑как насытив утробу, Андрей восторженно водрузил чайник на двухконфорочную спиральную электроплитку, после паузы открывшую в полумраке алый глазок, в очередной раз исторгся наружу и завернул в нижний храм.
* * *
Домик приходской бухгалтерии стоял к храму так близко, что все бегали в самый мороз туда‑сюда без верхней одежды и мороз не успевал их даже ущипнуть; как семидесятипятилетний бригадир сторожей, доктор физических наук, балагур и охальник, не успевал за зеленоглазой свечницей, когда она шла лакомой походкой мимо. Бригадир кидался сурово, неумолимо, слишком уж свечница была хороша в своих юбках. Но пусть бригадир спортивный старик и у него черный пояс по карате, – она (тоже бригадирша, среди свечниц) всегда увертывалась от него с несравненным гневным смешком. Доставалось старику только дуновение от ее юбок, и сходило дуновение тишью на приход. Андрей тоже млел от свечничьих юбок, не делом, как бригадир, выказывал свое мление, но словом. Какая у вас, Оля, юбка сверхъестественная! Да ты что, она у меня уже три года!.. Поднимается по белокаменной лестнице, подбирает подол с синим кружевным подъюбником. О, три года, о!..
Андрей прошел в нижний храм, затем резко налево от сулеи в озаренную сквозь белые бязевые занавески дверь ризницы.
Тесный подклет. Всё здесь под рукой и одновременно еле дотянешься; когда дотянешься, минутное облегчение от печали в лучшем случае по Бозе, а в худшем не по Бозе, чувствуешь себя с большой буквы, а если рюмку кагора – опять облегчение, чувствуешь себя под титлом. Сразу справа от входа шкаф для облачений: фиолетовых, черных, голубых, золотых, червонных, зеленых. Смотришь в их направлении, а видишь себя в большом зеркале шкафа, сидящим на диване. Сразу слева от входа – холодильник, за ним по часовой стрелке – втиснутый между столом, холодильником и сервантом тот самый обтянутый бархатом цвета кагора диван, на котором сидишь. Далее – сервант светлого дерева с несколькими дверцами и многими, все недосуг подсчитать, выдвижными ящичками, на серванте – часы, иконы, две лампады, ветхий основательный требник и утюг. В центре ризницы – стол, на нем и вокруг него – закрученные, завинченные, закрытые шлепком смиренной ладони банки, корзины с поминальной и просто пожертвованной снедью, стопки отутюженных полотенец, коробки со свечами и бутылками кагора. А вверху, на расписанном своде – святой Лонгин Сотник с копьем.
– Вадим Георгиевич, вы сегодня остаетесь? – спросил Андрей.
Алтарник Вадим Георгиевич в оцепенении сидел на диване в купоросной долгополой ручной вязки душегрейке поверх яркой ультрамариновой рубашки. Это радующее око сочетание цветов шло к пегой седине стриженых волос и бороды. Вадим Георгиевич чуть встрепенулся, приоткрыл рот и свысока глянул на Андрея сквозь утвержденные на приступке носа очки. У Вадима Георгиевича был такой нос, что очки просто не держались на переносице, поэтому ему приходилось глядеть через очки всегда как бы свысока. Он снял очки, закадычно повел головой и сказал решительно:
– Да нет, сейчас побегу!..
Встал; он был мал ростом, но широк в спине и плечах; чинно принаклонился всем торсом, полы зеленой душегрейки провисли, как рыбацкая сеть апостола, отвлеченного Господом от работы, вытащил из перегруженного приношениями угла полиэтиленовый пакетик с сормовской булкой, пачкой печенья «Юбилейное» и тремя замасленными желтыми яблоками.
– Возьми! – значительно протянул пакетик Андрею.
– Спаси Господи! – козырнул взглядом Андрей.
От сдобных булок, а в особенности печенья «Юбилейного», вечно приносимых на помин, Андрея давно мутило, но яблокам он неизменно был рад.
– Ну что, Андрей!.. Разомнешь меня? – спросил Вадим Георгиевич вкрадчиво.
– Обязательно! Сегодня или никогда.
– Как никогда? – испугался алтарник.
– Я это к тому, что в курсе должна соблюдаться строгая цикличность, соответствующая биоритму и прогрессии оздоровления.
– Ну ты же знаешь, какие хлопотные были дни! – стал оправдываться алтарник. – Твой Андрей Первозванный, Святитель Николай, а теперь Спиридон еще на подходе!
– Понимаю, понимаю… Но перерыв все же делать… Тальк, я надеюсь?..
– Ой! – Вадим Георгиевич зашорил глаз ладонью. – Забыл!
– Придется опять делать с мукой, – приговорил Андрей.
Давно, когда Андрей взбалмошно избирал жизненное поприще, он окончил массажные курсы. Теперь Вадим Георгиевич брал у него курс массажа спины. В первый сеанс массаж делали с пожертвованной на просфоры мукой, потом, по настоянию Андрея, алтарник обзавелся детской присыпкой.
– Зачем же вы ее домой‑то брали?
– Машинально в сумку бросил! – с плеча отмахнулся алтарник.
Стали раздеваться. Алтарник снял свою душегрейку, синюю рубашку, Андрей – куртку, свитер, закатал рукава рубашки. С неумолимым лекарским азартом он выдернул из кармана кожаный собачий ошейник, застегнул у себя на затылке, чтобы пот со лба не заливал глаза и не капал на пациента. Вадим Георгиевич с восклицанием: «Ох, грехи наши тяжкие, Пресвятая Богородица!» – повалился на узкий диван.
– Вадим Георгиевич! – сразу, как и положено медику, потерял терпение Андрей. – А под голову?
Алтарник приподнялся, угрюмо помотал головой, как среди ночи разбуженный, лунатически встал, шаря, положил в изголовье стопку отутюженных бязевых полотенец и устроился на диване заново.
– И брюки пониже спустите!
Вадим Георгиевич уже не стал вставать, расстегнул под животом ремень и приспустил брюки.
Андрей пристроился на табуретке в узком темном прощелье между столом и диваном, обсыпал себе ладони и широкую короткую спину алтарника жесткой мукой, нащупал на его вывернутом запястье пульс, уловил сердечный ритм и приступил к первой части классического массажа: поглаживанию.
Лекарь! Етит ти! Пока кумекаешь да смекаешь, как подступиться, уже подступился! Поглаживание. Что в имени тебе моем? То есть что в этом слове? Что‑то лицемерное, похожее на любовь к детям, не к своему бедному чаду, а все лучшее – детям. Как поглаживать: ласково, небрежно, с любовью к ближнему? Все это ерунда и пустая декларация, вода в ступе. Гневно надо! Любовь – она вообще гневная, и с женщиной надо гневно, и с пациентом – не грубо, а гневно. Спаситель тоже гневился. Доколе буду я вас терпеть? Вот и тут тоже: доколе я буду вас терпеть, Вадим Георгиевич? Тогда что‑то высвобождается в душе. Начинаешь и впрямь исцелять, слышать человека. Человек прекраснее деревьев, болтал Сократ. Он свою философию выболтал по‑стариковски. А чем человек не дерево? Аорта, от нее ветви. В детстве думал: как рисовать дерево, ведь каждый листочек, каждую веточку не нарисуешь? А сейчас понимаю, массирую поваленного Вадима Георгиевича и понимаю. Легко кончиками пальцев, ладонями, кулаками, тыльной стороной ладони, восьмерки, спирали и зигзаги. Дальше идет «растирание» – слово хорошее, как испарина. О! Испарина выступила, кризис миновал, я люблю вас, доктор! Мне сказал пьяный врач, тебя больше нет, пожарный выдал мне справку… э‑э‑э, это не в ту степь! В той степи глухой замерзал ямщик, как‑то он уютно замерзал, а может, так и замерзают – уютно, сладкий глазурный сон, снился мне сон, что печали кончаются, люди одинокие встречаются, встретятся, молчат и улыбаются. Глазурь, финифть, майолика, алтарник сейчас как тот ямщик, только не отдает наказ, отмалчивается, впрочем, в его молчании – тот же наказ. «Строгание», «пиление», «колбаску», «крапивку», штрихование между ребрами, человек – еще и корабль. Суставы, связки – снасти, ребра – остов, органы – паруса. Между деревом и кораблем связующее звено – человек, все правильно. Философ, а хоть бы и Сократ, с бунтующего корабля любуется закатом. Чуть что – сразу Сократ, в каждой бочке затычка, в каждой ли, а в Диогеновой? Отойди, ты заслоняешь мне солнце! Подкрадешься к бочке кагором полакомиться, вытащишь затычку, а оттуда Диоген матерком кроет, болезный, и обратно затычку суешь, пред кем весь мир лежал в пыли, торчит затычкою в щели, вот и затыкаешь Александром Македонским диогеновский перемат… или Сократом? Дался вам этот Сократ! Досократическая философия, ишь ты! как будто до Сократа все лаптем щи хлебали и ноздрями мух давили. Вон Диоген был после Сократа, и что? Да ничего. А если бунт на космическом корабле или голливудский Чужой рыщет? Тогда философ благостно смотрит через иллюминатор на звезды, заправлены в планшеты космические карты, он сказал: поехали, он махнул рукой, словно вдоль по Питерской, Питерской, пронесся над Землей, отправили с помпой, обратный отсчет, а о том, что он живой человек, забыли, соцреализм, тудой его в восьмитонный лапоть. Этапы массажа – как оболочки атмосферы Земли, и словно действительно что‑то отпадает и сгорает ярким пламенем, какие‑то отсеки, ненужные по сути дела, но необходимые для взлета, жизнь состоит из ненужных, но необходимых для полета отсеков. Жизнь – это урочище между зачатием и смертью. О мое урочище! Жизнь прожить не поле перейти… А по‑моему, жизнь прожить – как раз поле перейти; перешел, легкая усталость и – новый шаг в лес. А там, сзади, кашки, правда, остались, белые и лиловые. Да, вестимо, «растирание» – слово поприятнее, чем «поглаживание», краски растирают, больное место себе, шею продует, колено ушибешь, растираешь себе как миленький, без задних мыслей, так и Вадиму Георгиевичу растираешь, я слышу его боль, как музыку, как слышишь ломоту в музыкальном инструменте, когда музыка из него просится наружу, тогда утопляешь клавиши, задеваешь струны или дуешь в дуду, музыка давеча просилась из глаз, из всего существа Вадима Георгиевича, значит, ему больно, вот и растираю. Теперь разминание. Слово скульптурное, двукрылое, как Ника Самофракийская, голова моя машет ушами, как крыльями Ника, двуухое – значит, одно ухо античное, Зевсово, дочеродное, другое – разминка без отрыва от производства, Рабочий и Колхозница, гипсовые запыленные колосья, ВДНХ – адский дворец, эмалированная кастрюля фальшивого неба, но и хозяину там неуютно, где‑то он все скитается по пивным, по безводным пустыням человеческих душ, уютно здесь только бравым советским служащим, раззудись, живот, размахнись, щека. Я утоляю голод, только не свой, Боже упаси, а его. Он устал в своей оболочке, в своей скорлупе, в сыромятной шоре страха – слева, и одиночества – справа, в своих тяжелых доспехах, повергли тяжелого конника в мураву, он и лежит, росно ржавеет, сам встать не может, медная прозелень на ланитах, надо подсобить, вставай, служивый! Двигай в крестовый поход, узри святой Иерусалим! Только не с мечом иди и не в этом металлоломе, а налегке, с оливковой ветвью.
Колодин выжимал, растягивал и стягивал, сдвигал и раздвигал, валял, накатывал, вкручивал и выкручивал, выжимал, перехватывал из руки в руку мышцы – от трапециевидной до верха ягодичной. Он массировал от головы к ногам, потому что на вопрос: есть ли у вас гипертония, алтарник на первом сеансе ответил уклончиво и одновременно обреченно. Словом, стал зубы заговаривать: что‑то про вечер, перешел на поэзию. А врачам нельзя зубы заговаривать, с ними нельзя поэзией, поэзия для врачей великое искушение – или липовый диагноз поставить, или обобрать как липку, самые достойные просто свирепеют, вот и Андрей рассвирепел, и алтарник спрятался от него в подушку… С тех пор прятался… Межпозвоночная грыжа под вопросом, под большим таким вопросом, смещение, кхе‑кхе, разговорчики в строю, ущемление нерва, то бишь остеохондроз, он же радикулит. А также: лордоз, кифоз, сколиоз… хотя нет, искривления как раз нет, как это ни странно… Не буду вас терзать. И на том спасибо. Спина как панцирь, доспехи под кожей, под кожей – Рыцарь Печального Образа, рыцарь до мозга костей. Мда. Ну, уважаемый, что с вами будем делать? Ничего утешительного… Эврика! А нет ли у вас, часом, тромбофлебита, варикозного, так сказать, расширения? Если есть, то… Нет, нет, что вы, упаси Бог! Смотрите… или, скажем, компрессионного перелома в детстве с дерева али с ледяной горки на санках, бывает, раньше не обращали внимания?.. Ах, оставьте!.. Нет уж, позвольте! Но!.. Поздно, лежать! Раньше вы о чем думали, где вы были раньше? Жил и страдал, ждал счастья, третьего дня меня продуло… Так ведь вы без шапки в мороз, батенька. Да что шапка?.. Что‑что, будет вам известно, через голову семьдесят процентов… Так у меня не голова… А что? Ха‑ха… Не голова, у меня тут вот, в боку… Расслабьтесь! Расслабьтесь, я вам говорю. Да чего уж теперь расслабляться, заматерел, с вашего позволения… А я говорю: расслабьтесь! Йох‑хо‑хо, и ящик кагору.
Колодин‑зверь ужесточил напор, вминал кулаки на авось: сдюжит или не сдюжит алтарник. Увязла латаная‑перелатаная кибитка старого комика по самые оси в житейском дерьме… но раз‑два взяли, еще взяли, чего‑то треснуло, сорвалось, давай, еще навались! Сама пойдет! И – словно вечор в пушистый снег упал навзничь. Бух! Век бы не вставал! Колодин наваливался всем весом, Вадим Георгиевич смутно порыкивал. В спине потрескивало, как в печке; уютно, покойно, когда и ходишь по комнате по‑другому, не как унылое животное в клетке, а мягко ступаешь по половицам, словно ждешь с минуты на минуту… Может, аспид, и сместил межпозвоночный диск, какая разница, хуже уже не будет.
Колодин опять посыпал побагровевшую спину алтарника мукой.
– Достаточно сильно? – участливо спросил он.
Алтарник не ответил, он то ли задремал, то ли отдавал Богу душу. Уповая на лучшее, Андрей продолжил, приступил к четвертой части: «вибрации»… Вибрация, турбулентность, надо встряхнуться, суставы закостенели, как убеждения, в организме все связано, с возрастом убеждения костенеют, костенеют и суставы с костьми вкупе, заболачивается, запруживается кровь, во взгляде стоит ряска, и дыхание отдает тиной. Растрясешь, как сито, человека, отсеешь из него песок… И пусть потом он опять повлечется к своей женщине в песках, необходимо растолкать в нем былину, кровь с новой удалью хлынет по жилам, прорвет заболоченные запруды, окатит пенной волной стылые кости, напитает алым чистым соком зачерствелые мышцы, и организм поднимется из собственных руин, от хаоса остеохондроза, артроза и гипертонии к космосу здравия души и тела. Андрей встряхивал, растрясал, сотрясал грудную клетку, лопатки, подвздошную кость. Трудно, трудно стряхивать яблоки со старой седой яблони, но спелые молодые яблоки все же наперебой стучатся в гулкую землю… Это уже «поколачивание». Уже стучат. Гости пришли. Праздник, топают зябко, возбужденно в прихожей, тут и прибаутки… Когда же это было – когда радовался гостям? Давно, не те гости пошли, да и я не тот… Стучат, бьют, колотят, поколачивают, его в школе поколачивали, а он первый раз в жизни ковер выносил после школы, отдохновение. На перекладину в безлюдном дворе, яростно, со всей силы, со всей удали, изогнутой ножкой от стула лучше всего, потом в снег, втаптываешь, топчешься усердно. И опять накидываешь на перекладину, как попону на скакуна, узоры проступают, ярчеют, сказочные соцветия дышат сладко, как живые, растительный орнамент, исихазм, плетение мыслей, умная молитва, плетение узоров, арабская вязь, восточная традиция, Византия, Бизантия, бязь, бязевые полотенца под расслабленной щекой, правеж, чистая работа, чистые полотенца, сладкая слюна, сладкие сны, а они всё стучат. Комья земли глухо рушатся, обычай такой, каждый приглашенный, каждый член семьи – свой ком: бух, бух. А потом с лопат под завязку жирными ломтями. Во блаженном успении вечный покой. По краям погоста розовые прутья краснотала занимаются, ярчеют, весна наступает. Они подбородки уткнули скорбно в воротники. А ведь душа уже тю‑тю, она уже там, в розовом краснотале, для нее уже началась вечная весна. И только одинокое сквозное дуновение сообщает тем вокруг ямы, что, дескать, вам время тлеть, а мне цвести… Но дуновение не договаривает, замолкает на полуслове, в полушаге, и… нерешительная горючая жалость, себя жалеют. Покойник себя не жалел, так помянем же… Взбодрившись. Да нет, жалел иногда.
Андрей рубил ребрами ладоней ребра, поколачивал кулаками, хлопал и похлопывал сложенными, как для милостыни или под капель, опрокинутыми ладонями. Вдруг он подхватил расслабленную безответную руку Вадима Георгиевича, заломил ее за спину, донельзя оттянул вверх, потом, поразмыслив, – в сторону, точно хотел отломить ее в плечевом суставе. Тяжесть расслабленной руки, се человек. Тяжесть младенца, поначалу младенец почти невесом, он из вечности, из невесомости, вечность – это умиление; потом родная тяжесть дитяти, потом тяжесть руки родного человека, любимого человека, чужого человека. Андрей стал руку трясти, сначала потихоньку, словно просил что, потом сильнее, словно будил, потом трепал, как овчарка предплечье нарушителя границы. Ага, попался! Знай границы, знай!.. То же Андрей проделал и с другой рукой. И вот с дохтурским коварством – потерпите, больной, уже почти всё… и причинить самое мучительное так, что душа заскулит, – он взял обе заломленные руки Вадима Георгиевича, отнял всего Вадима Георгиевича от дивана и встряхнул так, что, будь алтарник в сознании, диван показался бы ему в алмазах и с овчинку. Это лютовство называется жеманным словом «движение». Потом кровожадный шарлатан Колодин что‑то бегал пальцами, что‑то хлестал расслабленной кистью руки… Закончил он тем, с чего начал, поглаживанием. Поглаживанием он как бы извинялся за причиненную муку, поглаживание было актом раскаянья, но раскаянья, воля ваша, неубедительного и даже предосудительного. Когда Андрей последний раз конфузливо провел ладонью по спине алтарника, ему показалось, что алтарник похолодел.
Завершив свое черное эскулапово дело, Андрей встал с табурета, снял насквозь пропитавшийся потом собачий ошейник с головы. Распростертый вдоль дивана алтарник оставался неподвижен, закоченевшая ступня в носке свесилась.
– Вадим Георгиевич! – позвал Андрей.
Вадим Георгиевич не отвечал, он лежал лицом вниз, и только выглядывал его подогнувшийся нос.
– Вадим Георгиевич!!! – строже позвал его Андрей.
– А!!! – встрепенулся всем телом Вадим Георгиевич.
– Всё.
– А‑а… – догадался алтарник, с кряхтением поднялся, посидел на диване ошалело, встал, вдохнул полной грудью, распростер руки и облегченно произнес: – Словно заново родился!
Потом он бдительно огляделся, встревоженно поморщил нос, поджимая под него губы:
– Чем это у меня тут пахнет?
– Пустым стаканом кагора, – подсказал Андрей.
Дегустация кагора входила в число обязанностей алтарника. Точнее, он являл собою первый этап дегустации: должен был испить из каждой бутылки. Когда же партия проходила приемку Вадима Георгиевича, к дегустации приступала более высокая и придирчивая инстанция, а именно отец Викентий, гурман, выпускник Киевской духовной академии, обладатель ангельского голоса. Из‑за его неземного голоса во многом Андрей и поступил на работу сюда. Как‑то забрел он в шатком дерзновении в храм. Народу – тьма! В храм не войти! Но поверх голов через отверстые двери расплывается терпким благоуханием, ярчеет оранжевым румянцем дальнего иконостаса, распускается девственными пламенно продрогшими томными лепестками голос отца Викентия, тогда еще дьякона. И внешне Викентий соответствовал своему голосу: волоокий красавец, с прекрасной морщинкой между сдвинутыми не мрачно вниз, а томно вверх бровями, со свежей сливочной улыбкой в пушистой, блестящей, курчавой, густейшей бурой бороде. Недавно верхний храм изнутри был наново расписан одним знаменитым московским изографом по строгому византийскому канону; все святые и ангелы получились отцами Викентиями.
Человек южный, отец Викентий любил хорошее вино и цветы, особенную слабость питал к настурциям. По осени, когда батюшка под горку следовал к калитке после вечерней исповеди, на глазах его выступали благоуханные слезы, как капли отмерзшего инея в пламенных лепестках настурций, специально для Викентия посаженных влюбленными в него прихожанками по краю брусчатого парапета вдоль наклонного тротуара.
Вадим Георгиевич взамен ответа на догадку о пустом стакане кагора достал из ящичка серванта хрустальную стопочку и налил Андрею именно густого и темного кагору. Андрей после известного колебания выпил.
– Это, конечно, не кагор, – сразу определил он, – черносмородиновая настойка.
– Ты разборчив, как отец Викентий, – покачал головой Вадим Георгиевич, потом встрепенулся, вынул из кармана сторублевку.
– Да не нужно, – сконфузился Андрей.
– Без разговоров, всякий труд должен оплачиваться. – Алтарник посмотрел в глаза Колодину прозорливо, но был несколько сбит с толку, потому что, как уже говорилось, в глазах Колодина толку не было.
Колодин с пакетиком гостинцев в руках вышел из нижнего храма, поднялся в сторожку. Чайник выкипел.
Сторож плеснул в раскаленный чайник воды и опять поставил его на жаркую, почти бесплотную, рдяную спираль. Через несколько минут, когда чайник начал закипать, дверь внизу с грохотом распахнулась. «Молитвами святых отец наших!..» – возопил алтарник снизу. «Аминь!» – тускло отозвался Андрей сверху. В панике, не сразу, под брошенной на диван курткой нашел связку крупных храмовых ключей на большом треугольнике из хромированной проволоки и низринулся по лестнице. Вадим Георгиевич призывно улыбался Андрею навстречу, чтобы тот отпер ему калитку.
Вадим Георгиевич, как правило, уходил последним. На улице сильно морозило, но пегая голова алтарника была не покрыта. Обычно они с Андреем перешучивались перед калиткой, говорили о литературе, о кинематографе, но теперь алтарник что‑то отмалчивался. Андрей на ходу нервозно позвякивал связкой ключей, вертел в левой руке треугольник, пускал ключи по его хромированным граням.
– Ты ведь знаешь, – начал Вадим Георгиевич, – Николай ушел от нас в семинарию…
– Да.
– Освободилось место чтеца. Ты как? Я спрошу настоятеля, думаю, он даст благословение.
Андрей замялся и посмотрел куда‑то поверх головы Вадима Георгиевича.
– Я сомневаюсь… – пробормотал он.
– А ты не сомневайся, положись на Бога.
– Одно другому не мешает, – непонятно ответил Андрей, – нет дерзновения, ведь должно быть дерзновение.
– Ты не темни, Андрей, это не поможет, – обиженно сказал алтарник.
– Да я не темню, просто я не достоин, не готов.
Алтарник поморщился носом.
– Смотри. Церковь призывает только один раз.
– Почему один?
Алтарник выдохнул приютное, съестное и благовонное тепло ризницы, вдохнул отвесную звездную прохладу.
– Мне в свое время предложили рукоположиться, а я тоже: не готов… Отказался. Больше не предлагают.
Он улыбнулся уязвленно, вышел за калитку и широким, несоразмерным своему росту шагом пошел прочь; на ходу он как‑то таинственно пригибался, втягивал голову в плечи. Он всегда так ходил.
Андрей вернулся в сторожку, чайник выкипел.
III
Как Бетховен
Вот и с алтарником отношения натянулись. А какие были отношения хорошие! Он в глаза называл Вадима Георгиевича праведником и одновременно вышучивал его. Андрей всегда вышучивал милых ему людей, оттого ему иногда казалось, что не тот или иной человек, а сам Бог обижен на него. Только звонарь Всеволод Александрович извинял ему эту слабость и пускал звонить на колокольню. Все знали недостаток сторожа, а звонарь вроде как и знать не знал. «Наветчики обвиняют праведника именно в том, что ему менее всего свойственно, в отношении чего он, наоборот, достиг духовных высот. Если, скажем, бессребреник, его обвиняют в стяжательстве, если исполнен целомудрия, называют блудником, если трезвенник редкий, то каждый встречный‑поперечный толкует о его пьянстве…» Умно, хотя далеко не всегда, конечно, выходит так, как объяснял Всеволод Александрович. Андрей любил звонаря больше всех на подворье, но и вышучивал пуще. «У вас слишком прямолинейное представление о празднике», – заметил он звонарю, когда тот пришел на рождественскую всенощную в костюме и при галстуке. Звонарь негодующе качнул своей дивной, словно вороненого серебра, шевелюрой и соскочил на тихий смешок.
Злые мирские языки, бывшие друзья обзывали Всеволода Саныча «Оссанычем», но на подворье он, наоборот, считался неформалом, хотя неукоснительно следовал церковному канону. Это касалось и одежды: в воскресенье он ходил в красной рубашке, на Троицу – в зеленой, на Рождество – в голубой и так далее… «Ой, какая у вас рубашечка зелененькая! – с сатирической и одновременно просветленной улыбкой надвигался на него Андрей. – И к бороде подходит, вы похожи на Посейдауна. А косой вы помахиваете в траве, как трезубцем в волнах…» «Я вообще старичок на ять», – отвечал звонарь, вызволяя из кармана оселок. Косил на подворье по преимуществу он и других ревновал к косьбе.
А когда звонарь являлся в бейсболке, то тут веселью Колодина и вовсе не было конца.
– «Зизи топ»! – ликовал он.
– А что это… «Зизи топ»? – первый раз растерялся Саныч.
– Это рок‑группа такая американская, трио. Там один усач и два бородача, и все с электрогитарами и в бейсболках, а у бородачей бороды ну совсем как у вас, только у одного фиолетовая, а у другого оранжевая…
– А у меня…
– А у вас синяя, ой, нет, я же говорю, зеленая.
Санычу понравилось, что он «Зизи топ», и он, как наденет бейсболку, всегда хвалился перед прихожанами:
– Я Зизи боб!
– «Зизи топ», – поправлял его Колодин.
– А, ну да, Зизи топ!
Прихожане ввергались в замешательство.
Нередко звонарь захаживал в сторожку к Колодину, предваряя свое появление грозным кашлем снизу; захаживал с двумя бутылками чешского лицензионного пива «Старопрамен»: «Я больше люблю „Козел“», – капризничал Андрей. «Нет! – брезгливо тряс бородою звонарь. – Козла я пить не стану». Звонарь садился рядом с горящей лампадой, расставлял широкие колени в просторных штанах и с общепитовским граненым стаканом пива в руке рассказывал какую‑нибудь звонарскую байку.
Одних сугубо звонарских историй у Саныча накопилось множество. Он даже грозился книгу написать, только никак не мог определиться с названием: «Байки старого звонаря»… нет, «Враки старого звонаря», ну, не такие уж враки… «Басни старого звонаря», – подсказал было Колодин. «Ну, не такие уж и басни…» – грациозно пробормотал звонарь. Словом, все уперлось в название, а так садись и пиши. Сюжетов множество. Вот, к примеру, как‑то на Светлой седмице звонарь привел на подворье своего старого другана, композитора. Другана еще по тому времени, когда Саныч сам был светским музыкантом, весьма недурным джазовым барабанщиком; но Саныч окончательно и бесповоротно покаялся, несколько лет вообще не музицировал, работал в нотном издательстве, потом и с нотами покончил, стал звонарем… Так вот, друган‑композитор давно хотел удариться в церковные колокола, но когда дошло до дела, когда Саныч объявил по телефону, что ждет его сегодня, композитора, как человека творческого, не без воображения, стало лихорадить. Ведь он только худо‑бедно утряс свои отношения с высшими силами, а подобное дерзновение может все перепутать и выбить из колеи; ведь он такой хороший композитор, а после колоколов мало ли что? Слышал он где‑то, то ли в книжке прочел, то ли бабушка надвое сказала, что путь этот духовный – необратимый: взойдешь вот так, дуриком, на колокольню – и всё, хана, вдруг и музыку такую хорошую перестанешь сочинять… Высказал он свои опасения как на духу Санычу. Но звонарь совершенно успокоил его. Привел примеры, когда люди поднимались на колокольню, звонили и спускались совершенно такими же, как были, и что он сам, Саныч, каждый день удивляется: залез на колокольню, позвонил, а спустился ну совершенно таким же, каким и был: тот же Всеволод Саныч, никакого преображения, такой же сочинитель и пивной воздыхатель. Композитор прекрасно понимал про себя, что он – не все, что он – даже не Всеволод Саныч, но все же поддался на уговоры, ведь его не только как музыканта, но и как мальчишку, каковым является всякий настоящий мужчина, подмывало залезть на колокольню и отбацать такое, чем можно было бы утереть нос самому Всеволоду Санычу. Долго ли, коротко ли, взошли они по крутой лестнице узкого прохода к звоннице. Всеволод Александрович вызвонил благовест, пасхальный тропарь, трезвон, потом, не прекращая звона, а наоборот, его нагнетая, кивком головы поманил композитора, передал ему одну связку веревок, подвязанных к билам колоколов, – когда композитор немного очухался от нескончаемого колокольного зыка, нащупал веревки, вошел в ритм, – отдал другую связку и отпрянул в сторонку. Надо признаться, утешился композитор по полному композиторскому чину. По первости, ошарашенный, с ножкой на тугой педали большого благовестного колокола, с хитросплетениями веревок в руках, он испытал что‑то сходное с состоянием невесомости, но быстро нашелся. Изловчился вызвонить каждый колокол звонницы, даже ржавые треснутые и один, крашенный красной краской, доставшийся от пожарной части. Треснутые ему показались даже более интересными по звучанию. Эстет, что тут попишешь! Раскатистую и немного заунывную каденцию композитор исполнил с таким самозабвенным раскачиванием, будто не он колокола, а колокола его тянули в свои стороны, отнимая друг у друга. А композитор, как и пристало великому композитору, был кудлатый детина, и власы его захлестывали ему лицо, и струились родниками, и переплетались с голубым воздухом, а уста заплетались в улыбку, и был он подобен античному богу Эолу в самой каменной розе ветров, повелевал колоколами, как Бореем, Нотом, Австром, Эвром, Зефиром, Африком… и как там еще, дай Бог памяти, хорошо, еще не забыл, как меня самого зовут. Когда по крутейшим ступеням узкого прохода спускались, Саныч, казалось, спасался от композитора бегством. «Это можно сравнить разве что с детским счастьем!» – кричал композитор вдогонку, звонарь же только метнул свирепый взгляд через плечо. Вышли. Композитор спросил звонаря: «Как тебе моя колокольная музыка?» «Весна!..» – неопределенно развел руками звонарь. «Что?!» – переспросил композитор.
«Не обижайся, голубчик!» – потрепал его по плечу Саныч. Композитор схватился за уши и возопил полушепотом: «Я ничего не слышу, я оглох!» «Это пройдет, уши с непривычки заложило, – стал успокаивать его звонарь. – Забыл гадкий дед тебя предупредить, что надо было предварительно ватки в уши положить, я на что привычный, и то одно ухо ватой затыкаю»; под «гадким дедом» звонарь разумел себя. Композитор смотрел на запутанные в усах артикулирующие маленькие губы звонаря, и глаза его наполнялись вящим ужасом: «Ничего не слышу! Как же я теперь музыку буду писать?» «Ну, как‑как, – пожал плечами звонарь, – как Бетховен…»
– Меня Вадим Георгиевич тянет на повышение, – пожаловался в следующую свою смену Колодин Всеволоду Санычу в сторожке, когда тот опять заглянул к нему со «Старопраменом».
– А что? Священство должно быть целью каждого мужчины. – Саныч сдержанно округлил эбеновые глаза, так что в них отразился матовый серебряный блик с его толстого серебряного обручального кольца.
– Как это, каждого? – смутился, задергался внутренне Колодин.
– Другое дело, что можно и не стать священником, но как высшая цель земного существования, как идеал… – уточнил Саныч, он круглил глаза не рьяно, а педагогически.
– А, ну как идеал – это можно.
– Есть у меня одна врака по этому поводу. Историйка про Аркашу. Теперь‑то он не Аркаша, а целый отец Иона. А когда он был еще Аркашей из ВГИКа, мы променады с ним и с другими творческими кутилами по Броду такие забабахивали! Бродом у нас улица Горького называлася. А в стены Трех вокзалов плескалося золотое море советского шампанского с пузырьками по горизонту. Я‑то что? Я все порхал, как бабочка, синкопами, опылял цветы добра и зла, пил цветочный нектар мировой культуры и смаковал коньяк из горлышка в колоннадах Метрополитена имени Ленина. А Аркаша, тот был заправский хиппи и диссида, потом еще ударился во всевозможные буддизмы‑оккультизмы, камлали они всей своей бандой – ой, простите, я хотел сказать: бомондом! – в этой самой башне. – Саныч указал на двенадцатиэтажный блочный дом за окном. – Там была у Аркаши фатера. Но вот, глядим, наш Аркаша воцерковился, покаялся, зачастил в монастырь, выбился в любимые духовные чада. А потом охнуть не успели – он уже послушник. Причем не просто послушник‑салага, ему проповеди после литургии произносить доверяют. Речист! Но компанию свою старую Аркаша не забросил. Компания у него незаурядная подобралася: режиссеры с философами, критикессы с поэтессами, генеральские дочки с поэтами, князья с графьями. Высший свет, коротко говоря. Другое дело, что дворянство, пусть человек и рождается в дворянской семье, присваивается только высочайшим повелением, указом государя… Я вот тоже из недобитков, но дворянином себя не считаю, потому что государь‑император обо мне указа не подписывал. Ага, ну вот. Вознамерился, значит, наш Аркаша принять иноческий постриг. Друганы его родовитые решили, само собой, это дело как следует сбрызнуть, шампани накупили горизонтальной. Пришли ватагой на постриг, кто по‑неформальному в штатовских джинсах, а кто в кутюрах и шанелях. Стоят, крестятся, всё по‑правильному делают, как Аркаша научил.
Самого же Аркашу монахи берут под локотки и заводят в носочках прямо в царские врата – вообще босиком положено, но он в носочках был. Друганы ждут‑ждут, уж служба закончилась. Выскочил из алтаря иподьякон. Аркашины друзья подступили к нему, спрашивают: «А где же наш Аркаша?» «Он теперь не Аркаша, а брат Иона», – со всей положенной строгостью отвечает иподьякон. «Ну хорошо, – ропщут дамы, – когда же он выйдет? Мы его ждем‑ждем». Почему «ропщут»? Как апостол Павел сказал? Женщина в храме да молчит. Аминь. Ага, ну вот. Лошадиный дьякон им и отвечает: «Куда ж ему выходить, ему теперь некуда выходить, ведь он теперь монах».
– А почему «лошадиный»?
– «Ипо» ведь по‑гречески «лошадь»? Вот и получается, что «иподьякон» – «лошадиный дьякон». Так и увели нашего Аркашу с концами, а разношерстым приятелям с шампанями их, джинсами, кутюрами и шанелями пришлося без Аркаши обмывать его постриг. Простите.
– Всеволод Александрович! – раздалось снизу. Саныч замер, а потом подчеркнуто независимо и небрежно выкрикнул:
– Сейчас! Иди в храм!
Супруга Всеволода Саныча работала за свечным ящиком.
– Всеволод Саныч! – моментально терялось терпение внизу.
– А она обещала вас в окошко выбросить, если мы с вами еще будем пиво пить, – наябедничал Саныч. – Она может.
– Да, может, – согласился Андрей. – Ваша супруга просторна в плечах.
– Чего это, просторна… – осекся Саныч.
– А что? Это красиво – когда у женщины широкие плечи.
– Вы, Андрей Викторович, не обращайте внимания. Понятно, что самый лучший на свете – Всеволод Саныч, но вы тоже у нее в любимчиках ходите, она просто виду не показывает, в строгости вас держит.
– Всеволод Саныч! Долго вы еще собираетесь там болтать? – опять взорвалось внизу.
– Цыц! – прикрикнул с развороту Саныч, а сам жалостно посмотрел на недопитый стакан пива, погладил его, махом допил, надел свою куртку, повешенную на спинку стула, черную вязаную шапку, такую же, как у Колодина. – Моя жена дома босиком ходит, благочестиво в платочке, но босиком, – обернулся напоследок Саныч.
– Да? И что?
– Вот знаете, бывают подкаблучники.
– Знаю.
– Ага, а я подпяточник, – провозгласил Саныч и поплелся вниз.
Андрей припал к окну. Супруга уводила Саныча, они степенно шествовали под ручку к воротам. Колодин смотрел им вслед вдохновенно.
IV
Настоящий индеец
Только на подворье Колодина отпускал страх. Стоило ему, сменившись, выйти за церковную ограду, как беспричинный страх подступал и старался ступать в ногу. Андрей нарочно спотыкался, приостанавливался, но страх опять угодливо искал его ногу. Андрей попробовал было откупиться от него милостыней, которую сыпал в ладони нищих у ворот, но милостыня суть бескорыстна, и откупиться не получалось. По всей видимости, это был страх смерти, а может, это был и не самостоятельный полноценный страх, а изнанка отпетого под гитару и погребенного в душе чувства, которое не хотелось называть по имени потому еще, что это и есть имя собственное: или женское, или – по Иоанну Богослову – Божье, а его чувство имело другое собственное имя, которое Андрей содержал в такой тайне, что оно со временем стало тайной для него самого; стало святыней и жупелом. Андрей мог произносить его на каждом углу, разглашать перед каждым встречным, оно все равно оставалось в тайне. Андрей пытался заменить его другим именем. Он ведь не был святым, женщины приходили. Но они уходили, и прежнее имя выступало в душе. Андрей не был святым, но сейчас он был один. Последнее время перестали попадаться ему его женщины. Как древесные нимфы гамадриады умирают вместе со своим деревом, в котором живут, так и милые его сердцу девушки как‑то повывелись вместе с милыми временами (что пройдет, то будет мило), а иные вроде и были раньше гамадриадами, а теперь то ли взяли себя в руки, опомнились, сделали себе пирсинг и зажали удила, то ли в побеге от сладострастного Колодина превратились в болотный тростник или в ужасе от его комплиментов рассыпались в прах. Очень много появилось на улице, в транспорте красивых девушек, больше, чем раньше, но Андрею нужна была другая, способная, подобно его страху, идти с ним в ногу, искать его ногу. Та, имя которой стало святыней и жупелом, так и делала, она часто делала прискок, чтобы идти в ногу, а то вдруг разворачивалась и шла задом наперед, чтобы на ходу смотреть Андрею в лицо.
Жил Колодин один, благо квартирка от дедушки осталась. Нередко Андрей после смены придет домой, споет песенку под гитару и, вспомнив всё, расхорохорившись, звонит кому‑нибудь по телефону в прошлое. Звонил он людям, давно забывшим думать о нем: одноклассницам, друзьям юности. У тех были деньги, дети, бизнес, автомобили, карьера, корпоративный дух, прибыль, стриптиз, конкуренты, дайвинг, здоровые амбиции. И не вполне трезвое вдохновение какого‑то названивающего из прошлого Андрюхи Колодина их не интересовало. Алло… Вы куда звоните? В прошлое… Куда? Это разве не прошлое? Вы ошиблись номером. Да это Андрюха Колодин. А, Андрюха, тогда другое дело…
Какой Андрюха? А, ну да, мы вместе в школе учились. В каком‑то смысле мы провели вместе все эти годы. Это ты загнул. Помнишь, тебе звонили пятнадцать лет назад и молчали в трубку? Нет, не помню. Так вот, это был я. А… Надо как‑нибудь того‑этого. Да, надо как‑нибудь этого‑того. Старый друг лучше новых дур. А как бы здорово! А почему тебя не было? Василисков тебе звонил? Меня не интересует Василисков, я хотел бы встретиться с тобой, сейчас, сегодня, приезжай ко мне… Да ты чего, Андрюша, с дуба рухнул, меня муж не отпустит… Алло, Ваня? Василисков? Сколько лет, сколько зим, это я, Андрюха Колодин. Сейчас с Оплеуховой о тебе говорили. Ну да, пересекаемся иногда. Хотя она, конечно, не догоняет. Я‑то? В церкви. Нет, не священником. А ты? Свой автосервис? Крутой. Крутой, говорю… Куплю тачку, сразу к тебе. Да, надо всем встретиться, Оплеухову позвать и эту, как ее, Веретенникову. Она, правда, стала профессиональной проституткой. Ты чего, не знал? Мне Гномов сказал, у метро встретились, он мне и сказал, он сейчас на игле сидит… А что? Когда есть подруга‑проститутка, это полезно. Да нет, платить все равно, я думаю, надо… Нет, просто когда подруга проститутка – это заряжает оптимизмом, бодростью, вселяет веру в себя и, главное, всегда есть про запас выплеск красоты. Некогда? Ясно, ясно… Пока, надо как‑нибудь.
Андрей своими звонками добился только того, что некоторые, самые занятые, стали просто бросать трубку. Для Андрея – словно вываливаться за борт. Ты куда?.. А… Перегнувшись. Волны теснятся, вглядываешься в них, как в жизнь в детстве. Чайки… ту‑ту‑ту. Короткие гудки.
Случалось, Андрей звонил своей бывшей жене. Бывшей его женой была Мила. Они там что‑то подавали в загс, потом она что‑то забирала, а он ждал ее на улице. Как нищий, лишенный всего, стоит и чего‑то ждет. А чего ждет нищий кроме подаяния? Или только подаяния? Считай, что была жена, для отвода глаз. Ты был женат? О да… Прошел, так сказать, хе‑хе… Сидел? О да, условно. Условимся, что ты был женат. Да, но… Никаких но! Но ведь мы с тобой… Ой, не напоминай! Содом и Гоморра. Если у нас были Содом с Гоморрою, то что же было потом? Потом я стала другой. Превратилась в соляной столп? Да, ха‑а, теперь не разнюхаешь, ведь ты, уходя, не оглянулся. Уходя, гасите свет. Притча о десяти неразумных женах, спавших при свете светильников. Одна из этих жен… Только какая? Я оглянулся. Уже было поздно, когда ты оглянулся, я уже стала другой. А почему, если ты стала другой, ты знаешь, что ты – это ты? И если ты не она, если ты другая, какое ты имеешь право наговаривать на мою жену? Может, она до сих пор любит и ждет, моя Ариадна! Какая Ариадна? Да ты, Ариадна, дурында. Я не Ариадна, я Мила, не гни мне мозги. Да, ты права, мозг с его извилинами и есть Дедалов лабиринт, полный мысленных тупиков. Я не понимаю, что ты говоришь… Да я так, выкобениваюсь, ничего уже не говорю, разговор‑то окончен.
Она была настолько бывшей, что успела после Колодина еще выйти замуж, родить сына и развестись. Точнее, сначала развестись, а потом родить. Развелась Мила, будучи беременной. К отцу своего ребенка Мила относилась… проще говоря, никак не относилась, оставляла на него иногда сына, и все. Андрея же Мила презирала и высмеивала, хотя раньше относилась к нему коленопреклоненно.
* * *
Андрей окончил школу и нигде не работал, жил на Покровке, был, что называется, не пришей кобыле хвост, ничего грандиозного ему не светило, но Мила все равно преклонялась перед ним и была тогда совсем другой, нежели теперь, была восторженной девочкой. Это сейчас она жила с мрачно опущенной головой и вскидывала ее, лишь когда хохотала; тогда же всегда ходила со вскинутой головой и улыбка выплескивалась на лицо.
Внешне Андрей был почти такой же, как теперь, нелепо одетый, в дурацкой куртке, короткой в рукавах (теперь‑то он носил куртку длинную в рукавах, и из рукава торчала связка церковных ключей), с неровно подстриженными отросшими волосами, в нечищеной обуви; впрочем, иногда он преображался, начинал блистать, как майская липовая листва под городскими окнами, когда кажется, что за липами сквера сверкает рябью река, а на самом деле за липами – двор противоположного дома с прорванной сеткой хоккейной площадки, нефламандским изобилием в мусорных контейнерах, штабелями ящиков и рассольными лужами на задах овощного магазина, а отнюдь не ликующая, вскипающая заведомой поклевкой и зябким звонким купанием река. Но вот на солнце медленно навалилось облако, и липы потухли. Так и Андрей начинал иногда блистать, как дворовые липы. Блистали и курчавились его темные локоны, иные сомневались: не парик ли? Блестели черносмородиновые глаза, блестели зубы, ногти, очень блестели ногти, многие подозревали, что он их красит бесцветным лаком; вишенным глянцем отливали полнокровные губы, и некоторые ворчали, что он их, верно, подкрашивает. Блистать Андрей начинал и в фигуральном смысле, блистать и феерить; а потом вдруг потухал и становился совершенно матовым, и кровь отливала от уст, и двух слов уже не мог связать, только ногти продолжали блестеть, словно заплаканные. В промежуточном состоянии между матовой нищетой и блеском Мила и застала его тогда возле метро, где он ее дожидался. Андрей передавал книгу для ее отца, какой‑то репринт, словом, встретились по делу, но пятнадцатилетняя Мила сразу влюбилась в нелепого и красивого юношу.
– Ты, Мила, удивительное существо, – сказал ей Андрей тут же, возле метро, – тебя ждет большое женское будущее.
– Что это значит? – Мила вопрошающе приблизила лицо.
– Хрен его знает, наверное, что‑нибудь да значит, раз к слову пришлось.
– Да ты выпендрежник, – вместе и очарованно, и разочарованно улыбнулась Мила.
– Никак нет, я медиум, сам не знаю, что говорю. Теперь, например, мне уже страшно от своих слов, и хочется тебя спасти от твоего большого будущего, и я спасу тебя от него, клянусь. Пойдем ко мне, выпьем сухого красного вина.
– Как это? – перепугалась Мила, – нет, приходи лучше послезавтра ко мне на день рождения.
– О, у тебя день рождения? И сколько тебе исполняется?
– Шестнадцать!.. – Мила подняла подбородок ему навстречу.
Ветер дул Андрею в спину, прятал его лицо в отросших темных волосах, а лицо Милы, наоборот, открывал, сметая ее волосы назад.
– О!.. С удовольствием, с удовольствием, я умею ждать, – ободряя себя, сказал Андрей. Ждать он как раз не умел. То есть именно изнурительно ждал.
– И ждать‑то совсем недолго, всего два дня, – нежно сказала Мила, ей тоже не хотелось ждать.
Но в этот раз Андрей на полтора дня забыл про день рождения. Беззаботно он провалялся день с книгой. Только к следующему вечеру, когда следовало уже торопиться к Миле, накатило волнение, даже не волнение, а подползла тревога, что девочка, конечно, светлая и одновременно тяготеющая к пороку, что лестно, но ведь сейчас придется весь вечер добирать солидности, и опять безуспешно. По одежке встречают, по уму провожают, но как ни наряжайся, все равно с порога будут смотреть с неприязнью и удивлением, как на голого.
Андрей все‑таки решил приодеться. Натянул узкие даже в его узких чреслах вельветовые черные джинсы‑клеш. На штанину не наступи, бродяга… Влез в большой черный свитер с длинным воротом, aqualung my friend[1]. Сладкий запах полушерсти облекает лицо. Вот сейчас стяну ворот с лица, и что‑то в мире изменится. И действительно, что‑то изменилось, словно отражение из зеркала омыло мир своей нетронутой чистотой, в зеркале все предметы нетронутые, попробуй тронь – гладь. А предметный мир, со своей стороны, вторгся толпой в собственное отражение, навел там образцовый беспорядок, и напотевшее окно смеркается, и я словно ростом выше стал, это головокружение, на пороге вечера у меня всегда головокружение, от предвосхищения, на пороге вечера у меня всегда предвосхищение. Кванты последнего света лопаются за окном, как весенние почки, тени лип плачут дыханием ветра на стекло, зимний липовый сок из черного ствола, вы ели зимой на школьном дворе липовые почки? Я отсюда, почти из шкафа, подхватываю дыханием этот плач, я плакса, всякое дыхание да славит Господа, я славлю плачем. Дыхание превращается в зернистое пятно на втором стекле, сквозь эту ровную по краям испарину, как через особую линзу, виден истинный цвет вечера: синий кобальт. А достоин ли я кобальтового вечера, достоин ли своего дыхания? И я мнусь в затрапезном свитере на пороге зеркала в рост, куда мешаю войти себе единственно сам, палец не пускает палец, взгляд – взгляд. Свитер точно у парня странный! Смеюсь над этим, в зеркале. Но я люблю странности, они успокаивают мне нервы. Черный – это хорошо, всегда за Гамлета сойдешь, хотя ворот и резинки манжет серые. Чувствую, на днях это выйдет из моды, а может, уже вышло, они там, на Западе, точно знают, что модно, а что немодно, а нам приходится угадывать. И лицо девичье на спине серым провязано. Дело в том, что если надеть девичьим смятенным ликом наперед, то, пардон, это никак не мужской свитер. Я ношу лицо на спине, развевающиеся волосы сходятся спереди декором, про лицо на спине можно и не думать. В конце концов, это провиденциально! Так или иначе, ничего сколько‑нибудь праздничного больше нет.
Хотел надеть дедов коричневый костюм, но и в уже надетые брюки заглядывал, как в пустой мешок, а из рукавов кренившегося на плечах пиджака торчали длинные, как нервы, запястья. «Может, действительно прийти разок голым, и все будет хорошо…» – подумал с надеждой.
Вдарил мороз. Зачем купил розы рядом со своим домом, а не там, у нее, в Строгино? Там роз возле метро, можно подумать, нет, так взметнули цены, что розы теперь везде. Наверное, он захотел привезти розы из своих палестин, а не покупать тамошние. Надеялся по дороге сговориться, стакнуться с ними, чтобы они были с ним заодно. Но с розами не так просто стакнуться; пока он их вез, пока рыскал по дворам (ведь бумажку с адресом и телефоном он забыл дома и теперь панически восстанавливал адрес по памяти), пока он, чужедворец, метался по глухим завьюженным дворам, лепестки роз по краям траурно обуглил мороз. Мороз тоже рыскал по Москве, хватал и лапал всех без разбору, и ведь не дашь ему пощечину, он сам раздает пощечины, облапает, как… а потом, глядь, еще пощечину влепит – и торопишься дальше счастливый, как последняя… ни дать ни взять!..
Хоть Андрей и шарахался от неведомых подъездов, хоть и перебегал из двора во двор и обратно, стеная и жалостно причитая, но с квартирой не ошибся, первой же, в которую он позвонил, оказалась Милина. И ведь адрес был напрочь забыт, но неизвестно откуда взявшаяся родниковая кобальтовая нежность к Миле поставила его аккурат перед нужной дверью.
Мила обрадовалась ему смешанной радостью. С одной стороны, она будто чувствовала, что он почти случайно нашел ее, словно настиг, как любящий прекрасный зверь, а с другой стороны, она со всей отчетливостью поняла, что в квартиру встрял совершенно чуждый ее гостям товарищ, закрадывалась даже вздорная мысль, что он вообще чужд каким бы то ни было гостям. Во всяком случае, он был по‑прежнему очень интересен ей, хотя сегодня не блистал, блестели только его будто заплаканные ногти, а сам он был матовым, и розы его обуглились. Мила улыбнулась болезненно.
Я люблю тебя… Нет, это не она. Странно, возле метро была она, а сейчас овца какая‑то, мордень не засеешь за день и улыбка плакатная – даешь пятилетку за три года!.. А как можно дать пятилетку, да еще за три года? Вы задумывались когда‑нибудь, сударыня? Гран мерси. А где же родники мои серебряные, прозрачная талая кровь по внутренней стенке аорты, любовь ко всем людям вообще и к этой девушке в частности? Где все это? Раздевайся. Ага, догола? Да нет, зачем. А что, я могу… Идиот! Лучший человек на свете, поганой метлой и еще бы по морде бы хряпнуть, вот тогда праздник пойдет… У них там праздник, а я в сугробе с разбитой мордой – вот предел мечтаний, да нет, кишка тонка… Положение, надо сказать, безвыходное… Вот тебе цветы… Спасибо! Огромное человеческое спасибо!.. Меланхолия… Моя сожительница. Melancholia, чужестранка. Упала мне на голову из Падуи или Пизы, под стать родимой башне. Откуда же она все‑таки? Оттуда. Она у меня всех боится и тянет за рукав обратно: пошли, пошли домой!.. Да что дома, Маланья, вялая моя девочка, что дома? Дома зеркало…
Андрей скованно прошел в комнату, сразу оценил расстановку сил и сразу понял, что проиграл. Что, руки поднять? Неправильно поймут. Хорошая вообще отговорка: неправильно поймут. Вы не смотрите, что я мудак, просто вы меня неправильно поняли. В углу девичьи ноги… Нет, столько девичьих ног сразу я не могу постичь, одни, ну две пары худо‑бедно постичь могу, но это!.. Самое ужасное, что я ни с чем не могу это сравнить, разве что одни ноги с другими. Это выход. Так, все в черном облегающем эластике; вот короткие и тонкие (свирепая жалость), вот короткие и толстые (веселый голод), длинные и тонкие (музыка) и даже одни длинные и толстые (отдохновение). На всех девочках тяжелые черные кооперативные мини‑юбки, это еще не мода, это пока идеология – даешь пятилетку за три года, а у нас в Строгино есть девчонка одна, хороший ты парень, Наташка, только виновница торжества в нелепом шерстяном годе, прибивающем к паркету, старомодная белая блузка с рукавами‑фонариками. Шея короткая, фонарики горбят, овечья завивка совсем не идет, хоть убей, бледное лицо расплывается, как молоко на столе. Но отличается от других. Старомодна – значит, смелее смотрит в будущее, не в придуманное кинематографом, а в реальное, пронизанное холодными лучами, похоже, нам все‑таки по пути.
В сутолоке девичьих ног выделялись одни, безукоризненные (боль, печаль, тоска по вечности), тоже черный эластик, тоже мини с лотка, но – безукоризненные, хотя страшна девка, ничего не скажешь, а рядом почти безукоризненные, почти… Вот она, искусительница, добрался методом исключения, наконец‑то взыграло ретивое. Она глянула надменно, как на захлебывающегося, рвущегося с цепи кобеля, глянула и отвела синий взгляд. Почему я на цепи, я ведь не на цепи, хоть в дому моем шаром кати, почему я внутренне захлебываюсь? Я должен подойти, подойти и взять, подойти и сделать то, что я хочу. Больше мне ничего не нужно, все остальное – ложь, и это празднество – ложь, если я не подойду и не возьму. Но как? Как ты себе это представляешь? Я не знаю, как я себе это представляю, если я этого не сделаю, я раб. И я не делаю этого, и я раб. И я затравлен, но иду к другим мальчикам, хотя уже не мальчик. Мальчики неохотно теснятся на диване, я плюхаюсь между ними, я раб этих ног. И она празднует победу, празднует победу надо мной, не думая обо мне, бутоны ее щек чуть распускаются ярко‑розовой сомкнутой улыбкой, и я не смотрю туда, но наблюдаю боковым зрением. Какой‑то туман обволакивает их ноги, как вязовую рощу, это словесный туман, они что‑то говорят, что‑то смеются. А мальчики меня ненавидят, они скопом влюблены в Милу, а Мила влюблена в меня, наверное. Но Мила для меня человек, и с ней мне пусть чуточку, но скучновато, как со всяким человеком, а эта с почти безукоризненными… да… бутон раскрывается… эта – животное, богиня, тотем… Ее как‑то зовут, Тамара, Наташа… Какая разница? С этого и начинается ложь. Я бегу за ней по лесу, сквозь сплошной кустарник на зарю, чтобы взять. Но я не бегу, я раб, я царь, я червь, я Бог, я сижу меж мальчиков. Раб среди рабов, нищий среди нищих, но – не по себе, словно я двурушник, выставляющий из‑за спины собрата вторую руку для второго подаяния, одного подаяния мне мало, мне всегда было мало одного подаяния, и я оставался ни с чем. Да, мы нищие, в пыли, поту, расчесах, рытвинах, коросте, себорее, перхоти, прыщах, кариесе, забитых порах, убогом мальчишеском тряпье скорбно грудимся на диване и ждем подаяния; один, понаглее, что‑то отпускал зазывно подобострастно‑игривое в затуманенный щебечущий угол, полный видений и тайн, заповедных уголков и живописных гротов. А у нас, нищих, кто‑то перехватывает гитару и что‑то опять же в тот угол поет. Я встаю, мне надоело, я ухожу на кухню, мальчики смотрят мне в спину с негодованием, словно так вот вставать нельзя, как в плену, где пленным нельзя вставать с земли. На кухне – мои ровесники. О, здорово… О да… Анаша… Сейчас бы косяк… Почему нет настоящих хиппи? Я сам хиппи! Э, нет, я хиппи…
Они, эти другие на кухне, тех девочек типа уже поняли, они их раскусили и простили и теперь могут с ними или секс, или просто дружить, и девочки как‑то выгибаются перед ними, как‑то так изгибаются, словно те – все художники, а девочки – натурщицы, а те – лохматые, и прыщи, это проклятие юности, у них давно сошли, и ведут себя независимо, как художники, а девочки – изгибаются, только глухие мини‑юбки не пускают изогнуться до конца, всласть, поднимают дивные подбородки и улыбаются, и бутон лопнул, и белые лепестки зубов открылись. Но не для меня. Почему? Я ведь тоже ровесник, то есть тоже старше, тоже лохматый, и прыщей у меня нет, но почему я не чувствую себя художником, как они, почему я несу околесицу про анашу? Что, мне сказать им всем нечего? Да, мне нечего им сказать! Мне совершенно им нечего сказать! А если я сейчас напьюсь, то стану чудовищем. Хо‑хо! Еще сейчас стаканчик опрокину – и стану чудовищем.
Андрей опрокинул стаканчик и сразу решил, что ему есть что сказать, то есть стал чудовищем и захорохорился.
– Вот смотрел‑смотрел я на ваши ноги, – обратился он к девочкам, ответившим ему одним общим недоуменным убийственным взглядом, причем смотрели они вовсе не на него, на него еще смотреть, много чести, а друг на друга, типа вот идиот!.. – и вспомнился мне старый‑старый анекдот, анекдот, что называется, с бородой. Открылся, значит, эдакий бордель для женщин, в несколько этажей. Заходит посетительница. Перед ней дверь, а на двери табличка: «Здесь короткие и тонкие», рядом же стрелка вверх. Женщина, разумеется, поднимается на второй этаж… На втором этаже опять табличка: «Здесь короткие и толстые», а рядом опять стрелка наверх. Женщина взволнованно поднимается выше. На третьем этаже табличка: «Здесь длинные и тонкие», и опять стрелка! Напрочь заинтригованная женщина восходит еще выше, на последний, четвертый этаж. Тут табличка: «К вашим услугам длинные и толстые». Но рядом опять есть стрелка! А дальше‑то крыша. Женщина, подобрав подол, выбирается на крышу под звездное небо. И тут под звездным небом на крыше водружена последняя табличка, даже не табличка, а знамя полощется, а на знамени надпись: «Чего ж тебе, лярва, еще надо?..»
Анекдот никого не развлек, никто не засмеялся, даже не улыбнулся; нет, один из ровесников улыбнулся, даже засмеялся, но не то чтобы над анекдотом, а над самим Андреем. Если своим появлением Андрей отчасти стеснил гостей, то теперь они поняли, что перед ними полное ничтожество, успокоились и стали беззаботно вершить свой праздник, танцевать. Анекдот понравился одной Миле, точнее, не понравился, она не смеялась, а как‑то заинтересовал ее. Она долго и сосредоточенно смотрела на Андрея. Андрей, даром что пьяный, засуетился под ее взглядом и позвал через стол:
– Мила, сядь ко мне на колени.
Мила будто не услышала, к тому же одновременно ее пригласили танцевать, она осклабилась и пошла. Андрей посмотрел долгим взглядом на ноги, безукоризненные, как звездное небо над борделем, но нет – страшна девка, страшна, как ядерная война, и обратил опять свой испытующий взор на ноги почти безукоризненные, той, искусительницы с расцветающей буйным цветом улыбкой. Вроде давеча в пыли валялся, в рубище и струпьях, а сейчас уже и думать о ней забыл, но – почти забыл, почти.
Девушка отнекивалась, Андрей настоял на танце. Девушка была прекрасна, но Андрей не знал, что с ней делать. Он знал, что делать с Милой, но Мила танцевала со своим партнером так отрешенно, так безоглядно, а Андрей, наоборот, все время оглядывался. «Ты чего оглядываешься?» – спросила его девушка. «Да, ты права, – согласился Андрей, – мне как‑то ближе Орфей, нежели Лот, и это подводит меня…» После этой фразы девушка мгновенно утратила к Андрею последний интерес. И хоть он теперь не оглядывался, а наоборот, назойливо искал ее кобальтового взгляда, синеющего, как витраж, уже она оглядывалась, скучающе озиралась.
Андрей протрезвел с тоски и стал собираться. Он выбежал на мороз. Мила с собакой – за ним.
– Я тебя провожу, – сказала она, – заодно с собакой погуляю.
– Наоборот. Заодно проводишь.
– Какая разница?
– Да, действительно никакой. Я слишком щепетилен. А все оттого, что не надо было мне приходить.
– Почему? Я так рада, что ты пришел.
– Чему ты рада? Какую радость я тебе принес? Только праздник тебе подпортил.
– Да нет, не скромничай, ты не подпортил, а испортил.
Андрей опустился на заснеженную лавочку.
– Ну, не переживай… – Мила вдруг исполнила его давешнюю просьбу, села ему на колени, взяла его голову ладонями в вязаных перчатках и стала нежно и осторожно целовать его в щеки и лоб. – Бедный мой, бедный! – бормотала она.
Андрей не обнял ее, он так же крепко и неподвижно сидел в снегу. Он чувствовал, что Мила вовсе не отдается ему, а что она немножко захмелела и целует его от умиления. Но при этом он уже знал, что она теперь в его власти, если только он не шелохнется сейчас и не спугнет ее расцветшего на морозе умиления. Мила вскочила с его колен. Она глядела на Андрея самозабвенно и машинально придерживала дергающую за поводок собаку.
– Я пойду, Мила, – вкрадчиво сказал Андрей.
Мила вскинула подбородок.
– Иди…
Он пошел, а она все стояла. Когда Андрей миновал детскую площадку и оглянулся, Мила с бодрым прискоком вошла в подъезд. Что бы значил этот прискок?
Через неделю Мила приехала к Андрею. Сидели весь вечер, никак не могли допить бутылку противной «Имбирной». Мила восторженно выкидывала в сторону Андрея руки, распространялась о каком‑то настоящем индейце, встреченном ею в метро. Откуда в зимней Москве натуральный дальнозоркий индеец? Как он сюда попал? Он пришел за мной! Он так на меня смотрел голубыми бликами черных глаз, как на свою единственную скво! Я и есть его единственная скво! Представляешь, настоящий, все мои ухажеры из Строгино такие смешные, хорошие, но смешные, а он не смешной… Да, да! Кожаные слаксы со шнуровкой, косуха такая классная, родная, с бахромой… Родная – это из резервации? Да, наверное… Мечтательно. Сапоги‑казаки узорчатые, на запястьях такие улетные фенечки, настоящие, обрядовые! Он молодой, но он такой уже мужик. – Она сжала кулаки и округлила глаза. – Орлиные ноздри, скулы, взгляд, крыло длинной челки, кажется, с ним полетишь над каньонами в мелово‑синие небеса!..
Начитанная девочка, залитературенное сравнение. Начитанная, но в меру, вершки, но не корешки, корешками здесь не пахнет. А надо, чтобы пахло корешками. Над каньонами, впрочем – это клип «Пинк Флойд» «Learning to fly»… Я больше люблю диск семьдесят седьмого года «Animals», там, где собаки воют. Летать – не летать, это уже попса, это уже с жиру, а там, где собаки завывают, это да, это я люблю. Да и не начитанная вовсе, начитанные – они пришибленные, она от тех лохматых с кухни понахваталась, рок‑н‑ролльные небеса, восприимчивая девчурка, хотя, конечно, ни в зуб ногой, индеец какой‑то. Я, наверное, не посмотрел какой‑нибудь американский фильм, вот и не въезжаю теперь. Хочется выть, как собаки на диске семьдесят седьмого года. И он так на меня смотрел, с такой… любовью, наши гаврики так посмотреть на женщину не способны, хоть по уши влюбятся – все тянется рука в затылке почесать, эхма… А тут какой‑то клекот слышится в смуглой груди, у меня тоже клекот. Ага… В малокровной груди… Мы улетим с ним вместе, он оборотень, он орел, только добрый! Да, добрый оборотень, это бывает. Мы с ним обязательно еще встретимся, точно знаю!
Тогда действительно была уверенность, что в Москве можно еще раз случайно встретиться, и встречались.
Родину, Мила, любить надо. Она на то и Родина, чтобы ее любить. Ну что ты как по телевизору. Телевизор, Мила, тут ни при чем, телевизор тут никаким боком… Не знаю… Легкомысленно. Чертовщина! Что‑то в ее словах такое помимо rock‑n‑roll sky, неизбывных восторгов Строгино и тривиального кокетства, какая‑то тревога; что‑то от семьдесят седьмого года, ей тогда было года два, а мне пять; от мелово‑красного кирпича недействующих, задержавших дыхание церквей; наверное, ей холодно, наверное, у нее холодные руки, и пальчики на ногах в этих смешных махровых носках озябли. И меня это слегка цепляет, подзуживает, потому что это в моем вкусе, и я плыву, как линь, мягко скольжу против течения. Я всегда забегаю вперед, смотрю, что будет в конце, заступаю, как прыгун в длину, а теперь почему‑то не забегаю, не заступаю, потому что жизнь, темный донный городской вечер струится мне навстречу, а я скольжу и не боюсь остаться один. Пусть она уходит, эта малокровная красотка со своим индейским мелово‑голубым бредом, пусть продолжает бредить у себя в Строгино на первом этаже или пойдет к подруге, надо же обсудить. Еще не место и уже не время, нет, уже не место и еще не время, мысли заплетаются, имбирная? Хотя я трезв, как оконное стекло. Уходи – я глазом не поведу, пальцем не шевельну.
Мила вещала об индейце, сидя на спинке кресла с ногами на подлокотниках. «Да, это был настоящий индеец!..» – простодушно воскликнула она в заключение, от избытка эмоций вертанулась всем телом и сверзилась с кресла, бухнулась задницей об пол. Ликованию Андрея не было предела, он хохотал как умалишенный. Мила растерянно сидела на полу, ей было больно, но она, морщась от боли, тоже хохотала и смотрела Андрею в глаза. А что? Кара за индейца. Ха‑ха‑ха!
– Ты проводишь меня? – спросила Мила, когда «Имбирная» наконец иссякла и пили на посошок чай.
– Я не провожаю девушек.
– Почему? – заинтересовалась Мила. – Не всякая девушка простит, если ее не проводить.
– Поэтому и не провожаю, мне не нужна такая девушка, которая не простит. Девушка должна уходить самостоятельно и приходить без посторонней помощи, в ней должно быть героическое начало, а иначе она мне не нужна, потому что я не буду ею восхищаться, а любовь без восхищения – это катастрофа.
– Да, ты прав, не надо меня провожать.
– До метро, впрочем, я с тобой дойду.
– Зачем?
– Потому что хочу.
Не судьба. Размышлял Андрей по дороге от метро сквозь донный илистый вечер, в памяти вертелась вымученная и жалкая улыбка Милы через турникеты, напоследок. Жизнь индейка, судьба копейка. А знаешь, все еще будет. И ей мне тоже нечего сказать, что за пошлые декларации, что я из себя строю, Родину надо любить, героическое начало… Молился своими словами ночью в садике плохо спал общий горшок. И тут надо своими словами… Но silentium[2]. Лучше уж по латыни. В этом несказанная прелесть древних языков, что их не знаешь.
* * *
На Новый год Андрея неожиданно пригласили по телефону в Строгино. А он и думать забыл, точнее, забыл думать, запамятовал, все происходило само собой. Жизнь на 87,63 процента додумана, а на 12,1 процента происходит сама собой, 36 сотых остается еще на что‑то, то ли на «само собой», то ли на «додумать, непонятно». Великий закон или околесина, но процентное отношение может меняться на строго противоположное. Хотя это если – из области суровой математики в область добрейшей метафизики. Причем пригласила не она, а та, с почти безукоризненными ногами, искусительница. На самом деле, конечно, она. На кой он сдался искусительнице? Приехал со своими друзьями, с гитарами, с неверной прозрачной бородой, состоящей частью из пуха, частью из курчавых черных волосков. С одной стороны лица борода смыкалась на впалой щеке, с другой не смыкалась, и с обеих сторон не доходила пальца три до мальчишеских плавных усов. Но эта недоделанная борода Андрея не портила, а, наоборот, выдавала самое лучшее и прекрасное в его душе; приехали c полной сумкой веселого вина «Букет Молдавии»… «Букет Молдавии» брали с рук. Стоял народ в две шеренги вдоль пешеходного тротуара возле Черемушкинского рынка, продавал народ народу с рук сигареты и спиртное. Подошли к мужику с пурпурным лицом и в потной кроличьей шапке, приценились. «А там точно вино?.. – указал на мощную бутылку Андрей; тогда десертные вина часто разливали в бутылки из‑под шампанского, – а то ведь как‑то ночью мы купили так в подворотне с рук тут неподалеку у мужика с усами десертного вина. Он задрипанный дипломат открыл, а там, мать честная, и водка, и коньяк, и чего там только нет, полный ассортимент. Мы так обрадовались, взяли у него десертное: „Спасибо, – говорим, – спасибо, добрый человек!..“ А мужик сверкнул улыбкой из‑под черных, как ночь, усов и сказал наставительно: „Что ж, мы, люди, должны друг другу помогать!..“ Размашисто отсалютовал нам и устремился обратно в подворотню, не иначе помогать остальному человечеству… Да… Пришли мы домой, а в бутылке – чаек спитой». В ответ пурпурный вцепился зубами в пластмассовую пробку своей бутылки, сорвал ее зверски и с пробкой в зубах протянул бутылку. «Пробуй!» – рявкнул он сквозь пробку. Андрей отпил и понял, что мужик так же честен, как его вино, и что и лицо у него такое пурпурное, потому что в честных жилах его течет кровь крепленая и душистая, как «Букет Молдавии». Взяли у честного мужика весь его товар. Он стоял, словно глядел вслед, а на самом деле преисполненный восторгом перед днем, как солдат перед главнокомандующим, а день затягивал его, и мужик уходил на дно дня.
Приехали в Строгино часов в одиннадцать, хотели полдесятого, но битый час прождали автобуса на остановке – Новый год, никто не хотел работать, в том числе и автобусы, – промерзли как собаки, но тем таинственней и драгоценней стало вино в сумке. Приехали, как аргонавты, дружество равных, боль утраты дня, радость утраты года, гора с плеч, хотя что, собственно, но сегодня не об этом. Добрая традиция: начинать праздник в сугубо мужском кругу. Девочки там, за дверью. Введите! Вошла единственно хозяйка – на правах хозяйки.
Правильно, правильно я сразу угадал, что она и есть искусительница: расцветающая улыбка, но цветочки кончились, начались ягодки, точнее яблоки, ее круглые щеки лоснятся, как яркие спелые яблоки, и влажноватые от тесного кухонного угара тяжелые темные волосы, обрубленные в каре, свербят ноздри сахарным воском. Арговитянам после первой чаши вина, загустевшего на морозе, как овечья кровь, возжелалось вкусить от этих яблок, но антропофагия претит им, они, воля ваша, после первой не закусывают. Пардон (какое обхождение!), хотя бы занюхать вашей благоуханной щекой, хозяюшка! Всё под рукой, под могучей дланью, загрубевшей от весла: девы славного Строгино, семидесятилетнее вино, в том смысле, что это бесхитростное честное вино черемушкинского мужика вобрало в себя последние семьдесят лет отечественной истории, пьешь его – и пьешь историю, потребляешь ее вчистую. С Новым годом, с новым счастьем! Да, у всех каре. Что ж, местные обычаи надо чтить. Каре, мини‑юбка, культ пресекновения. Но постойте, одна светлая дева без каре, видно, это жрица, не познавшая мужа. Как сладострастен ее танец, она призывает своего жениха, туроголового бога. Давай, давай, туроголовый! Ай‑на‑нэ! Белоснежные джинсы в обтяг, расшитые сочно‑красочными цветами. О, Людмила, прекраснейшая из дочерей Строгино и всего Тушино! Давай, давай, туроголовый, выходи в круг! В омут с головой, в омут московского вечера, баламут. Твой ход, Колодин.
Темно в комнате. Передайте мне цимбалу или что там у вас. Среброструнная Кремона с изображением Четверых под струнами. Мой друг, художник и поэт, повесил свой сюртук на спинку стула, я сам из тех, кто спрятался за дверь, моя душа беззвучно слезы льет, я сам из тех, кто спрятался за дверь, в моей душе осадок зла и счастья старого зола, я сам из тех, кто спрятался за дверь, кто мог идти, но дальше не идет, я сам из тех, кто спрятался за дверь, о чем поет ночная птица, я сам из тех, кто спрятался за дверь, забытую песню несет ветерок, я сам из тех, кто спрятался за дверь, кто мог идти, но дальше не идет, ведь кто‑нибудь услышит, кто виноват и в чем секрет, ведь кто‑нибудь услышит, в зеркале мира я сам из тех, кто спрятался за дверь, ведь кто‑нибудь услышит, день напрасно прожит, о лютой ненависти и святой любви, день напрасно прожит, я понял вдруг простую вещь: мне будет трудно.
Из аборигенов – одни девочки, да еще самые красивые, да еще развязные, да еще восхитительные и свежие, как черт знает что! Воля ваша… В прошлый раз они, видимо, стыдились своих недомерков‑одноклассников.
Андрей пел под гитару в темноте, и его голос был больше комнатной темноты, его друзья расхватали девочек, стали танцевать, флиртовать немилосердно. Девушки теперь отнюдь не кучковались обособленно, а совершенно растворились в мужском внимании и общем восторге. Это наступило новогоднее чудо, но не то мерцающее, детское, а новое, взрослое. И, как всегда при чуде, казалось, что вся жизнь теперь будет такой. Андрей спел, что хотел, выпил еще полстакана веселого «Букета Молдавии» и сел на диван; в комнате было темно и тесно от девочек и друзей, все это причудливо двигалось и менялось, шепталось и пересмеивалось, и Андрей наблюдал за движением темноты. Лишь белые джинсы на пухлых ножках Милы вырывались из нее. Мила села на колени к Андрею, как в седло, лицом к нему, хлестнула его по лицу волосами, потом стиснула себе сквозь блузку небольшие груди и воскликнула:
– Ты настоящий индеец!
А закончилось все целомудренно. И казалось, что так оно вышло из‑за любви Андрея и Милы, так величественно и загадочно наступавшей на глазах у всех, что никто не посмел опошлить этот вечер, все были чисты и целовались и обнимались, как дети. И даже бутонная красавица хозяйка покорно положила голову одному из колодинских приятелей на колени, а тот смотрел на нее раздумчиво.
Мест для ночлега не нашлось. Под утро Андрей с друзьями шли не то чтобы домой, до дома было слишком далеко, – а сквозь зиму.
Через неделю Мила приехала к Андрею вся в черном, белоснежными были ее лицо и руки – по контрасту с черными джинсами и водолазкой. Андрей целовал ее белые руки и лицо, целовал в беспамятстве колени в черных джинсах. Мила плакала от счастья. Она сама была счастьем, Андрей уже не делал разницы между ею и счастьем.
V
«Огни Москвы»
…На Рождество радостно мерцали огоньки церковной искусственной елки, утвержденной в высоком сугробе. Прихожане погружали ногу в снег и вставляли в пробоины свечки, подворье светилось тут и там праздничными пещерками, Андрею, и не только ему, вспоминалось детское январское счастье. Звонарь опять слишком буквально отнесся к празднику: пришел в сером костюме, серебристом галстуке в диагональную полоску и нежно‑голубой рубашке, всегда забранные в хвост длинные червленые волосы по великим праздникам он распускал на плечи. Рождество Андрей считал любимым своим праздником. После ночной литургии, как водится, кутнули. Исторглись из трапезной втроем: бригадир сторожей, бывший военный физик Скворцов Сергей Николаевич, Саныч и Андрей. Сергей Николаевич с Санычем, как всегда, пикировались, или, по выражению самого Сергея Николаевича, – бодались.
– Вы, Всеволод Александрович, водите к себе на колокольню девочек покрасивей.
– Это вы, Сергей Николаевич, у нас наипервейший ловелас, проходу женскому полу не даете.
– Я охальник, а не ловелас, охальник! Этот женский пол у меня вона где! – Сергей Николаевич подпер выбритый подбородок тылом ладони. – Вот, например, недавний случай. А вы слушайте, Всеволод Саныч, и запоминайте, вы тоже, с вашим постоянным желанием со всеми подряд целоваться: и со старухами, и с молодицами, и с бабами, и с мужиками – вполне можете оказаться в сходной ситуации. Мотайте эту историю на ваш сивый нестриженый ус и еще на одно место намотайте, о, не пугайтесь, я имею в виду ваш дворянский шнобель.
Саныч нехотя посмеивался.
– Я, конечно, страшный ветреник и кутила, – ответил он, – но не такой мотальщик историй, как вы думаете.
– Есть у меня хорошая старая знакомая, – продолжал Сергей Николаевич, – бывшая коллега по научной работе, теперь на пенсии. Пригласила она меня тут в гости. Она недалеко от меня живет. Я что, пошел. Думаю по дороге: сейчас чайку попьем с ванильными сухариками, ванильные сухарики припас. И точно, попили мы чайку, пососали, беззубые, сухарики, покалякали о прошлом. Я домой стал собираться, а что, темнело уже. До свидания, говорю, до новых встреч, я б, говорю, тебе, милая, и пирожных бы с кремом принес, да финансы поют романсы и делают глубокие реверансы. После получки, говорю, будем живы, загляну, не ровен час, и с пирожными. Она тут что‑то разволновалась вдруг, затрепетала, губы прыгают, пальцы себе дергает. Я отсалютовал ей, наше, говорю, вам с кисточкой, и – в прихожую. Она как привидение выплывает за мной…
– Да, я знаю, вы спец по привидениям, видели их сто раз… – поддел его Саныч.
– Видел, – не подделся Сергей Николаевич, – я вообще такое в жизни видел, что другой бы на моем месте десять раз сошел с ума, а я в Бога всегда верил, поэтому кое‑как в своем уме остался. Привидения, кстати, еще цветочки, по сравнению, скажем, с мутантами… Я участвовал в разработке и испытаниях прибора для обнаружения привидений. Опустили мы этот приборчик в океан, когда подводная лодка наша затонула, и видели около подводной лодки привидений.
– И как они выглядели? – спросил Андрей.
– А… – поморщился Сергей Николаевич, – белые такие силуэты. И мысли мы видели.
– А мысли разве материальны?
– Конечно, материальны!
– Да? Ну и что было дальше с вашим этим знакомым привидением, с которым вы чаек с ванильными сухарями пили?
– Да какое там привидение! Когда я в прихожей в валенки стал залезать, она как прыгнет на меня, как в физиономию накрашенными когтями вцепится, как зашипит, ну чисто кошка. Еле ноги унес. И ведь слова худого ей не сказал! Просто не лег с ней. А она меня за это только что не убила. Старая ведь перечница, а туда же.
– Да!.. – соглашаясь, выдохнул Саныч. – Он такой, дамский пол. У меня крестница есть в Миргороде. Крестников у меня множество, а крестница одна. Но зато какая! Красавица, да и полно!.. Наталья!.. Шея царственная, коса – вот как мое запястье. У меня, недобитка, правда, тонкая кость, но зато брюхо мировое, – Саныч похлопал себя по животу. – Она и художница одаренная. А муж ее, Юрка, горбун. Язва, насмешник. И вот его красавцем никак язык не повернется назвать. Однако дамский пол от Юры всегда просто лишался рассудка! У женщин он пребывал в таком фаворе, в такой чести, другое дело, что слово «честь» здесь вроде как не к месту. Но женился, остепенился, заинтересовался политикой. Стал задаваться проклятыми вопросами и сам же на них отвечать. Он, хохол девяносто шестой пробы, ругает теперь соотечественников. Даже не ругает, ругал бы – еще полбеды, а хвалит, заноза, утверждает, например, что хохлы хороши в охране. Впрочем, ежели народ самокритичен, значит, это великий народ. Вы что думаете, да, я закоренелый, упэртый украинский националист. Незалежна Украина. И, кстати сказать, наш родовой герб является одновременно и гербом Миргорода. Я ведь не просто Голощекин, я Пестунов‑Голощекин. Ага! Ну вот. За Натальей Юрка свое донжуанство вроде как оставил. А я Наталье в свой последний приезд в Миргород говорю: «Тебе бы, говорю, хорошо бы причаститься», – строгости на себя напустил, знаете, какой Всеволод Саныч бывает лютый? о! зверь! Значит, брови я так грозно сдвинул на нее: «Приобщиться Святых Христовых Тайн тебе, говорю, Наталья, хорошо бы». Она, бедняжка, растерялася: «Да?.. а что для этого надо?» «Попоститься говорю надо три дня. Не вкушать скоромного, ну и в супружеской жизни воздерживаться». Она свои прекрасные глазки на меня распахнула: «Три дня! В супружеской жизни? Воздерживаться? Нет, что вы, этого я не могу…»
– Видел, видел я привидений, и не только привидений, чего я только не видел, – мимо слов Саныча продолжал Сергей Николаевич.
– А инопланетян? – задал наводящий вопрос Саныч.
– Ну что – инопланетян, что? – потерял надежду Сергей Николаевич.
– А то, что все эти ваши любимые инопланетяне, – затоптался скорый на расправу Саныч, – с привиденьями, снежные люди с русалками в Британском музее из параллельных миров, все это бесы.
– Бесы, да?
– Угу.
– Из параллельных миров?
– Ну да.
– Вы вот, Всеволод Саныч, говорите, чего не знаете. Ну, это мы все языком молотим, чего не знаем, знали бы, молчали, как я…
– Да, вы известный молчальник, – отколупил сахарными устами Саныч и сделал персидские глаза.
– Всеволод Саныч, головешку вам в бороду, вам знакомы такие словесные обороты, как «мне кажется» или «я думаю»?
– Ну, если кажется, то надо креститься… – взялся объяснять Саныч, – а так – можно впасть в самомнение, да… Вот в Житиях как раз есть устойчивые словесные обороты. Например, авва окормлял духовных чад не своим разумением, а токмо учением святых отец. А по‑вашему получается, что идешь против и житийного канона, и вообще…
– А вы, Всеволод Саныч, Черномор вы эдакий и колокольный охмуряло, можете что‑нибудь смиренно не понимать, а не токмо не принимать?
– Да я вообще ничего не понимаю! – ответил Саныч от всего сердца.
– То есть вы как Сократ. Знаете, что вы ничего не знаете.
– Нет, я гораздо хуже, чем Сократ: я не знаю, что я ничего не знаю.
Сергей Николаевич выхватил из кармана зажигалку, которой он поджигал прочитанные поминальные записки после литургии в ржавой бочке возле забора, и сделал движение, будто собирается подпалить звонарскую бороду. Саныч отпрянул, тогда Сергей Николаевич моментально опустил зажигалку значительно ниже, будто хочет подпалить в другом месте, и чиркнул колесиком. Всеволод Саныч хлопнул его ладонью по руке, а Сергей Николаевич ничтоже сумняшеся провел удар кулаком Санычу в подбородок. У Саныча глаза округлились и как‑то выгнулись, как у ярого бойцовского петуха, и нос навострился, как клюв. Он тоже попытался ударить Сергея Николаевича, но тот увернулся и схватил Саныча за руку, Саныч взаимно схватил его за рукав. Малый срок они постояли так неподвижно и, точно по команде свыше, разошлись.
…На Крещенье – промерзшие ноги в кирзовых сапогах, а сбегал в сторожку – и вот уже теплые валенки нежат закоченевшие пальцы. Тут как тут со своим трезвенным трепетом Всеволод Саныч. Андрей давался диву: как звонарю удается всегда оставаться вместе и болтливым, и трепливым, и словоохотливым, и немноговелеприватнозанятноаккуратнокраснобесстрастнопристрастноречивым? И оловянным, и деревянным, и стеклянным? То бишь быть и исключением из правил, и самым правильным и безукоризненным, самым исполнительным, предупредительным, наставительным, притчевым, закадычным и церемонным? Самым егозой, самым гомозой, но и самым аскетом и клевретом? Самым эстетом? Самым стоиком, перипатетиком, но и отчасти пивным алкоголиком, романтиком до мозга костей, романтиком по своей сермяжной сути, романтиком до седьмого колена, седьмого пота, седьмого неба, хотя и завзятым отличником? Но при этом совсем не опричником? Художником, но при этом и супружним острожником? Балагуром? Самодуром, но не помпадуром, патриотом, но совсем не мордоворотом? И чинным, и первопричинным, но и беспричинным, беспочвенным и почвенным, случайным, необычайным, отчаянным, нечаянным, но и чаянным, предрекаемым и самым предсказуемым, бабским полом истязуемым? Предрасположенным, основоположенным, хорошо уложенным на диван? Постным и скоромным, распахнутым и укромным, таинственным и единственным?.. Объяснял Андрей это лишь тем, что звонарь – святой.
Как‑то открылся звонарю, звонарь потом долго резвился по этому поводу: «Ай, Андрей Викторович! Вы были сногсшибательны! Говорили мне перед каждой рюмкой: „Ну что, давай выпьем? Святой!“»
Одно печалило Андрея в отношении Саныча, что Саныч пьет вечерами пиво. Казалось бы, не беда, Саныч никогда, если не считать какого‑то баснословного, малодостоверного раза в юности, когда он выпил несколько бутылок шампанского, не напивался допьяна, но ведь наутро после чинного пивного возлияния Саныч приходит на подворье потухший и на здоровье жалуется, говорит, что, дескать, провалялся литургию на диване, головы от подушки не мог оторвать. А иногда еще и фиглярствовал, говорил Колодину: «Вы знаете, какой я благочестивый? Какой я постник, подвижник и аскет?.. Я целую неделю пива не пил, целую неделю! Гордость моя, брюхо мое, даже стало опадать!» И понятно, большего ущерба брюху Саныч уже не терпел. Андрей думал было пристыдить Саныча, сделать ему внушение по поводу пивных вечеров, ведь Саныч исправно каждый вечер брал в укромном ларьке рядом со своей пятиэтажкой два литра «Оболони» или, на худой конец, «Ярпива» и утешался у себя на кухне, а потом еще похвалялся, кичился этим, что возмущало Андрея: как это такой святой человек, как Саныч, подтачивает свое здоровье умеренными, но систематическими пивными возлияниями?
– Знаете, Всеволод Саныч, почему вы настолько словоохотливы? – придумал исправительную шутку Колодин.
– Да, интересно, почему? – насторожился Саныч.
– Потому что вы каждый вечер пиво пьете.
– Да? И какая связь?
– Такая, что пиво, как известно, насыщено женскими гормонами. А какая часть человечества отличается неуемной болтливостью? Конечно, прекрасная. – Андрей улыбнулся во всю ширь своего узкого лица.
Саныч только хмыкнул и больше ничего. Несколько раз он, правда, потом в самооправдание цитировал Колодина, жаловался людям, что в нем пивные женские гормоны играют, поэтому он расскажет сейчас еще одну враку.
Шутка не помогла. Но Андрей не сдавался.
– Вам, Всеволод Саныч, надо попросить благословение у отца Геннадия, чтоб он наложил на вас епитимью не пить пиво, – сказал он ему раз сурово.
Всеволод Саныч сделал плаксивое лицо и сразу побежал к отцу Геннадию, как раз в этот момент запиравшему дверь своей кельи.
Отец Геннадий был наиболее уважаемым Санычем священником на подворье. В юности отец Геннадий панковал, потом проходил послушание в скиту у одного знаменитого канонизированного ныне старца, который подарил отцу Геннадию свой потертый кожаный ремень.
– Что тебе, Саныч! – грозно, громово спросил отец Геннадий через плечо, повел лютыми бирюзовыми глазами.
Он был в мышиного цвета подряснике, кургузой вязаной длинной кофте, из‑под расстегнутой кофты виднелся дареный ремень, из‑под рясы – солдатские яловые сапоги. Седые длинные волосы отец Геннадий зачесывал назад, бородку носил эспаньолку, открытое лицо его тлело морозным румянцем.
– А вот Андрей, – стал плаксиво и звучно жаловаться Саныч, – говорит, чтоб я у вас, батюшка, взял благословение пиво не пить.
Отец Геннадий пренебрежительно глянул в сторону оторопевшего сторожа, веско, как ногайку, поднял кисть руки и сказал:
– Я тебя, Саныч, благословляю пить пиво. И чем больше, тем лучше.
Саныч просиял, а Андрей остался посрамленным.
В Чистый понедельник на подворье, как водится, шалили колдуны: разбросали копейки, насорили угольками, рассыпали соль, на паперти брызнули черной краской. Андрей ходил с совком и веником и собирал угольки и монетки, звонарь потом выбирал из мусора мелочь, говоря: «Тут же на монетках изображение Георгия Победоносца!» «Ну и что…» – недоумевал Андрей. «Как что, как что?! Ведь это он, он!» – тюкал глянцевитым ногтем указательного пальца по орловой стороне монеты звонарь.
Великая суббота выдалась промозглая, ранняя ведь Пасха. Звонарь рассуждал: «Ведь в уставе сказано: в Страстную субботу разрешается мера вина, а какова эта мера? Ведь у каждого своя мера».
Колодин сидел на выходе от Плащаницы: всех выпускал, никого не впускал. Бабулька в цветастом гарусном платке, сцепленном под подбородком большой английской булавкой, возникла рядом и говорила неизвестно кому: «Летошной весной батюшка настоятель с матушкой возили меня в монастырь. Сколь крестов, сколь ходов! Столько народу к иконам прикладываться стояло, несметное количество! Как в сказку попала, даже не помню ничего… Но этот храм самый наисильнейший! Исключительно! Батюшка настоятель на великие праздники, на Пасху, на Девятое мая всех проследит. А голос у настоятеля исключительный! Сильнейший храм, записки о упокоении, о здравии. У нас село по обе стороны Оки, два храма, везде была, а этот самый наисильнейший!» А Колодин раздумывал только, входит она или выходит: если выходит, значит, святая юродивая старушка, если входит – то извольте, бабушка, в очередь!
Конец ознакомительного фрагмента – скачать книгу легально
[1] «Акваланг – мой друг…» – из песни шотландской группы «Джетро Талл» (здесь и далее прим. автора).
[2] Молчание (лат.).
Библиотека электронных книг "Семь Книг" - admin@7books.ru