
Тропик Козерога | Генри Миллер
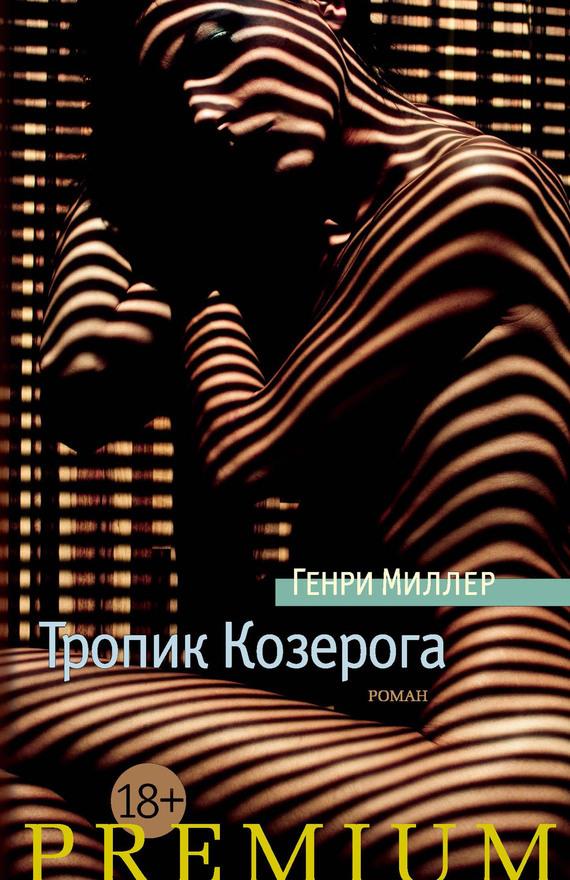
Генри Миллер
Тропик Козерога
Азбука Premium
Ей
Человеческие чувства часто сильнее возбуждаются или смягчаются примерами, чем словами. Поэтому после утешения в личной беседе я решил написать тебе, отсутствующему, утешительное послание с изложением пережитых мною бедствий, чтобы, сравнивая с моими, ты признал свои собственные невзгоды или ничтожными, или незначительными и легче переносил их.
Петр Абеляр. Предисловие к Historia Calamitatum
(«Истории моих бедствий»)
В трамвае‑яичнике
* * *
В конечном итоге место Генри Миллера будет среди исполинских литературных аномалий наподобие Уитмена или Блейка, оставивших нам не просто произведения искусства, но уникальный корпус идей, влияющий на весь культурный ландшафт. Современная американская литература начинается и заканчивается Генри Миллером.
Лоренс Даррелл
Книги Генри Миллера – одно из немногих правдивых свидетельств времени.
Джордж Оруэлл
Подруга Миллера Анаис Нин называла Генри «китаец». В этом прозвище, возможно, заключается суть Миллера, ведь Анаис знала его, как никто другой. В данном случае «китаец» выражает отстраненную, восточного характера философичность Миллера. Он не страстный Жан Жене, не желчный Селин. Его книги – книги не борьбы с миром, но книги гармонического примирения.
Эдуард Лимонов. «Священные монстры»
Для Миллера европейская культура порочна именно потому, что она считает человека венцом природы, мерой всех вещей и ставит его над миром, изымая людской разум из животной стихии. Миллер рассуждает о возвращении человека в эту стихию, которое равнозначно освобождению личности.
Андрей Аствацатуров
Все темы послевоенных контркультурных авторов Миллер отработал еще до войны. Читая его книги сегодня, невольно завидуешь людям, которые жили в те времена, когда все то, о чем он пишет, было еще свежо и писатель мог, не стесняясь, построить книгу как череду рассказов о своих мистических переживаниях и рассуждений о том, куда катится мир.
Сергей Кузнецов
Миллер заболел самой отважной, самой опасной, самой безнадежной мыслью XX века – мечтой о новом единстве. В крестовый поход революции Миллер вступил с такими же фантастическими надеждами, как и его русские современники. Революция, понимаемая как эволюционный взрыв, одушевляющий космос, воскрешающий мертвых, наделяющий разумом все сущее – от звезд до минералов. В ряду яростных и изобретательных безумцев – Платонова, Циолковского, Заболоцкого – Миллер занял бы законное место, ибо он построил свой вариант революционного мифа.
Александр Генис
«Я пою экватор», или Аутогония[1] Миллера
Париж, это «артистическое чрево», где «жирели культурные эмбрионы со всего света», продолжал оказывать благотворное влияние на гений Миллера. Завершен «Тропик Рака», «похудевший» в ходе окончательной шлифовки на две трети; написано несколько эссе, начата «Черная весна»… В июле 1932 года появились первые страницы «Тропика Козерога», но вплотную Миллер засел за него только полтора года спустя и тогда же решил посвятить эту книгу «Ей» – «Джун Смит‑Смерч‑Мэнсфилд‑Миллер‑П. де‑Муде‑Б. ди», как он окрестил свою вторую, теперь уже бывшую, жену в пьяном, истерическом письме другу детства, художнику Эмилю Шнеллоку, которым отреагировал на известие о том, что Джун видели в одном из кафе Гринвич‑Виллиджа с каким‑то молодым человеком. Произошло это через несколько месяцев после ее окончательного отъезда из Парижа. Их отношения всегда представляли собой череду «яростных ссор» и «столь же яростных примирений», и, хотя разрыв состоялся, в сущности, по инициативе Миллера, это известие оживило рану, нанесенную ему Джун, обиды, ложь, измены, унижения – все, что он претерпел за годы их совместной жизни. Он не мог смириться с мыслью, что Джун могла его возненавидеть. «Передай ей, что я все еще ее люблю, но видеть не желаю», – пишет он в том же письме. И тут же, в постскриптуме, просит сказать ей, чтобы она катилась в тартарары, – только в более крепких выражениях, – не забывая, однако, поинтересоваться, как она одета и каким цветом подводит глаза – зеленым или синим. «Джун меня искалечила», – жаловался он в очередном письме Шнеллоку, признаваясь, что ради нее был готов на все: «предательство, поджог, грабеж, убийство – что угодно, только бы ее удержать».[2] Имя Джун не сходило с его уст: она была постоянным предметом разговоров с Анаис Нин – их общим «духовником», а также невольным катализатором их разрыва. «Каждый из них, – пишет она, – нашел во мне свой собственный желанный образ, свое недостающее, неущемленное „я“. Генри видит во мне сильного мужчину, каким бы он мог быть; Джун – высшее совершенство. И каждый цепляется за это свое отражение во мне, чтобы жить и чтобы черпать в нем силы. Отсутствие внутреннего стержня Джун компенсирует, разрушая других. Генри до знакомства со мной самоутверждался, третируя Джун. Он ее шаржировал, а она подавляла его своей опекой. Они поедали друг друга, терзали, разрушали. И теперь, когда им удалось друг друга уничтожить, оба льют слезы».[3]
Миллер был убежден, что страдания укрепляют дух, и в этом смысле Джун своим существованием подогревала в Генри писательский пыл, на всю жизнь обеспечив его литературным материалом. В один прекрасный день у него назрела идея отомстить Джун своими книгами. Вернувшись к «Козерогу» в июле 1934 года, он пишет одному из друзей парижского периода Дику Осборну, что намерен создать «этакую прустианскую эпопею» и тем самым отплатить Джун за годы своего прозябания в Америке. «„Тропик Козерога“, – обещал он, – на несколько грядущих веков станет могилой Джун. (…) Она у меня еще попляшет, эта…!»[4] Посвящая в те же планы Эмиля Шнеллока, Миллер говорил, что ему необходимо «выписаться», чтобы «вытряхнуть из себя все ее вранье», что он собирается изобразить ее «патологической лгуньей», а себя – «созидательным лгуном», провозглашая себя при этом «самым искренним лгуном в мире».[5]
С появлением «Сексуса», «Плексуса» и «Нексуса» «могила» Джун разрослась чуть ли не до пирамиды – «позором крою ли, прославлю?»…
В тот роковой приезд в Париж «эта…», обнаружив, в каком неприглядном свете выставил ее Генри в рукописях, с негодованием признавалась Анаис: «Я любила Генри и доверяла ему, пока он не предал меня. Он не только предавал меня с другими женщинами – он извратил мою индивидуальность, он выставил меня жестокой, но это совсем не я. Мне так не хватает верности, любви, понимания. Я возвела этот барьер лжи только в целях самосохранения. Мне необходимо защитить от Генри свое истинное „я“. (…) У Генри не слишком богатое воображение. Он фальшивит. И не так уж он прост. Он сам меня усложнил – обезжизнил меня, убил. Получился какой‑то надуманный литературный персонаж. Он ввел его, чтобы было из‑за кого мучиться, было кого ненавидеть. Ведь он может писать, только когда растравляет себя ненавистью. Как писателя я его не принимаю. Что‑то человеческое в нем, конечно, есть, но он лгун, лицемер, фигляр, актеришка. Он сам ищет драм и создает чудовищ. Ему не нужна простота – он интеллектуал. Ищет простоты, а потом сам же ее извращает, начинает изобретать чудовищ, боль… Все это фальшь, фальшь, фальшь!»[6]
Анаис была ошеломлена. «Я увидела еще одну правду, – пишет она в дневнике. – Я увидела гигантский запутанный клубок. Я была озадачена, но в то же время многое странным образом прояснилось. Я разрываюсь не между Генри и Джун, а между двумя правдами. Я верю Генри как человеку, хотя полностью отдаю себе отчет в том, что он литературный монстр. Я верю Джун, хотя полностью отдаю себе отчет в ее разрушительной силе. (…) Помню, как я была поражена, прочитав в записях Генри, что Джун, когда она не покладая рук работала, чтобы прокормить его и Джин (ее ближайшую подругу допарижского периода. – Л. Ж.), однажды в приступе усталости и возмущения воскликнула: „Вы оба уверяете, что любите меня, но ничего для меня не делаете!“»[7]
Последним напоминанием о Джун стал для него клочок туалетной бумаги с начертанными на нем каракулями: «Будь любезен, поспеши с разводом» – и популярная тогда песенка «Вальпараисо» с припевом «Прощай, Мексика!» – Джун пожелала развода по‑мексикански. Слушая ее, Генри плакал.[8]
Дальнейшая судьба Джун достойна сожаления. Более десяти лет о ней не было ни слуху ни духу. Осенью 1947 года Миллер получил от нее первое письмо, из которого узнал о ее бедственном положении: одиночество, проблемы со здоровьем, отсутствие средств к существованию, благотворительные гостиницы, больницы, полный разлад с собой и предельная опустошенность. Сознавая свою ответственность за Джун, он по мере возможностей помогал ей материально, посылая время от времени небольшие – от 25 до 30 долларов – суммы денег, организовывал медицинскую помощь, уход, но отношений не возобновлял. Встретились они лишь однажды – в Нью‑Йорке в 1961 году. Держалась она мужественно, но Генри был шокирован, обнаружив ее в том плачевном состоянии, в котором она оказалась накануне своего шестидесятилетия: она так и не оправилась от последствий шоковой терапии, примененной к ней в одной из лечебниц. Переселившись в 1977 году к брату в Аризону, Джун окончательно исчезла из жизни Миллера.
С метафизической точки зрения, его книги действительно стали «могилой» Джун: по мере того как он писал свою грандиозную эпопею, Джун чахла – и личностно, и телесно, подобно физиологическому раствору из капельницы перетекая на их страницы. Ближайший друг Миллера и его личный биограф, а кстати, и свидетель и сторонник их разрыва Альфред Перле, отмечая удивительную способность Генри «исцелять» людей, «вдыхать жизнь» во всех, с кем он приходил в соприкосновение, констатировал, что с Джун ему это не удалось.
Может, Генри потому и не удалось вдохнуть жизнь в Джун, что она вдохнула в него свою…
Посвященный Джун, «Тропик Козерога» не стал, однако, ее портретом. И хотя многое было надиктовано ею, но только в том смысле, что «боль стала творчеством»: «Я помню все, но помню, как болван, сидящий на коленях чревовещателя. Будто я на протяжении долгого, непрерывного брачного солнцестояния восседал у нее на коленях (даже когда она стояла) и проговаривал заданный ею текст. (…) …рассудок превращался в вертящееся шило, упрямо продирающееся в черное ничто».[9]
Определяя характер работы Миллера над «Козерогом», Анаис писала: «Генри алхимизирует свое прошлое».[10] Но это была не столько «алхимизация прошлого», сколько алхимизация своего «я», продолжавшаяся в течение шести лет и прошедшая все три стадии, выделенные Христианом Розенкрейцем: «микрокосмическое солеобразование», т. е. «преодоление ведущих к разложению сил путем спиритуализации»; «растворение», т. е. питание всех форм любви, и «сгорание», т. е. очищение.[11] И не случайно Анаис чуть позднее записывает в дневнике: «Меж тем книга Генри, которую он пишет спермой и кровью, разбухает до бесконечности, а сам он день ото дня становится все более тонким, более хрупким».[12] Творя свой миф и осознавая высшую духовную природу собственного «я», Миллер намекает на инкарнацию в себе той самой индивидуальности, что шесть столетий назад была воплощена в Христиане Розенкрейце, а еще раньше – инкарнирована во время Мистерии Голгофы: «…я целых шесть столетий пребывал там (в «ничто». – Л. Ж.) недвижный, бездыханный, пока происходившие в мире события просеивались сквозь сито и оседали на дно, образуя скользкое илистое ложе. Я видел, как в огромной дыре в потолке Вселенной кружатся созвездия, видел отдаленные планеты и ту черную звезду, что должна принести мне спасение. Я видел Дракона, сбрасывающего с себя ярмо кармы и дхармы, видел новую расу людей, заваривающуюся в желтке будущности. Я разгадал все до последнего знака и символа, но не смог распознать ее лица».[13] Лица той, что станет одной из «голгоф» его как Генри Миллера, его «великим распятием», и через страдание принесет спасение.
Не склонный до такой степени внедряться в «метафизические дебри» Перле видит в «процессе материализации Джун» «сладостную муку», которую Генри «не променял бы ни на какие горы китайского риса». «Страдание и экстаз, – пишет он, – идут рука об руку. Генри испытывал жестокие схватки роженицы, но разрешение от бремени неминуемо. Чтобы дать жизнь Джун, он должен был вырвать ее из собственной плоти, должен был искалечить себя, лишь бы она могла жить – хотя бы на бумаге. Он не брезговал никакими мазохическими изысками и временами напоминал этакого духовного гинеколога, делающего себе кесарево сечение без применения анестезирующих средств».[14]
Последняя точка в «Тропике» была поставлена в сентябре 1938 года, и к этому времени посвящение «Ей» утратило свою конкретность: деперсонализированное «Она» разрослось в «Гигантскую Утробу» – «Великую Пустоту», «Чрево Матери Мира» – «Ком (да‑куай)» даосов, – вмещающую в себя и вскармливающую все сущее, все порождающую и все поглощающую. Гимном ей заканчивает Миллер свою классификацию обитающих в «Стране Ебли» микрокосмических ее проявлений: «И наконец, есть пизда, которая объемлет все, и мы назовем ее сверхпиздой, коль скоро она совсем не из этой страны, – она из тех светозарных краев, где нас давным‑давно ждут. Там вечно искрится роса и колышется стройный тростник. Там‑то и обитает великий прародитель блуда папаша Апис – зачарованный бык, прободавший себе путь на небеса и развенчавший кастрированных божков „правильного“ и „неправильного“»…[15]
«Человек стремится к уюту и надежности материнской утробы, – пишет Миллер в эссе „Время убийц“, – жаждет той тьмы и покоя, которые для неродившегося то же, что для истинно рожденного – сияние дня при вступлении в мир. Общество же состоит из закрытых дверей, из запретов, умолчаний, законов и всяческих табу. Это неотъемлемые составляющие общественной жизни, их просто так не устранить; наоборот, необходимо их учитывать и использовать их, если мы хотим создать когда‑нибудь подлинно человеческое общество. Вечно длится этот танец на краю кратера. Однажды я написал эссе „Гигантская утроба“. В этом эссе я представил мир в виде утробы, в виде места творения. То была отважная и добросовестная попытка приятия мира, предвестник более искреннего приятия, приятия, которое последовало вскоре, которому я отдался всем своим существом».[16]
«Сверхпизда» в «Тропике Козерога» – это и есть «место творения», изначальный животворящий Хаос, эфирный Макрокосм, тот мир безличного, куда совершало – «via penis» – свои путешествия «в трамвае‑яичнике» сознание (или эфирное тело) Миллера из мира личного, микрокосмического, хаоса разрушительного, мира той утробы, в которой, по словам Анаис Нин, «мужчина пребывает, только чтобы набраться сил: он питается этим синтезом, а затем поднимается и выходит в мир, в работу, в бой, искусство. Он не одинок. Он занят делом. Память о плавании в амниотической жидкости дает ему энергию, завершенность. Женщина тоже может быть занята делом, но она ощущает внутреннюю пустоту. (…) Когда мужчина пребывает в ее чреве, она осуществляется, и каждый акт любви – это вбирание мужчины в себя, акт рождения и возрождения, деторождения и мужерождения. Мужчина входит в ее чрево и каждый раз возрождается заново с желанием действовать, БЫТЬ».[17]
Неудивительно, что Миллера озадачивало, что многие читатели не понимали его, принимая его книги за «библию сексуальной революции».
Генри не погрешил против истины, заявив на первых страницах «Козерога», что он «был философом уже с пеленок». Если смотреть эзотерически, нельзя отрицать, что человек ранга Генри Миллера изначально был вместилищем всей суммы мудрости древнейших и новейшей эпох. К нему можно отнести его же слова о Рембо и Ван Гоге: «…они поглотили и усвоили культурное наследие нескольких тысячелетий».[18] Гераклит и Пифагор, Гесиод и Орфей, Платон и Сократ, Рабле и Аристофан, Ницше и Шпенглер, Гердер и Фрейд, Бергсон и Спенсер, Штейнер и Джемс, Абеляр и Августин, Достоевский и Гамсун, Иоанн Богослов и Конфуций, Лао‑Цзы и Чжуан‑Цзы, Лотреамон и дадаисты, философы буддизма и индуизма – все понемногу «наследили» в «Тропике Козерога» (равно как и во всех текстах Миллера), разбросав по его страницам воспринятые и усвоенные ими «знаки и символы» высшего знания. «Что же до Востока, – писал он, – то мысль о нем никогда меня не покидала… И не только о Китае и Индии, но и о Яве, Бали, Бирме, Королевстве Непал, о Тибете… я всегда был уверен, что меня там примут с распростертыми объятиями».[19]
Определяя «жанр» своих книг (разумеется, в антинаучном и антилитературоведческом смысле), Миллер называет «Тропик Рака» «большим красивым чемоданом из добротной кожи, который может по необходимости растягиваться или съеживаться, куда бросаешь вещи как попало, не думая, накрахмаленные они или мятые, грязные – негрязные».[20] В «Черной весне» он пишет: «Книга для меня – человек, а моя книга – человек, каков я сам: человек запутавшийся, нерадивый, человек беспечный, похотливый, шумный, щепетильный, лгущий, дьявольски правдивый – какой есть. (…) Я считаю себя не книгой, записью, документом, но историей нашего времени – историей всего времени».[21]
«Тропик Козерога» можно назвать и «чемоданом» – только это, наверное, более тяжелый «чемодан», чем «Тропик Рака», – и «клиническим автопортретом», историей болезни, которая, по словам Анаис, в этой книге вылезла наружу; это и история «пробуждения» Миллера – как осознания себя включенным во Всеединство; это и история его самопресуществления в мире явлений; это и поток сознания – с той лишь оговоркой, что исходит он из универсума Миллера, а его универсум – это хаос как бесконечное множество порядков. Но все это частности – с первых фраз и до последней страницы «Тропик Козерога» являет собой единственную в своем роде аутогонию со всеми атрибутами космогонических построений древних, аутогонию, в которой соединяются созерцательный духовный мир Востока и активно‑ментальный западный. Аутогонию в стиле бурлеск. И «Аутогония» Миллера в той же мере обладает самостоятельной историко‑литературной, генеративной ценностью, что и «Теогония» Гесиода или, скажем, космогония Анаксагора… «Во всем есть часть всего».
«В книгах ты действительно творишь самого себя. В „Тропике Рака“ ты был только желудок и секс. Во второй книге, „Черной весне“, у тебя появляются глаза, сердце, уши, руки. С каждой следующей книгой ты постепенно создашь полноценного мужчину, а уж тогда сможешь написать и о женщине, но не раньше» – таким представлялся этот процесс Анаис.[22]
Завершая работу над «Козерогом» и планируя начать новую книгу – «Дракон и эклиптика», замысел которой остался неосуществленным, – Миллер писал автору оккультной книги «Дракон Откровения» Фредерику Картеру: «Все мои названия символичны и имеют микро‑макрокосмическое значение».[23] «Тропик Рака» он первоначально предполагал назвать в духе Уитмена – «Я пою Экватор», но географические и астрологические аллюзии окончательного варианта выражали его ощущение, что мир болен; к тому же символом Рака является краб, способный двигаться во всех направлениях, а это определяющая способность в универсуме Миллера.[24] Географически тропик Рака – северная граница экваториальной зоны; южная ее граница – тропик Козерога. Астрологически Козерог тоже противоположен Раку. Под знаком Козерога родился и сам Миллер, по времени суток всего на несколько часов позднее, чем за 1891 год до него – Участник Мистерии Голгофы. Символичность этого факта дала ему пищу для многих замечательных пассажей, и не только в «Козероге».
Работая над «Тропиком Рака», Генри признавался Анаис Нин, что хочет написать такую вулканическую книгу, после которой мир уже не сможет оставаться прежним. В «Черной весне» он объявил своей целью «оставить шрам на лике вселенной». О «Тропике Козерога» он говорил, что это самая непристойная из его книг и тем не менее она – лучшее из всего, что он сделал на момент ее завершения: «Меня бы, наверное, за нее повесили, если бы могли».[25] Скандальная слава Миллера – факт общеизвестный. И тут напрашивается одна аналогия. В начале двадцатых годов прошлого столетия при издании в Германии «Мемуаров» Казановы у издателя – а это был не кто иной, как известный издатель и книгопродавец Брокгауз – возникли сомнения относительно некоторых скабрезностей, и тогда профессор Юлиус Шютц обратился к нему со следующим письмом: «Я не могу согласиться с Вашим проектом изъять слишком вольные места из „Мемуаров“ Казановы даже при издании оригинала. По‑моему, следует решительно реагировать против ханжеской импотенции нашего времени. Нам нужен Аристофан, чтобы вылечить нашу эпоху, и он должен положить конец раздражающей болтовне нашей религиозно‑мистической морали!»[26]
Точно так же и Миллер был против какого бы то ни было хирургического вмешательства в его тексты. Он предпочитал быть неизданным, чем изданным в смягченном, приглаженном виде. И к нему вполне применимы следующие слова Цвейга о Казанове: «Он повествует не как литератор, полководец или поэт, во славу свою, а как бродяга о своих ударах ножом, как меланхоличная стареющая кокотка о своих любовных часах, – бесстыдно и беззаботно. (…) Неудивительно, что его книга стала одной из самых обнаженных и самых естественных в мировой истории; она отличается почти статистической объективностью в области эротики, истинно античной откровенностью в области аморального… Несмотря на грубую чувственность, на лукиановскую наглость, на слишком явные для нежных душ фаллические мускулы, (…) это бесстыдное щегольство в тысячу раз лучше, чем трусливое плутовство в области эротики. Если вы сравните другие эротические произведения его эпохи, (…) наряжающие Эроса в нищенское пастушеское одеяние, (…) с этими прямыми, точными описаниями, изобилующими здоровой и пышной радостью наслаждения честного чувственника, вы вполне оцените их человечность и их стихийную естественность».[27]
Лариса Житкова
Тропик Козерога
Однажды ты испустил дух – все идет раз и навсегда заведенным порядком, даже в самой гуще хаоса. Изначально это и был только хаос – это был поток, который обволакивал меня и который я вбирал в себя сквозь жабры. В нижних слоях, там, где луна лила свой мерный мутный свет, он был однороден и животворящ; в верхних – бушевали раздор и распри. Во всем я с ходу различал противоречие, противоположность и между мнимым и реальным – иронию, парадокс. Я был своим собственным злейшим врагом. Ни разу в жизни я не захотел сделать то, чего с тем же успехом мог и не делать. Даже ребенком, когда я ни в чем не нуждался, я хотел умереть: я хотел капитулировать, потому что не видел никакого смысла в борьбе. Я чувствовал, что ничего нельзя ни доказать, ни обосновать, ни прибавить, ни убавить, продолжая влачить существование, на которое я не напрашивался. Кругом было сплошь одно убожество, а не убожество – так маразматики. Особенно преуспевающие. Преуспевающие нагоняли на меня такую тоску, что хоть волком вой. Я был сострадателен до безобразия, но делало меня таким отнюдь не сострадание. Это было чисто отрицательное качество, слабость, расцветавшая при одном только виде человеческого горя. Я никогда никому не помогал в расчете на воздаяние – я помогал, потому что не мог иначе. Мне представлялось нелепым желать изменить положение дел: я был убежден, что ничего нельзя изменить иначе, как изменив сердце, но в чьей власти изменять сердца человеков? Время от времени кто‑нибудь из моих однокашников ударялся в религию – от этого мне и вовсе блевать хотелось. Сам я не более нуждался в Боге, чем Он во мне, и пусть только один такой явится, часто твердил я себе, – я встречу Его без церемоний: подойду и плюну Ему в лицо.
Самое досадное, что с первого взгляда меня обычно принимали за человека доброго, отзывчивого, щедрого, надежного, верного. Может, я и обладал означенными добродетелями, но если и так, то лишь в силу полнейшего ко всему безразличия: я мог позволить себе быть порядочным, великодушным, верным и т. п., потому как начисто лишен был чувства зависти. Зависть – единственный порок, жертвой которого я не был. Я в жизни никому и ничему не позавидовал. Наоборот, я только и делал, что всех жалел – всех и вся.
Должно быть, я с самого начала приучил себя ничего не хотеть слишком сильно. С самого начала я был независим – в ложном смысле слова. Я ни в ком не нуждался, потому что желал быть свободным, свободным поступать и давать исключительно по велению собственных прихотей. Стоило мне почувствовать, что от меня чего‑то ждут или домогаются, и я тут же становился на дыбы. Такова была линия поведения, которой требовала моя независимость. Иными словами, я был развращен, развращен изначально. Как будто с молоком матери я впитал некий яд, и, хотя меня рано отняли от груди, яд этот и по сей день циркулирует в моем организме. Даже когда она перестала меня кормить, я вроде бы никак не отреагировал; обычно младенцы бунтуют или, по крайней мере, покочевряжатся для порядка, ну а я хоть бы хны, – я был философом уже с пеленок. Я был против жизни – из принципа. Какого принципа? Принципа никчемности. Все вокруг меня боролись. Сам же я ни разу и пальцем не пошевелил. А если когда и прилагал усилия, то разве что для видимости – чтобы кому‑то там угодить, но, по сути, мне это было раз плюнуть. Если же кто попытается убедить меня, что иначе и быть не могло, я все равно буду все отрицать, потому как родился я с одной упрямой жилкой внутри, и никуда от этого не денешься. Позже, когда подрос, я слышал, что было чертовски хлопотно извлекать меня из утробы. И неудивительно. Чего дергаться? Зачем вылезать из теплого, уютного местечка, укромного пристанища, где все достается тебе даром? Самое первое мое воспоминание – о стуже, о льдинах и снеге в сточной канаве, о промозглой сырости зеленых кухонных стен. Что заставляет людей жить в чужеродных климатических условиях, в умеренных, как их по ошибке называют, широтах? Да то, что люди по природе своей идиоты, по природе своей лодыри, по природе своей трусы. Пока мне не минуло, наверное, лет десять, я и знать не знал, что где‑то есть «теплые» страны, края, где не надо ни потеть, зарабатывая на жизнь, ни дрожать до посинения, упорно делая вид, что холод тонизирует и бодрит. Где холод, там и люди такие, что готовы вкалывать до последнего издыхания; когда же они производят потомство, они и детенышам вдалбливают евангелие работы, которое, в сущности, есть не что иное, как доктрина инерции. Вся моя родня происхождения сугубо нордического, читай: идиоты. Каждая ложная идея, которая когда‑либо получала распространение, исходила от них. Взять хотя бы доктрину чистоты, а уж о праведности и говорить нечего. Они были болезненно чистоплотны. Но духовно они смердели. Хоть бы раз удосужились они приоткрыть дверь, которая ведет к душе; хоть бы раз отважились сломя голову ринуться в неизвестность. После обеда тарелки тщательно мылись и ставились в буфет; прочитанная газета аккуратно складывалась и убиралась на полку; белье после стирки утюжилось, утрамбовывалось и распихивалось по ящикам. Все было рассчитано на завтра, но завтра все не наступало. Настоящее служило лишь мостом, и на этом мосту они и по сей день стенают, как стенает весь мир, и ни один идиот не додумается взорвать этот мост.
В своем ожесточении я часто ищу оснований осуждать их, а лучше бы – самого себя. Потому как я и сам недалеко от них ушел. Довольно долго я пребывал в заблуждении, что оторвался от своих сородичей, но время показало, что я не лучше, а в чем‑то еще и хуже их, раз при моей способности видеть гораздо дальше, чем это было доступно им, я все же оказался не в состоянии изменить свою жизнь. Когда я оглядываюсь назад, мне кажется, я ничего не делал по собственному волеизъявлению – вечно на меня кто‑нибудь давил. Многие считали меня человеком авантюрным – трудно вообразить что‑либо более далекое от истины. Мои авантюры всегда были случайными, всегда навязывались мне, всегда скорее принимались, чем предпринимались. Я плоть от плоти того гордого хвастливого нордического племени, которое ничего не смыслило в авантюрах и все же рыскало по земле, переворачивая ее вверх дном, всюду сея гибель и разорение. Мятежные духи, но только не авантюрные. Агонизирующие духи, неспособные жить настоящим. Презренные трусы – все как один, и я в их числе. Ибо существует лишь одна грандиозная авантюра – путешествие к сокровенным глубинам своего «я», и для нее ни время, ни пространство, ни даже подвиги не имеют значения.
Раз в несколько лет я оказывался на пороге этого открытия, но в присущей мне манере всегда умудрялся в последний момент пойти на попятный. Пытаясь подыскать подходящее оправдание, я никак не могу отделаться от мысли о той обстановке, что меня окружала, об улицах, которые я знал, и о людях, обитавших на этих улицах. Трудно представить, чтобы хоть одна из американских улиц или кто‑то из живущих на такой улице людей могли вывести человека на путь познания своего «я». Мне приходилось бродить по улицам многих стран мира, но нигде я не чувствовал себя таким униженным и задавленным, как в Америке. Такое впечатление, что все улицы Америки соединены между собой, образуя один гигантский отстойник, отстойник духа, куда засасывается и откуда высасывается все, вплоть до нетленного говна. Над этим отстойником, размахивая магическим жезлом, витает дух работы, и по мановению этого жезла то тут, то там возникают дворцы и фабрики, военно‑промышленные комплексы и химические комбинаты, сталепрокатные станы и санатории, тюрьмы и приюты для душевнобольных. Весь континент – это сплошной кошмар, порождающий грандиознейшую нищету в грандиознейших масштабах. Я был уникум, единственный реальный субъект среди этой грандиозной арлекинады счастья и изобилия (статистического счастья, статистического изобилия), правда я не встречал еще человека, который был бы заведомо счастлив, заведомо богат. Про себя‑то я знал, что ни счастлив, ни богат, ни себе не гож, ни людям не пригож. В чем и состояло мое единственное утешение, моя единственная радость. Но вряд ли этого было достаточно. Было бы лучше – и сердцу и уму, – если бы я открыто выразил свой бунт, если бы пошел ради этого на плаху, если бы сгнил и сгинул в тюрьме. Было бы лучше, если бы я, подобно безумному Чолгошу, пристрелил какого‑нибудь славного, доброго президента Мак‑Кинли или загубил другую, такую же кроткую, неприметную душу, в жизни не обидевшую даже мухи. А все потому, что в глубине моей души сидел убийца: я жаждал увидеть Америку поверженной во прах, до основания стертой с лица земли. Я хотел увидеть, как это произойдет, исключительно из мести, во искупление преступлений, что совершались против меня и мне подобных, так и не осмелившихся возвысить свой голос, выплеснуть свою ненависть, свой бунт, свою законную жажду крови.
Я был порочным порождением порочной почвы. Не будь душа нетленна, мое «я», о котором я тут распинаюсь, давным‑давно приказало бы долго жить. Возможно, иные сочтут это досужими домыслами, но все, что происходило в моем воображении, происходило и на самом деле. По крайней мере, со мной. История может отрицать это, поскольку я не сыграл никакой роли в жизни моего народа, но – пусть мои суждения ложны, вздорны, пристрастны, предосудительны, пусть даже я лжец и отравитель – тем не менее это правда, и придется ее проглотить.
Да, так о том, что произошло…
* * *
Все, что происходит, если оно исполнено глубокого смысла, несет в себе противоречие. До встречи с той, ради кого это пишется, я всерьез полагал, что разгадка всех вещей кроется где‑то вовне – в жизни, как говорится. Я вообразил, когда на нее наткнулся, что хватаюсь за жизнь, за нечто такое, во что мог бы впиться зубами. Вместо этого я окончательно оторвался от жизни. Я искал, к чему бы приткнуться, – и не находил. Но, хотя в этом стремлении, в этой попытке нащупать, схватить, зацепиться я и остался ни с чем, кое‑что я все‑таки нашел. Я нашел то, чего не искал, – самого себя. Я понял, что всю свою жизнь я мечтал не жить – если жизнью считается то, что делают другие, – а выразить себя. Я осознал, что у меня не было ни малейшего интереса к жизни, меня интересовало лишь то, чем я занят сейчас, – то, что параллельно жизни, что ей присуще и в то же время лежит вне ее пределов. Меня вовсе не интересует, что есть истина; что есть реальность – и подавно; единственное, что меня интересует, – это то, что происходит в моем воображении, то, что я ежедневно заглушал в себе, чтобы жить. Умру я сегодня или завтра, не имеет для меня никакого значения – никогда не имело, но то, что даже сегодня, после стольких лет усилий, я не в состоянии высказать, что я думаю и чувствую, – вот что не дает мне покоя, вот что отравляет мне душу. С самого детства, сколько себя помню, иду я по следу этого призрака, ничему не радуясь, ни о чем не мечтая, кроме этой вот силы, этого дара. Все остальное ложь – все, что я когда‑либо делал или говорил, исходя из иных предпосылок. А это чуть ли не большая часть моей жизни.
* * *
Я представлял собой, как говорится, сущее противоречие. Меня считали то серьезным и надменным, то веселым и беспечным, то искренним и честным, то халатным и бесшабашным. Я был всеми сразу, а кроме того, кое‑кем еще, о чем никто даже не подозревал, и меньше всего я сам. Мальчиком лет шести‑семи я любил, забравшись на портновский верстак деда, читать ему, пока он шил. Я живо помню его в те мгновения, когда, разутюживая шов пальто, он застывал, прижимая раскаленный утюг обеими руками и мечтательно глядя в окно. Выражение его лица, когда он стоял так и грезил, я помню гораздо лучше, чем содержание книг, которые мы читали, чем разговоры, которые мы вели, чем игры, в которые мы играли на улице. Мне всегда было интересно, о чем он мечтал, что именно выманивало его из недр самого себя. Тогда я еще не знал, что можно грезить наяву. Я всегда был прозрачен, целостен, сиюминутен. Меня зачаровывала его способность грезить. Я понимал, что он терял всякую связь с тем, чем был занят, всякую мысль о каждом из нас, словно оставался наедине с собой и наедине с собой обретал свободу. Мне никогда не доводилось бывать наедине с собой и меньше всего – когда я оставался один. Всегда будто бы кто‑то незримо присутствовал рядом: я ощущал себя крошечной крупицей гигантского сыра, каким, вероятно, представлялся мне мир, – впрочем, я и по сей день вижу его таким. Но я точно знаю, что никогда не существовал как нечто самостоятельное, то есть никогда не считал себя гигантским сыром. Так что даже когда у меня был повод жаловаться, плакать, чувствовать себя несчастным, я сохранял иллюзию причастности ко всеобщему, вселенскому горю. Если я плакал, значит плакал весь мир – так я себе это представлял. Плакал же я довольно редко. И вообще был счастлив, смешлив и доволен жизнью. Жизнью я был доволен потому, что, как я уже говорил, мне и правда все было по хую. У меня все плохо – значит, и везде все плохо, в этом я был глубоко убежден. А плохо бывает обычно лишь тогда, когда все слишком близко принимаешь к сердцу. Это отложилось в моем сознании довольно рано. Взять хотя бы случай с моим другом детства Джеком Лоусоном. Целый год он был прикован к постели, страдая от изнуряющей боли. Джек был моим лучшим другом – по крайней мере, так считалось. Да, поначалу я, наверное, жалел его и, может, даже от случая к случаю заходил к ним домой справиться о его здоровье; но по прошествии одного‑двух месяцев я совершенно очерствел к его страданиям. Пора бы ему умереть, сказал я себе, и чем скорее, тем лучше, а рассудив таким образом, я и поступил соответственно: то есть вскоре я и думать о нем забыл, бросил на произвол судьбы. Тогда мне было всего двенадцать лет, и я помню, как гордился своим решением. Помню и сами похороны – ну и позорище! Друзья, родственники – все были там: все сгрудились у гроба, и все ревели, как стадо сумасшедших обезьян. Особенно мамаша меня раздражала. На редкость возвышенное создание – сторонница «Христианской науки», не иначе; она не верила ни в болезнь, ни в смерть, но развела такую вонь, что, пожалуй, сам Иисус восстал бы из гроба. Только не ее ненаглядный Джек! Нет, Джек лежал холодный как лед, суровый и неприступный. Он был мертв – двух мнений тут быть не может. Я это понял и обрадовался. Ни слезинки на него не потратил. Я бы не сказал, что он оказался в лучшем мире, потому что в конечном счете его «я» исчезло. Он ушел, а с ним и его страдания, и страдания, которые он невольно причинял другим. «Аминь!» – сказал я себе и тут же, будучи в легкой истерике, громко пукнул – прямо у самого гроба.
Что за идиотская манера принимать все близко к сердцу! Помнится, однажды я и сам чуть не влип – это когда впервые влюбился. Но я и тогда не особенно переживал. Если бы я и в самом деле переживал, то не сидел бы здесь теперь и не писал бы все это: я бы давно умер от разрыва сердца или же болтался в петле. То был не лучший опыт, ибо он научил меня жить во лжи. Он научил меня улыбаться, когда не хотелось улыбаться, работать, когда не верилось в работу, жить, когда дальше жить было незачем. И хотя я ее забыл, привычка делать то, в чем я не видел смысла, сохранилась у меня надолго.
Как я уже говорил, изначально это был сплошной хаос. Но порой меня заносило так близко к центру, к самому сердцу этой кутерьмы, что только чудом не разнесло на куски все, что меня окружало.
Принято все валить на войну. Заявляю, что меня, моей жизни война не коснулась никаким боком. В то время как другие добывали себе престижные должности, я менял одну жалкую работенку на другую и ни на одной не держался столько, сколько требовалось, чтобы хоть как‑то свести концы с концами. Не успевали меня зачислить в штат, как я получал увесистый пендель. Я обладал незаурядным умом, но внушал недоверие. Где бы я ни появлялся, я всюду разжигал смуту – не оттого, что был идеалистом, просто я, как прожектор, выставлял на всеобщее обозрение глупость и нелепость происходившего. Кроме того, я не отличался усердием лизать задницы. Вероятно, это наложило на меня клеймо. По мне сразу можно было сказать, когда я справлялся о работе, что мне начхать, получу я ее или нет. И разумеется, в большинстве случаев я ее не получал. Правда, со временем сам поиск работы превратился в своего рода деятельность, в приятное, так сказать, времяпрепровождение. Куда я только не заходил, на что только не нарывался! Это был один из способов убивать время – не более скверный, как выяснилось, чем сама работа. Я был сам себе босс и сам себе устанавливал рабочий день, но, в отличие от других боссов, мне грозило лишь мое собственное разорение, мое собственное банкротство. Я не был ни трестом, ни корпорацией, ни государством, ни федерацией и ни конфедерацией наций – более всего я был подобен Богу, если уж на то пошло.
Это продолжалось примерно с середины войны до… ну да, до того самого дня, когда я угодил в капкан. Мне позарез понадобилась работа – без нее мне хана. Время поджимало, и я решил, что соглашусь на самую заштатную должность на свете – мальчиком на побегушках. К концу рабочего дня я отправился в бюро по найму телеграфной компании – Североамериканской Космодемонической Телеграфной Компании, готовый к тому, что уж здесь‑то меня примут. Я как раз вышел из публичной библиотеки и нес под мышкой пару томов по экономике и метафизике. К моему вящему изумлению, в работе мне было отказано.
Парень, который меня завернул, был какой‑то мелкой сошкой на коммутаторе. Похоже, он принял меня за студента колледжа, хотя из моей анкеты было вполне ясно, что я уже далеко не школьник. В анкете я даже присвоил себе степень доктора философии Колумбийского университета. По всей видимости, это прошло незамеченным или же вызвало подозрение у хлыща, что меня забраковал. Я впал в бешенство, тем более что это был тот единственный случай в моей жизни, когда я не кривил душой. Как бы то ни было, я проглотил свою гордость, каковая в особых конкретных случаях бывает непомерно велика. Моя жена, разумеется, выдала мне обычную порцию язвительных взглядов и едких насмешек. С моей стороны это был всего лишь жест, заявила она. Я лег спать, думая об этом и не переставая испытывать жгучую боль, распаляясь все больше и больше по мере того, как ночь шла на убыль. То обстоятельство, что у меня были жена и ребенок, коих я обязан содержать, не причиняло мне особого беспокойства; работу предлагают не потому, что у тебя есть семья, которая нуждается в поддержке, – это я понимал как нельзя лучше. Нет, мучительно было то, что они отвергли меня, Генри В. Миллера, личность высшего типа, блестяще образованного человека, покусившегося на самую заштатную работенку на свете. Это меня испепеляло. Я не мог с этим смириться. Утром я встал рано, с ясной головой; побрился, надел свой лучший костюм и помчался в подземку. Я двинулся прямо в главное здание телеграфной компании… взлетел на 26‑й или какой там этаж, где находились гнездовья президента и вице‑президента. Я потребовал встречи с президентом. Разумеется, президента то ли вообще не было в городе, то ли он был слишком занят, но какая мне разница, примет меня президент, вице‑президент или пусть даже секретарь вице‑президента. Принял меня секретарь – вроде как интеллигентный воспитанный тип, ну я и забил ему баки. У меня это лихо вышло, без излишней запальчивости, хотя я то и дело давал ему понять, что не так‑то просто от меня отделаться.
Когда он снял трубку и потребовал генерального директора, я подумал, что это только для отвода глаз и что они собираются отфутболивать меня от одного к другому, пока не отвяжусь. Но как только я услыхал, каким тоном он с ним говорит, я изменил свое мнение. Когда я добрался до канцелярии генерального директора, а она располагалась в другом здании в жилых кварталах города, меня там уже ждали. Я уселся в уютное кожаное кресло и угостился одной из больших сигар, которые мне учтиво пододвинули. Этот тип сразу же проявил живой интерес к моему делу. Он захотел, чтобы я рассказал ему все до мельчайших подробностей; его большие волосатые уши встали торчком, чтобы не упустить ни крупицы сведений, способных подтвердить ту или иную версию, множество которых варилось в его котелке. Я понял, что нечаянно сделался полезен ему в оказании какой‑то услуги. Я позволил себе пойти у него на поводу, чтобы вписаться в его умопостроения, не переставая, однако, держать нос по ветру. По мере того как развивалась беседа, я заметил, что он проникается ко мне все большим и большим участием. Наконец‑то хоть кто‑то выказал мне малую толику доверия! Этого было достаточно, чтобы я смог оседлать одного из своих любимых коньков. Ибо после многих лет охоты на работу я, естественно, овладел кое‑какими премудростями: я знал не только чего нельзя говорить, но и где поддакнуть, что подвергнуть сомнению. Вскоре был вызван помощник генерального директора, и его попросили выслушать мою историю. К тому времени я уже знал, что это будет за история. Я понял, что Хайме, «этот маленький поцка», как называл его генеральный директор, формально не имел права выдавать себя за управляющего по кадрам. Хайме узурпировал его прерогативу – это было ясно как день. Ясно было и то, что Хайме – еврей, а евреи были не в чести ни у генерального директора, ни у мистера Твиллигера, вице‑президента, который, в свою очередь, сидел бельмом в глазу генерального директора.
Возможно, как раз Хайме, «поц пархатый», и был в ответе за высокий процент евреев в армии почтовиков. Возможно, как раз Хайме‑то и осуществлял набор служащих в бюро по найму – в Доме Заходящего Солнца, как его называли. Это была, по моему разумению, блестящая возможность для мистера Кленси, генерального директора, устранить некоего мистера Барнса, который, как он пояснил, уже лет тридцать служил управляющим по найму и, очевидно, стал с ленцой относиться к службе.
Совещание длилось несколько часов. Под конец мистер Кленси отвел меня в сторонку и сообщил, что собирается назначить меня боссом по труду. Прежде чем ввести меня в должность, он, однако, намерен просить меня в знак особого расположения, а заодно и будто бы для практики, каковая, несомненно, пойдет мне на пользу, поработать в качестве посыльного по особым поручениям. Я буду получать зарплату управляющего по найму, но выплачивать мне ее будут по особому счету. Короче, мне вменялось в обязанность фланировать от ведомства к ведомству и наблюдать за тем, как ведутся дела в каждом в отдельности и во всех разом. Мне вменялось в обязанность время от времени подавать краткий рапорт о том, где что происходит. И время от времени – таково было его пожелание – я должен был заходить к нему домой накоротке, чтобы потолковать о состоянии сотни и одного отделения Космодемонической Телеграфной Компании в Нью‑Йорк‑Сити. Другими словами, в течение нескольких месяцев мне предстоит быть осведомителем, после чего мне передадут управление персоналом. А ну как меня однажды назначат генеральным директором, а там, глядишь, и вице‑президентом! Предложение выглядело соблазнительным, пусть даже и было изрядно вываляно в конском навозе. Я сказал ДА.
Через несколько месяцев я сидел в Доме Заходящего Солнца и вершил прием и увольнение, как сам сатана. Это была сущая бойня, Господь свидетель. Бессмысленная жестокость от начала и до конца. Пустое разбазаривание людей, имущества и сил. Гнусный фарс на фоне пота и слез. Но раз уж я принял осведомительство, то принял и перегонку кадров, а стало быть, и все, что этому сопутствовало. Я сказал ДА на все. Если вице‑президент отдавал распоряжение не увольнять хромых, я не увольнял хромых. Если вице‑президент говорил, что все посыльные старше сорока пяти подлежат увольнению без предупреждения, я увольнял их без предупреждения. Я выполнял все, что мне предписывалось, но делал это так, что они сами вынуждены были за все расплачиваться. Когда случалась забастовка, я сидел сложа руки и ждал, пока ее не пронесет. В первую очередь я рассматривал забастовки с той точки зрения, в какую уйму денег выльются они компании. Вся система была до того прогнившей, до того бесчеловечной, до того безнадежно расшатанной и недоступной пониманию, что понадобился бы гений, чтобы вложить в нее хоть крупицу смысла и порядка, не говоря уже о человеческой доброте или там уважении. Я восстал против всей трухлявой американской системы труда, которая загнивала с обоих концов. Я был пятой спицей в колеснице, и, как ни крути, не было мне иного применения, кроме как служить пешкой в чужой игре. Пешками фактически были все: президент со своей командой – для скрытых властных структур, служащие – для чиновников и так далее по кругу, вглубь и вширь до бесконечности, независимо от занимаемых должностей. Из своего маленького гнездышка в Доме Заходящего Солнца я обозревал все американское общество с высоты птичьего полета. Как бы разглядывая страницу из телефонной книги. С точки зрения алфавита, нумерации, статистики она не лишена смысла. Но когда тщательно ее пролистаешь, когда изучишь каждую страницу в отдельности, каждую букву в отдельности, когда изучишь одного отдельно взятого индивида и его содержимое, изучишь воздух, которым он дышит, жизнь, которую он ведет, ставки, которые он делает, то увидишь нечто столь мерзкое и гнусное, столь ничтожное, столь жалкое, в такой степени безнадежное и бессмысленное, что лучше сунуть нос в кратер вулкана. Таков был американский образ жизни во всех его аспектах: экономическом, политическом, нравственном, духовном, артистическом, статистическом, патологическом – словно огромный шанкр на потасканном члене. Пожалуй, еще и хуже, ибо где теперь найдешь то, что хотя бы отдаленно напоминало член? Может быть, в прошлом эта штуковина и давала жару, даже кое‑что производила, доставляла, на худой конец, сиюминутное наслаждение, сиюминутную радость. Но оттуда, где я восседал, открывалось зрелище куда более омерзительное, нежели кишащий червями сыр. Удивительно, как только их не снесло волной исходящего от них зловония… Я тут употребляю прошедшее время, но, разумеется, и сейчас картина та же, а то, пожалуй, и хуже. Во всяком случае, нам этой вони сейчас за глаза и за уши.
К тому времени, как на сцене появилась Валеска, через мои руки прошло несколько легионов посыльных. Мой кабинет в Доме Заходящего Солнца был чем‑то вроде открытого канализационного стока, да и вонял не меньше. Я окопался в траншее на передовой, куда приходился основной поток вони со всей округи. Начать с того, что человек, которого я подсидел, умер от разрыва сердца спустя пару недель после моего появления. Он продержался именно столько, сколько требовалось, чтобы я успел войти в курс дела, и тут же дал дуба. События развивались так стремительно, что я не удосужился испытать чувства вины. С той минуты, как я приступил к работе, моя жизнь превратилась в сплошной ад кромешный. За час до моего появления – а я всегда опаздывал – приемная была уже битком набита желающими получить работу. Я был вынужден локтями пробивать себе путь, поднимаясь по лестнице, и буквально идти на таран, чтобы пробраться к своему столу, который находился по другую сторону «баррикады». Не успев снять шляпу, я уже должен был ответить на дюжину телефонных звонков. У меня на столе стояли три телефонных аппарата, и все трезвонили одновременно. Уссышься от их истошного дребезжания, прежде чем сядешь за работу. Не было даже времени пойти посрать – так и терпи до пяти‑шести вечера. Хайме приходилось еще хуже, так как он был прикован к коммутатору. Он сидел за ним с восьми утра до шести вечера, тасуя наряды. Каждый наряд – это отдельный посыльный, который предоставлялся одним филиалом другому на день или часть дня. Ни в одном из сотни и одного филиала штат не был укомплектован полностью; Хайме был вынужден колдовать над нарядами, пока я вкалывал как безумный, латая бреши. Если мне каким‑то чудом и удавалось заполнить все вакансии за день, то на следующее утро в лучшем случае все повторялось по новой. Наверное, только двадцать процентов персонала были постоянными, остальные – текучка. Постоянные выживали новичков, не давали им ходу. Постоянные зарабатывали от сорока до пятидесяти долларов в неделю, но бывало, и шестьдесят – семьдесят, а то и все сто, что, следует заметить, гораздо больше, чем перепадало делопроизводителям, а порой и их непосредственному начальству. Что касается новичков, то им сложно было заработать и десять долларов в неделю. Иные из них сбегали, не проработав и часа, нередко выбрасывая пачку депеш в мусорный ящик или спуская в сортир. При этом, сколько бы они ни проработали, жалованье они требовали выплачивать незамедлительно, что было невозможно из‑за сложного бухгалтерского учета, который велся таким образом, что раньше чем дней через десять, если не больше, нельзя было определить, кто из посыльных сколько заработал. По неопытности я приглашал каждого посетителя присесть и объяснял ему все в деталях. Я поступал так до тех пор, пока не потерял голос. Вскоре я приспособился беречь силы, поджаривая страждущих на медленном огне, без чего было не обойтись. Для начала каждый второй парнишка оказывался прирожденным вралем, если не отъявленным мошенником. Многие из них были уже уволены‑переуволены несчетное число раз. Другие видели тут отличную возможность подыскать новую работу, потому что по долгу службы их заносило в сотни таких заведений, куда сами бы они не сунулись ни ногой. К счастью, Макговерн, который стоял на страже и выдавал бланки заявлений, был тертый калач и обладал фотографической памятью. И потом, позади меня высились кипы гроссбухов, хранившихся досье на каждого, кому когда‑либо довелось пройти суровую школу жизни. Эти гроссбухи мало чем отличались от полицейских протоколов: они пестрели красными пометками, обозначавшими то или иное правонарушение. По свидетельству очевидцев, я был помечен как преступный элемент. Каждое второе имя в списке сопровождалось пометкой «воровство», «мошенничество», «драка» либо «умственная отсталость», «извращения», «идиотизм». «Осторожно: такой‑то эпилептик!» «Этого не брать – он ниггер!» «Будьте бдительны: Икс отбывал в Даннеморе. А то и в Синг‑Синге».
Будь я поборником этикета, компания вообще осталась бы без посыльных. Я должен был с ходу определять, кто есть кто, – и не из записей, не от сотрудников, а исходя из собственного опыта. О просителе можно было судить по тысяче факторов – мне приходилось, не мешкая, учитывать все разом, так как за один короткий день, даже если оформлять их не глядя, все равно успеешь нанять ровно столько‑то, и ни одним больше. И в каком бы количестве я их ни набирал, их вечно не хватало. На следующий день все по новой. Иные, по моим понятиям, не продержались бы и суток, но я все равно вынужден был их принимать. Система была неразумна от начала до конца, но не моя это забота – критиковать систему. Моя забота – принять‑уволить, уволить‑принять. Я находился в центре крутящегося диска, который вращался с такой скоростью, что не было никакой возможности положить этому конец. Что было нужно, так это механик, но, согласно логике верховных воротил, механизм работал исправно, все было прекрасно и безупречно, разве что по ходу дела возникали временные неполадки. А раз по ходу дела возникали временные неполадки, то тут вам и эпилепсия, и воровство, и вандализм, и извращения, и черномазые, и жиды, и проститутки, и прочая дребедень, включая забастовки с локаутами. И тогда, в соответствии с этой самой логикой, вы брались за большую метлу и давай дочиста выметать конюшни или же хватали ружья и дубинки и давай вколачивать мозги несчастным идиотам, страдавшим от заблуждения, что все в этом мире не так. Полезно было иной раз потолковать о Боге или попеть немного хором, – время от времени, может, даже позволялось прибегнуть и к премии, то есть когда становилось так худо, что слова уже не помогали. Главное – поддерживать процесс перегонки кадров: пока имелись кадры и боеприпасы, мы должны были двигаться вперед и зачищать окопы. Тем временем Хайме продолжал принимать слабительное, причем в таком количестве, от которого могло бы вдребезги разнести его хвостовой отсек, если бы хвостовой отсек у него имелся, но такового у него давно не было, – он только сочинял, что дрищет напропалую, только сочинял, что не слезает с горшка. В действительности же несчастный содомит был в трансе. Ему приходилось опекать сотню и один филиал, а в каждом – целый штат посыльных, который оставался мифическим, если не гипотетическим, и, независимо от того, были посыльные реальными или мнимыми, телесными или бестелесными, Хайме приходилось тасовать их с утра до ночи, пока я латал дыры, которые были столь же эфемерны, ибо кто мог сказать наверняка, отправляя новичка с поручением в какое‑нибудь учреждение, прибудет он туда сегодня, завтра или никогда. Кто‑то из них мог заблудиться в подземке или в лабиринтах небоскребов; кто‑то целыми днями гонял по линиям надземки – ведь благодаря униформе можно было ездить бесплатно, а им вряд ли когда выпадала такая радость – целый день прогонять по надземке. Одни стартовали в Стейтен‑Айленде и финишировали в Канарси или в коматозном состоянии доставлялись полицейскими назад. Другие забывали, где они живут, и исчезали с концами. Третьи, которых мы вербовали для Нью‑Йорка, оказывались месяц спустя в Филадельфии, будто это было в порядке вещей и не противоречило правилам игры по Хойлю. Четвертые охотно отправлялись по назначению, а на полпути соображали, что легче продавать газеты, и охотно продавали газеты – прямо в нашей униформе, – пока их не отлавливали. Пятые прямым ходом шли в полицейский участок, повинуясь какому‑то непостижимому инстинкту самосохранения.
По утрам, добравшись до рабочего места, Хайме первым делом точил карандаши; он точил их с религиозным фанатизмом, не отвлекаясь на телефонные звонки, сколько бы они ни трезвонили, потому что, как он мне потом объяснил, если не заточить карандаши с утра, они так и останутся незаточенными. Затем он выглядывал в окно посмотреть, что с погодой. После чего свежезаточенным карандашом отчеркивал маленький квадратик на грифельной доске, которую всегда держал под рукой, и заносил в него сводку погоды. Когда‑нибудь, о чем он мне тоже поведал, это может обернуться полезным алиби. Если толщина снежного покрова достигала одного фута или на улице было слишком слякотно, то ведь и самому дьяволу, пожалуй, простили бы, что он тасует наряды не слишком проворно, а управляющему по найму, выходит, и подавно простили бы, что он в такие дни не затыкает дыры, правильно? Но почему, заточив карандаш, он, вместо того чтобы пойти продристаться, садился корпеть над коммутатором, оставалось для меня загадкой. Позже он и это мне объяснил. Как бы то ни было, день вечно ломался из‑за неразберихи, жалоб, запора и вакансий. Он и начинался с того же трубного вонючего пердежа, дурного запаха изо рта, измотанных нервов, падучей, менингита, низкого жалованья, просроченных платежей, стоптанных башмаков, мозолей и омозолелостей, плоскостопия и разбитых ступней, недочитанных книжек, заныканных и похеренных авторучек, плавающих в канализационных стоках депеш, угроз вице‑президента и советов директоров, пререканий и разборок, ливней и поврежденных проводов, новых методов воздействия и старых, давно сброшенных со счетов, с надежды на лучшие времена и мольбы о премии, которой хрен дождешься.
Христианская ассоциация молодых людей, которой неймется улучшить моральный облик молодых рабочих во всей Америке, в полдень устраивает митинг, так не буду ли я любезен отправить парочку лоботрясов послушать пятиминутную лекцию Уильяма Карнеги Астербильда‑младшего о долге службы? Мистер Мэлори из Лиги взаимопомощи интересуется, не мог бы я как‑нибудь уделить ему несколько минут, чтобы он рассказал мне об образцовых заключенных, освобожденных под честное слово, которые рады были бы служить в любом качестве, даже посыльными. Миссис Гуггенхоффер из Еврейского благотворительного общества была бы весьма признательна, если бы я согласился помочь ей в оказании поддержки нескольким нуждающимся семействам, которые находились в бедственном положении, так как все члены семей либо недееспособны, либо калеки, либо инвалиды. Мистер Хагарти из Приюта для беспризорников выражает уверенность, что у него есть подростки как раз для меня, вот бы я дал им шанс: с каждым из них дурно обращались либо отчимы, либо мачехи. Мэр Нью‑Йорка был бы весьма признателен, если бы я принял под личную опеку «подателя сего письма», за коего он ручается во всех отношениях, – но почему бы ему самому, черт побери, не позаботиться о «сем подателе», оставалось тайной. Мужчина, склонившийся над моим плечом, протягивает мне клочок бумаги, на котором он только что написал: «Мне понимать все но нет слышать голоса». Рядом с ним в драном, заколотом английскими булавками пальто стоит Лютер Уинифред. Лютер на две седьмых чистокровный индеец, а на пять седьмых – германо‑американец: вот чудеса! По индейской линии он Ворон – один из монтанских Воронов. Последняя его работа состояла в натягивании полотняных навесов над витринами магазинов, но поскольку из‑за отсутствия зада на нем плохо сидят штаны, он стесняется залезать на лестницу на виду у дам. Он только позавчера из госпиталя и пока что слабоват, но вполне способен доставить депешу – так ему кажется!
Да, еще Фердинанд Миш – как же я про него забыл! Он все утро прождал своей очереди, чтобы перекинуться со мной парой слов. Я никогда не отвечал на его письма. «Разве я заслужил?» – спрашивает он мягко. Нет, конечно. Я смутно помню его последнее письмо, посланное им из ветлечебницы для кошек и собак на Гранд‑Конкорс, где он служил санитаром. Он писал, что раскаивается в том, что ушел с работы, – «но это все из‑за отца, который был слишком строг и не позволял никаких развлечений и удовольствий на стороне». «Мне уже двадцать пять лет, – писал он, – и я не считаю, что обязан продолжать спать с отцом, а вы? Я знаю, по слухам, вы весьма любезный джентльмен, а я сейчас самозависим, так что надеюсь…» Видавший виды Макговерн стоит возле Фердинанда и ждет, когда я подам ему знак. Ему не терпится дать Фердинанду под зад коленом – помнит еще, как пять лет назад Фердинанд вдруг завалился на бок прямо перед главным зданием, причем в полной амуниции, и забился в эпилептическом припадке. Ну уж нет, говнюк, я так не могу! Дам я ему шанс, горемыке этому. Пошлю его в Китайский квартал: там хоть обстановка более‑менее спокойная. Пока Фердинанд переодевается в задней комнате, у меня над ухом жужжит оставшийся без родителей подросток, который спит и видит «помочь компании добиться успеха», – мол, если я дам ему шанс, он каждое воскресенье будет за меня молиться в церкви – за исключением тех дней, когда ему нужно являться к дежурному надзирателю. Оказывается, он ничего такого не совершил. Просто толкнул одного парня, а тот упал, ударился головой и убился насмерть. Следующий. Экс‑консул с Гибралтара. Почерк у него красивый – подозрительно красивый. Я прошу его заглянуть ко мне в конце дня, – чем‑то он мне не понравился. Тем временем в раздевалке Фердинанд начинает биться в припадке. Вот повезло‑то! Случись это в подземке, при номерной фуражке и прочих регалиях, меня бы точно упекли куда подальше. Следующий. Однорукий жлобина, разъяренный тем, что Макговерн указал ему на дверь. «Какого дьявола! Я здоров как бык, и силы не занимать!» – орет он благим матом и в качестве доказательства хватает здоровой рукой стул и разбивает его вдребезги. Я возвращаюсь к столу, а там меня дожидается телеграмма. Вскрываю. От Джоржа Блейзини, бывшего посыльного номер 2459 из юго‑западного филиала. «Сожалею, что вынужден покинуть вас так скоро, но эта работа чужда моей натуре, а моя натура – этой работе. Я не выношу безделья и являюсь верным поклонником труда и бережливости, но дольше мы не в силах ни контролировать, ни подавлять наше личное достоинство». Вот говнюк!
Поначалу я взялся за дело с энтузиазмом, несмотря на давление сверху и поджимание снизу. У меня рождалась идея за идеей, и я осуществлял их, нравилось это вице‑президенту или нет. Каждую декаду или около того меня вызывали на ковер и отчитывали за то, что у меня «слишком большое сердце». В моем кармане никогда не водились деньги, но чужими деньгами я пользовался свободно. Поскольку я был шишкой, мне полагался кредит. Я раздавал деньги направо и налево; я раздавал свое белье и одежду, свои книги, все, что было лишнее. Если бы я обладал властью, то я бы и всю компанию роздал несчастным содомитам, от которых мне не было отбоя. Если у меня просили десятицентовик, я давал полтинник, просили доллар – я давал пять. Меня не ебло, сколько я отдавал, потому что легче было занять и отдать, чем отказать этим жалким бедолагам. Никогда в жизни не доводилось мне видеть такого скопища нищеты и, надеюсь, больше не доведется. Всюду люди терпят нужду – так было и так будет всегда. И эта ужасающая нищета исподволь подогревается пламенем, обычно таким слабым, что его почти незаметно. Но оно все же теплится, и, если у кого‑нибудь хватит смелости попытаться его задуть, это может обернуться пожаром. Мне постоянно твердили, что нельзя быть слишком мягким, что нельзя быть слишком сентиментальным, что нельзя быть слишком щедрым. «Больше жесткости! Больше характера!» – предостерегали меня. «Хуй вам! – сказал я себе. – Все равно буду мягким, великодушным, терпимым, внимательным, щедрым». Поначалу я каждого выслушивал до конца; если я кому‑то не мог предложить работу, я давал деньги, если у меня не было денег, я давал сигарету или просто подбадривал. Но я давал! Эффект был ошеломляющим. Никто не способен оценить результатов доброго поступка, доброго слова. Я утопал в благодарностях, в пожеланиях добра, в приглашениях и трогательных подарочках. Если бы я обладал реальной властью, а не торчал пятой спицей в колеснице, бог знает что бы я еще мог совершить. Возможно, я использовал бы Североамериканскую Космодемоническую Телеграфную Компанию в качестве трамплина, чтобы привести все человечество к Богу; или преобразовал бы Северную и Южную Америки, вместе взятые, и доминион Канада в придачу. Секрет был у меня в руках: быть щедрым, добрым, терпеливым. Я работал за пятерых. Три года я почти не смыкал глаз. У меня не было ни одной целой рубашки, и порой я так стыдился просить денег у жены или совершать налет на детскую копилку, что, отправляясь утром на работу, обжуливал слепого газетчика у входа в подземку, дабы заплатить за проезд. Я одалживал столько денег, что, работай я двадцать лет без передышки, все равно не смог бы расплатиться сполна. Я брал у тех, кто имел, и давал тем, кто нуждался, и правильно делал: я поступил бы точно так же, случись мне еще раз оказаться в подобной ситуации.
Я даже совершил чудо приостановки сумасшедшей текучки кадров, чудо, на которое никто не смел и надеяться. Вместо того чтобы содействовать моим усилиям, мне ставили палки в колеса. Согласно логике верховных воротил сбой в текучке кадров произошел по причине слишком высокой оплаты труда. Вследствие чего они понизили заработную плату. Это все равно что рубить сук, на котором сидишь. Все здание трещало, рассыпалось у меня на глазах. А эти как ни в чем не бывало требовали латать бреши. Чтобы немного смягчить удар, мне по‑свойски намекнули, что я мог бы несколько увеличить процентное содержание евреев, мог бы позволить себе то, се, пятое, десятое – все то, что по прежней инструкции шло вразрез с кодексом. Меня это так взбесило, что я стал принимать кого ни попадя; я без колебаний нанял бы и дикого американского пони или гориллу, если бы мог вдохнуть в них тот минимум интеллекта, который необходим, чтобы доставить депешу. Неделей раньше к концу дня оставалось пять или шесть вакансий. Теперь их стало триста, четыреста, пятьсот, – кадры утекали как песок между пальцами. Это было восхитительно. Я сидел и, не задавая ни единого вопроса, набирал их вагонами – жидов, черномазых, калек, паралитиков, бывших каторжников, проституток, маньяков, дебилов – любого захуятого ублюдка, лишь бы он умел стоять на двух ногах и держать в руке телеграмму. Управляющие всех сотни и одного филиала были перепуганы до смерти. Я потирал руки. Я потирал руки на протяжении целого дня при мысли о том, какую славную жирную свинью я подложил. Жалобы валом повалили со всего города. Регулярность доставки нарушена, образовались заторы и торосы. Скорее ишак мог бы добраться куда следует, чем иные идиоты, которых я впряг в работу.
На следующий день гвоздем программы стало введение в штат посыльных женского пола. Что в корне изменило местную атмосферу. Для Хайме это был божий дар вместо яичницы. Он крутил свой коммутатор туда‑сюда, чтобы видеть, как я манипулирую нарядами. Несмотря на то что работы прибавилось, у него была перманентная эрекция. Он приходил на работу с улыбкой и сохранял ее на протяжении всего дня. Он был на седьмом небе. За рабочий день у меня вырисовывался список из пяти‑шести кандидатур, которых следовало как следует прощупать. Фокус состоял в том, чтобы держать их на привязи: пообещать работу, но для начала выебать за милую душу. Достаточно было только задать им корму, чтобы к ночи привести назад в контору и разложить прямо на оцинкованном столе в раздевалке. Если у кого‑то из них была уютная квартирка – а такое тоже случалось, – мы провожали их до дому и дело кончалось долбежкой. Если какая из них была не дура выпить, то Хайме на такой случай всегда имел при себе бутылочку. Если они были мало‑мальски порядочными и в прямом смысле нуждались в куске хлеба, Хайме охотно извлекал свой пухлый бумажник и отстегивал пять или десять монет, смотря по ситуации. Я исхожу слюной, вспоминая этот пресловутый бумажник, который он всегда носил с собой. Я понять не мог, откуда у него деньги, потому что он был самым низкооплачиваемым сотрудником в объединении. Но деньги у него не переводились, и, сколько бы я ни просил, он никогда не жидился. А однажды нам посчастливилось получить премию, и я вернул Хайме все до последнего пенни. Это так его потрясло, что вечером он взял меня с собой в «Дельмонико» и прокутил там целое состояние. Мало того, на следующий день он настоял на том, чтобы купить мне шляпу, рубашку и перчатки. Он даже намекнул, что я мог бы зайти к нему в гости и употребить его жену, если мне захочется, хотя, предупредил он, в настоящее время у нее что‑то не в порядке с яичниками.
Кроме Хайме и Макговерна, у меня в помощниках были две красотки‑блондинки, которые часто составляли нам компанию по вечерам. И еще О’Мара, мой старый друг, только что вернувшийся с Филиппин, – его я сделал своим главным помощником. Был еще Стив Ромеро, этакий бык‑рекордист, которого я держал на всякий пожарный. И О’Рурк, местный детектив, – он отчитывался мне на исходе дня, заступая на службу. Под конец я взял в штат еще одного сотрудника – Кронского, молодого студента‑медика, имевшего дьявольский интерес к случаям патологии, коих у нас было предостаточно. Все мы составляли лихую команду, объединенную одной страстью – наебать компанию любой ценой. А наебывая компанию, мы заодно ебли все, что попадалось на глаза или под руку; исключением среди нас был О’Рурк: ему полагалось блюсти честь мундира, и к тому же у него были проблемы с предстательной железой, так что он напрочь утратил интерес к ебле. Но О’Рурк был благороднейший из людей и несказанно щедр в придачу. Это О’Рурк водил нас иногда поужинать, именно к О’Рурку шли мы со своими бедами.
* * *
Так обстояли дела в Доме Заходящего Солнца к тому времени, как я оттрубил там два года. Я был пресыщен человеколюбием, напитан всякого рода опытом. В моменты отрезвления я делал кое‑какие заметки, которые намеревался использовать, если у меня появится возможность написать собственные «опыты». Я ждал передышки. И вот однажды, когда меня вызвали на ковер за какую‑то дурацкую провинность, вице‑президент обронил фразу, которая встала мне поперек горла. Он сказал, что хотел бы найти кого‑нибудь, кто написал бы о посыльных что‑то вроде книги Горацио Элджера, и намекнул, что, кроме меня, этого, пожалуй, никому не осилить. Я впал в ярость – надо же, какой кретин! – и в то же время обрадовался, ибо втайне меня давно уже подмывало облегчить душу. Ну, думаю, погоди у меня, старый футцер, то‑то будет, когда я облегчу свою душу… Я покажу тебе Горацио Элджера… Ну погоди! У меня голова шла кругом, когда я от него вышел. Я видел толпы мужчин, женщин и детей, прошедшие через мои руки; видел, как они рыдают, просят, умоляют, взывают, проклинают, плюются, топают ногами, угрожают. Я видел следы, оставленные ими на дорогах, товарные поезда, в которые они вскакивали, лачуги, в которые они возвращались, разбросанное по полу мясо, родителей в лохмотьях, пустые угольные ящики, забитые раковины, запотевшие стены и между холодных бисерин влаги – безумные тараканьи бега; я видел, как они ковыляют, похожие на вертлявых гномов, как заваливаются на спину в эпилептическом припадке – с искривленным судорогой ртом, с пеной на губах, с подергивающимися конечностями; я видел, как расступаются стены и чума крылатым потоком прорывается наружу, видел верховных воротил с их чугунной логикой, ожидающих, когда ее пронесет, ожидающих, когда все уладится, ожидающих и ожидающих – в довольстве и неге, попыхивая, закинув ноги на стол, толстыми сигарами и поговаривая о том, что кое‑где возникли временные неполадки. Я видел героя Горацио Элджера – мечту американского идиота, все выше и выше поднимающегося по служебной лестнице: из посыльного – в оператора, из оператора – в управляющего, из управляющего – в главу, из главы – в суперинтенданта, из суперинтенданта – в вице‑президента, из вице‑президента – в президента, из президента – в трестового магната, из трестового магната – в пивного короля, во всеамериканского Идола, денежного Кумира, кумира кумиров, прах праха, верх ничтожества, ноль целых и девяносто семь тысяч нолей в числителе и знаменателе. Ну, говнюки, сказал я себе, ужо я представлю вам картинку, как двенадцать маленьких людей, нулей без десятичных знаков, без цифр, без одиночных чисел, двенадцать неистребимых червяков подтачивают основы вашего трухлявого здания. Я покажу вам Горацио Элджера, каким он предстанет в день, грядущий за Апокалипсисом, когда развеет последнюю вонь.
Из всех уголков земного шара стекались они ко мне в поисках содействия. Едва ли хоть одно племя, за исключением первобытного, осталось не представленным в этом шествии. Кроме айнов, маори, папуасов, веддов, лапландцев, зулусов, патагонцев, игоротов, готтентотов, туарегов, кроме вымерших тасманийцев, вымерших гримальдийцев, вымерших атлантийцев, сквозь меня прошли представители почти всех пород, существующих в подлунном мире. Были два брата, по старинке остававшиеся солнцепоклонниками, два несторианца из старой ассирийской общины. Были два мальтийских близнеца с Мальты и потомок майя с Юкатана; было с десяток наших смуглых меньших братьев с Филиппин и несколько эфиопов из Абиссинии, были работяги из пампасов Аргентины и разорившиеся ковбои из Монтаны; были греки, латыши, поляки, хорваты, словенцы, рутенианцы, чехи, испанцы, валлийцы, финны, шведы, русские, датчане, мексиканцы, пуэрториканцы, кубинцы, уругвайцы, бразильцы, австралийцы, персы, японцы, китайцы, яванцы, египтяне, африканцы с Золотого Берега и Берега Слоновой Кости, индусы, армяне, турки, арабы, немцы, ирландцы, англичане, канадцы и в изобилии – итальянцы и евреи. Был всего один француз, если память мне не изменяет, да и тот продержался часа три – не дольше. Было несколько американских индейцев, главным образом чероки, зато ни одного тибетца и ни одного эскимоса; я видел имена, о которых раньше не имел понятия, и почерки – от клинописи ассирийцев до изысканной, изумительно красивой каллиграфии китайцев. Я слышал, как выпрашивали работу бывшие египтологи, ботаники, хирурги, золотодобытчики, преподаватели восточных языков, музыканты, инженеры, врачи, химики, математики, мэры городов и губернаторы штатов, тюремные надзиратели, скотобойцы, дровосеки, моряки, устричные пираты, грузчики, клепальщики, дантисты, протезисты, художники, скульпторы, паяльщики, архитекторы, наркодельцы, абортмахеры, белые работорговцы, водолазы, кровельщики, фермеры, продавцы верхней одежды, ловчие, смотрители маяков, сводники, члены городского управления, сенаторы – всякая тварь поднебесная, и каждый из них, оставшись гол как сокол, выпрашивал то работу, то сигаретку, то на проезд, то один только шанс, Христа ради, один только шанс! Я увидел и узнал людей святых, если есть святые в этом мире; я встречался и говорил с учеными – пропойцами и трезвенниками; я выслушивал людей с искрой Божией в груди: они самого Господа Вседержителя могли бы убедить, что достойны получить еще один шанс, но только не вице‑президента Космококковой Телеграфной Компании. Я сидел, прикованный к своему письменному столу, с быстротой молнии путешествуя по свету, и я узнал, что жизнь везде одна и та же – голод, унижение, порок, невежество, алчность, лихоимство, крючкотворство, пытки, деспотизм; ненависть человека к человеку; ярмо, уздечка, недоуздок, шпоры, хлыст. Чем мельче калибр человека, тем хуже его положение. Люди ходили по улицам Нью‑Йорка в этом омерзительном скотском снаряжении, презренные, низшие из низших, топтались, как кайры, как бараны, как дрессированные тюлени, как покорные ослы, как большие истуканы, как полоумные гориллы, как тихопомешанные, ловящие слюнявым ртом болтающуюся приманку, как вальсирующие мышки, как морские свинки, как белочки, как кролики, и тьмы и тьмы их готовы были править миром, писать величайшую из книг. Когда я вспоминаю кого‑нибудь из персов, индусов, арабов – тех, кого я знал, – когда я вспоминаю характер, ими обнаруженный, их деликатность, чуткость, ум, их святость, меня одолевает чувство брезгливости по отношению к белым завоевателям мира – дегенеративным британцам, дубиноголовым германцам, ограниченным, самодовольным французам. Земля – единый грандиозный мыслящий организм, планета, насквозь проникнутая человеком, живая планета, и, самовыражаясь, она вправе спотыкаться и запинаться; она не есть обитель белой расы, или черной расы, или желтой расы, или вымершей голубой расы, она – обитель человека, а все человеки равны перед Богом, и каждый непременно получит свой шанс, и если не сейчас, то миллионы лет спустя. Придет день, и смуглые меньшие братья с Филиппин, глядишь, вновь достигнут расцвета, и истребленные индейцы обеих Америк вновь воскреснут и будут скакать верхом среди прерий, где на города сейчас обрушивается то огненная лава, то моровая язва. За кем останется последнее слово? За Человеком! Земля – его, ибо он сам земля; ее огонь, ее воды, ее воздух, ее минеральные и органические вещества, ее дух, дух всеобъемлющий, дух вечный, дух всех планет, который в нем преображается посредством бесконечного ряда знаков и символов, бесконечного ряда манифестаций. Погодите же, космококковые телеграфические испражнения, высокородные демоны зла, ожидающие починки канализации, погодите, паршивые белые завоеватели, испоганившие землю своими сатанинскими копытами, своими станками, оружием, болезнетворными бактериями, погодите, вы все, кто утопает в роскоши и считает свои медяки, это еще не все. Последний человек еще скажет свое слово, прежде чем наступит конец. Последний мыслящий скрупул должен получить по справедливости – и он свое получит! Никто не останется безнаказанным, а уж космококковые испражнения Северной Америки – и подавно.
Когда пришел срок моего отпуска – впервые за три года: ведь я так старался принести пользу компании! – я взял три недели вместо двух и написал книгу о двенадцати маленьких человеках. Я писал без передышки – пять, шесть, семь, а то и восемь тысяч слов в день. Я полагал, что человек, именующий себя писателем, должен выдавать минимум пять тысяч слов в день. Я полагал, что должен сказать все сразу – в одной книге, – после чего развалиться на части. Я не имел ни малейшего понятия о писательском деле. Перепугался до усеру. Но я был полон решимости вытеснить Горацио Элджера из североамериканского сознания. Наверное, это была наихудшая из всех когда‑либо написанных книг. Это был колоссальный фолиант, бездарный от корки до корки. Но это была моя первая книга, и я ее полюбил. Если бы у меня водились деньги, как у Жида, я бы издал ее за свой счет. Если бы я имел мужество, как Уитмен, я бы продавал ее вразнос, обходя за домом дом. Все, кому я ее показывал, говорили, что она ужасна. Мне настоятельно рекомендовали отказаться от идеи стать писателем. Я должен, подобно Бальзаку, понять, как я вскоре и понял, что нужно отказать себе во всем и писать, ни на что не отвлекаясь, что нужно только писать, писать и писать, даже если все кому не лень отговаривают тебя от этого, даже если никто в тебя не верит. Возможно, потому и пишут, что никто не верит; возможно, секрет как раз в том и состоит, чтобы заставить их поверить. То, что книга вышла фальшивой, бездарной, никуда не годной, ужасной, как утверждали, – было вполне естественно. Я попытался начать с того, к чему гений приступил бы только в конце. Я хотел сказать последнее слово в начале. Это был сплошной абсурд и патетика. Это был сокрушительной силы удар, но он добавил стали в мой хребет и серы в жилы. По крайней мере, я узнал, что значит крах. Узнал, что значит замахнуться на большое дело. Сегодня, когда я анализирую обстоятельства, сопутствовавшие написанию книги, когда я анализирую тот необъятный материал, который я пытался втиснуть в форму, когда я отдаю себе отчет в том, какую бездну я надеялся одолеть, я поощрительно похлопываю себя по плечу, я вывожу себе «отлично» в квадрате. Я горжусь тем, что мой проигрыш столь ничтожен; осуществи я свой замысел на все сто, меня бы объявили чудовищем. Временами, когда я пролистываю свои записные книжки, когда проглядываю одни лишь имена тех, о ком рассчитывал написать, у меня голова идет кругом. Каждый человек приходил ко мне со своим собственным миром, приходил и сгружал его на мой письменный стол; он ждал, что я подхвачу его и взвалю себе на плечи. У меня не было времени творить собственный мир: я должен был, подобно Атланту, стоять как вкопанный на спине слона, стоящего на черепахе. Задаваться вопросом, на чем стоит черепаха, означало бы повредиться в уме.
Тогда я и думать не смел ни о чем, кроме «фактов». Чтобы подкопаться под факты, я должен был стать художником, но художником не становятся за ночь. Для начала нужно, чтобы тебя уничтожили, чтобы свелись к нулю непримиримые аспекты твоего сознания. Ты должен полностью аннигилировать как человеческое существо, чтобы заново родиться личностью. Ты должен обуглеродиться и минерализироваться, чтобы произрасти из наименьшего знаменателя своего «я». Ты должен излечиться от жалости, чтобы обрести способность чувствовать. Нельзя сотворить новые небо и землю из одних только «фактов». «Фактов» нет – есть один‑единственный факт: что человек, каждый человек, где бы он ни был, стоит на своей стезе к посвящению. Одни устремляют стопы по кривому пути, другие – по прямому. Каждый человек творит свою судьбу на собственный лад, каждый сам совершает свое спасение, будучи добрым, щедрым, терпеливым. Пока я горел энтузиазмом, определенные вещи были для меня непостижимы, но теперь многое прояснилось. Возьмем, к примеру, Карнахана, одного из двенадцати маленьких людей, которых я избрал для описания. Он был, что называется, образцовый посыльный. Окончил курс в одном из солидных университетов, был человек глубокого ума и безупречной репутации. Он работал по восемнадцать‑двадцать часов в сутки и зарабатывал больше любого посыльного в штате. Клиенты, которых он обслуживал, писали о нем отзывы, вознося его до небес; ему предлагали хорошие должности, но по тем или иным соображениям он от них отказывался. Жил он бережливо, посылая большую часть заработка жене и детям, обитавшим в другом городе. У него было два порока – алкоголь и желание преуспеть. Он мог годами обходиться без спиртного, но стоило ему сделать глоток – и он уходил в запой. Его дважды подбирали пьяным на улице, на Уолл‑стрит; однако еще до того, как он пришел ко мне насчет работы, он умудрился послужить ни больше ни меньше чем церковным сторожем в каком‑то захолустье. Его оттуда выгнали, так как однажды, упившись вдребезги причастным вином, он всю ночь трезвонил в колокола. Он был правдивым, искренним, честным. Я доверял ему безоговорочно, и мое доверие подтверждалось его послужным списком, каковой был безупречен. При этом он, находясь в здравом уме и трезвой памяти, стрелял в свою жену и ребенка, после чего стрелялся сам. К счастью, все остались живы; все трое лежали в одном госпитале, и все трое поправились. Я навестил его жену – когда его перевели в тюрьму, – чтобы предложить ей помощь. Она наотрез отказалась. Заявила, что он подлейший, безжалостнейший сукин сын, двуногое отродье, и ей не терпится увидеть, как его повесят. Я уговаривал ее два дня, но она была непреклонна. Я ходил в тюрьму и разговаривал с ним через решетку. Оказалось, он уже приобрел популярность у администрации и пользовался особыми привилегиями. Он вовсе не был подавлен. Напротив, энергично готовился наилучшим образом использовать время тюремного заключения, «упражняясь» в торговом деле. Он имел намерение после освобождения стать лучшим торговцем в Америке. Наверное, я бы не ошибся, если бы сказал, что он выглядел счастливым. Он просил о нем не беспокоиться, заверил, что все у него образуется. Сказал, что все относятся к нему уважительно и жаловаться ему не на что. Я ушел от него в некотором изумлении. Отправился на ближайший пляж и решил искупаться. Я на все смотрел другими глазами. Я чуть не забыл, что нужно возвращаться домой, – так поглощен был размышлениями об этом парне. Разве можно сказать, что все, что с ним случилось, не пошло ему на пользу? Глядишь, он выйдет из тюрьмы не то что торговцем, а закоренелым евангелистом. Нельзя предугадать, что с ним станется. И нельзя ему помочь, ибо он творил свою судьбу сам, на свой собственный лад.
Или вот еще один парень, индус по имени Гуптал. Этот был не просто образец примерного поведения – он был святой. Он имел страсть к флейте, на которой играл сам для себя в своей маленькой жалкой лачужке. Однажды его нашли голым, с перерезанным от уха до уха горлом, рядом с ним на кровати лежала его флейта. На похоронах было человек десять женщин, и они обливались над ним горючими слезами, включая жену сторожа, который его и порешил. Я мог бы написать целую книгу об этом юноше, самом кротком, самом беспорочном человеке, какого я когда‑либо встречал, который никогда никого не обидел и никогда ничего ни у кого не отнял, но который совершил непоправимейшую ошибку, приехав в Америку сеять мир и любовь.
Или Дэйв Олински, еще один самоотверженный, трудолюбивый посыльный, который ни о чем, кроме работы, не думал. У него была одна слабость, ставшая для него роковой, – он слишком много молол языком. К тому времени, когда судьба свела его со мной, он уже не раз обошел вокруг света, а то, чем он не занимался, зарабатывая на жизнь, не заслуживает внимания. Он знал чуть ли не двенадцать языков и явно гордился своими лингвистическими познаниями. Он принадлежал к той породе людей, сам энтузиазм и безотказность которых были для них гибельны. Он с готовностью помогал всем кому ни попадя, всем разъяснял, как добиться успеха. Он проявлял гораздо больше усердия, чем от него требовалось, – не в меру жаден был до работы. Мне, наверное, следовало бы его предупредить, направляя в ист‑сайдскую контору, что ему придется работать в опасном соседстве, но он так старался произвести впечатление человека сведущего и так настаивал именно на этом районе (все из‑за своих лингвистических познаний), что я промолчал. Ладно, сказал я себе, ты быстро узнаешь, что почем. Так оно и вышло: едва приступив к работе, он вляпался в историю. Однажды к нему зашел хамоватый еврейский мальчишка из соседнего квартала и попросил бланк. Дэйв сидел за столом. Ему не понравилось, как тот к нему обратился. Он посоветовал ему быть повежливее. На что получил по уху. Отчего язык его стал молоть пуще прежнего, и тогда он получил удар такой силы, что чуть не подавился собственными зубами, а челюсть вообще раскололась натрое. Но он и теперь не понял, что пора заткнуть хайло. Как набитый дурак, что вполне соответствовало действительности, он поплелся в полицейский участок подавать жалобу. Неделю спустя, пока он дремал на скамеечке, банда хулиганов ворвалась в контору, и они превратили его в кровавое месиво. Череп у него был так раздолбан, что мозги напоминали недожаренный омлет. Для полного счастья они раскурочили и опустошили сейф. Дэйв умер по дороге в больницу. В носке у него нашли пятьсот долларов… Еще был Клаузен с женой Леной. Они явились вместе, когда он пришел наниматься на службу. У Лены на руках был грудной младенец, а двоих постарше он сам вел за руки. Ко мне их направили в каком‑то агентстве содействия безработным. Я взял его ночным посыльным, чтобы обеспечить ему фиксированное жалованье. Через несколько дней я получил от него письмо, идиотское письмо, в котором он просил не сердиться на него за то, что он не явился на службу, так как ему нужно было доложиться своему тюремному надзирателю. Потом следующее письмо, извещавшее о том, что его жена отказывается с ним спать, потому что не хочет больше иметь детей, так что не буду ли я любезен навестить их и уговорить его жену лечь с ним в постель. Я пришел к ним домой – в один из подвалов итальянского квартала. Там у них был целый сумасшедший дом. Лена снова беременна: примерно на седьмом месяце и на грани помешательства. Она приспособилась спать на крыше, так как в подвале слишком жарко, и еще она больше не хотела, чтобы он к ней прикасался. Когда я сказал, что теперь это уже не важно, она только взглянула на меня и осклабилась. Клаузен был на войне, и, наверное, это он от газа стал слегка пришибленным, – во всяком случае, рот у него вечно был в пене. Он заявил, что размозжит ей башку, если она не выкинет из головы эту крышу. Намекнул, что на крыше она спит, чтобы крутить там шуры‑муры с ютившимся на чердаке угольщиком. На это Лена вновь улыбнулась своей безрадостной жабьей улыбкой. Клаузен вышел из терпения и дал ей пинка. Она гордо вышла вместе со всем своим выводком. Вдогонку он прокричал, чтобы она катилась в тартарары. Потом открыл ящик и вытащил оттуда здоровенный кольт. Мало ли – вдруг пригодится, пояснил он. Еще он показал мне несколько ножей и что‑то вроде дубинки собственного изготовления. Потом расплакался. Сказал, что жена над ним издевается. Сказал, что ему надоело вкалывать ради нее, потому что она спит со всем кварталом. И дети у нее не от него, потому что он при всем желании не способен сделать ребенка. На следующий же день, пока Лена ходила на рынок, он затащил детей на крышу и вышиб им мозги той самой дубинкой, что мне показывал. После чего сам сиганул с крыши вниз головой. Когда Лена вернулась и увидела, что произошло, она лишилась рассудка. Пришлось надеть на нее смирительную рубашку и вызвать карету «скорой помощи»… Был штрейкбрехер Шульдиг, двадцать лет отбывавший наказание за преступление, которого не совершал. Его избили до полусмерти, прежде чем он сознался; потом одиночная камера, недоедание, пытки, извращения, наркотики. Когда его наконец выпустили, это был уже не человек. Как‑то вечером он поведал мне о последних тридцати днях, проведенных в тюрьме в агонии ожидания освобождения. Я никогда не слышал ничего подобного; я и не подозревал, что человеческое существо способно вынести такие муки. На свободе он был преследуем страхом, что его принудят совершить преступление и опять упекут за решетку. Он жаловался, что за ним следят, шпионят, постоянно держат на мушке. Говорил, что «они» провоцируют его совершить то, на что он не способен. «Они» – это ищейки, что висят у него на хвосте, которых подкупили, чтобы они помогли его посадить. По ночам, когда он спит, они нашептывают ему на ухо. Он бессилен против них, потому что его загипнотизировали. Иногда ему под подушку подкладывают наркотики, а в придачу – револьвер или нож. Они хотят, чтобы он убил какое‑нибудь невинное существо, чтобы на этот раз получить все основания выдвинуть против него серьезное обвинение. Ему становилось все хуже и хуже. Как‑то ночью, прошатавшись несколько часов по улицам с пачкой телеграмм в кармане, он подошел к полицейскому и попросил взять себя под стражу. Он не мог вспомнить ни своего имени, ни адреса, ни даже места работы. Он сделался абсолютно невменяемым. «Я невиновен… Я невиновен», – твердил он без умолку. И снова к нему применили допрос третьей степени. После очередной пытки он вдруг как с копыт сорвался. «Я все скажу… Я все скажу!» – заорал он благим матом и пошел наматывать на всю катушку. Преступление за преступлением. Это продолжалось часа три. Внезапно, в разгар своей душераздирающей исповеди, он вдруг умолк, озираясь по сторонам, как человек, которого неожиданно разбудили, затем, с быстротой и энергией, на какие способен лишь сумасшедший, одним прыжком метнулся через комнату и со всего маху впилился лбом в каменную стену… Эти происшествия я описываю кратко и торопливо, по мере того как они вспыхивают у меня в мозгу; моя память хранит тысячи подобных сюжетов, мириады лиц, жестов, историй, исповедей, и все они переплетаются и перемежаются подобно изумительному вращающемуся фасаду какого‑нибудь индуистского храма, сооруженного не из камня, но из опыта человеческой плоти, – здания исполинской мечты, целиком воздвигнутого из реальности, но реальности не как таковой, а как сосуда, скрывающего в себе тайну человеческого бытия. Память уносит меня в клинику, куда, по неведению и из добрых побуждений, я поместил для лечения кое‑кого из юнцов. Чтобы передать дух этого заведения, я не могу подобрать более выразительного образа, чем полотно Иеронима Босха, где в качестве гонителя безумия представлен чародей, похожий на дантиста, удаляющего живой нерв. Вся несостоятельность и знахарство наших ученых‑практиков достигла апофеоза в лице изощренного садиста, управляющего этой клиникой в полном соответствии с законом и при его попустительстве. Он был вылитый Калигари, не хватало только дурацкого колпака. Делая вид, будто разбирается в деятельности желез внутренней секреции, облеченный полномочиями средневекового монарха, не замечая, какую боль он причиняет, пренебрегая всем, кроме собственных медицинских познаний, он приступал к работе с организмом человека, как сантехник приступает к починке подземных коммуникаций. Кроме ядов, которые он впрыскивал в кровь пациентов, этот изверг прибегал и к помощи своих кулаков или коленей – смотря по ситуации. Во всех случаях диагноз был один – «реактивное состояние». Если жертва впадала в летаргический сон, он кричал, хлестал ее по лицу, щипал, колотил, пинал. Если жертва, наоборот, была слишком активна, он использовал те же методы, но с большей изощренностью. Ему все равно было, что чувствовал его подопечный; любое реактивное состояние, которого ему удавалось добиться, было простым выявлением и проявлением законов, регулирующих деятельность желез внутренней секреции. Цель его лечения – сделать подопечного пригодным для общества. Но не важно, сколь энергично он работал, не важно, добивался он успеха или не добивался, общество производило все больше и больше отбросов. Иные из этих никчемных существ оказывались до того социально неприспособленными, что когда для проверки пресловутой реакции он давал им ощутимую оплеуху, то получал в ответ либо аперкот, либо ногой по яйцам. Что верно, то верно: большинство его подопечных были именно теми, кем числились в истории болезни, – потенциальными уголовниками. Весь континент катился по наклонной плоскости – и теперь еще катится, – так что не только железы нуждаются в регуляции, но и шарикоподшипники, и арматура, скелетный состав, головной мозг, мозжечок, копчик, гортань, поджелудочная железа, печень, верхний кишечник и нижний кишечник, сердце, почки, яичники, матка, фаллопиевы трубы и черт‑знает‑что‑еще, вместе взятое. Вся страна неуправляема, брутальна, взрывоопасна, одержима. Это носится в воздухе, это в климате, в ультраграндиозном ландшафте, в полегших каменных джунглях, в стремительных реках, прорывающихся сквозь скалистые ущелья, в выше средних расстояниях, в высокогорных безводных пустынях, в сверхобильных урожаях, в исполинских плодах, в смеси донкихотских кровей, в нагромождении культов, сект, вероисповеданий, в противостоянии законов и языков, в противоречивости принципов, темпераментов, потребностей, запросов. Континент нашпигован погребенным насилием, костями допотопных чудовищ и вымерших человеческих рас, тайнами, окутанными мраком. Атмосфера бывает временами так накалена, что душа исторгается из тела и впадает в амок. Подобно тому, как разверзаются хляби небесные и разбушевавшаяся стихия все крушит на своем пути, – или наоборот. Весь континент – это огромный вулкан, кратер которого до поры до времени сокрыт непрерывно изменяющейся панорамой, сотканной на треть из мечты, на треть из страха, на треть из отчаяния. От Аляски до Юкатана картина одна и та же. Натура властвует, Натура побеждает. Везде один и тот же основополагающий побудительный мотив к умерщвлению, опустошению, грабежам. Снаружи это прекрасные, открытые люди – здоровые, жизнерадостные, отважные. Изнутри же они начинены червями. Крошечная искра – и они взорвутся.
Бывало и так – в России это не редкость, – что парнишка заходил с камнем за пазухой. Такие заводятся с пол‑оборота. В девяти случаях из десяти они оказываются славными малыми, каких все любят. Но в ярости они идут напролом. Их заносит, как взбесившуюся кобылу, и лучшее, что можно для них сделать, – это пристрелить на месте. Так всегда бывает с тихими, мирными людьми. Однажды они впадают в амок. В Америке они без конца впадают в амок. Что им нужно, так это дать выход своей энергии, утолить свою жажду крови. Европа регулярно орошается кровью войны. Америка – миролюбива и человекоядна. Снаружи она кажется соблазнительным медовым сотом, кишащим трутнями, которые наползают друг на дружку в припадке трудолюбия; изнутри же это настоящая бойня: каждый норовит забить ближнего и высосать его костный мозг. Неискушенному оку Америка представляется краем дерзновенной мечты и мужества; в действительности же это сущий бордель, где верховодят женщины и где сынам отечества отведена роль подлых прихлебателей и гнусных приживал, вынужденных торговать собственным телом. Никому не ведомо, что значит сидеть на яйцах и плевать в потолок. Так только в кино бывает, где все сплошная бутафория, даже сама геенна огненная. Весь континент погружен в глубокий сон, и в этом сне раскручивается чудовищный кошмар.
Наверное, никто не спал крепче меня в плену этого кошмара. Война, когда она началась, произвела лишь нечто вроде легкого шума у меня в ушах. Как и прочие мои соотечественники, я был миролюбив и человекояден. Миллионы, вовлеченные в кровавую бойню, ушли в туман, как некогда ушли те же ацтеки, те же инки, те же краснокожие индейцы и бизоны. Все вокруг казались глубоко потрясенными, но это так, одна видимость. Они просто ворочались во сне, укладываясь поудобнее. Ни один не лишился аппетита, ни один не восстал и не забил в набат. Впервые я осознал, что на самом деле была война, примерно шесть месяцев спустя после заключения перемирия. Случилось это в вагоне трамвая 14‑го маршрута. Один из наших героев – выходец из Техаса, увешанный наградами, – случайно увидел офицера, идущего по тротуару. Вид офицера вывел его из себя. Сам он был сержант, и почем знать, может, у него и впрямь имелись основания для возмущения. Как бы то ни было, вид офицера взбесил его до такой степени, что он сорвался с места и ну поливать говном правительство, армию, мирных жителей, пассажиров трамвая – всех и вся. Он сказал, что, если будет еще одна война, его туда и волоком не затащишь. Сказал, что сукой будет, если снова пойдет воевать; сказал, что ебать хотел ордена, которые на него навешали, и в подтверждение, что не шутит, сорвал все свои награды и вышвырнул их в окно; сказал, что, если вдруг ему еще раз доведется сидеть в окопах с офицером, он пустит ему пулю в спину, пристрелит, как паршивого пса, и что это относится и к генералу Першингу, и ко всем генералам, вместе взятым. Он много чего еще наговорил, перемежая свою речь любопытными бранными словечками, которые изобретал тут же на ходу, и никто не осмелился раскрыть хайло, чтобы его остановить. И когда он спустил пары, я впервые ощутил, что война была реальностью, и что человек, которого я слушал, в ней участвовал, и что, несмотря на всю эту браваду, война сделала его трусом, и что, случись ему совершить еще одно убийство, он сделал бы это хладнокровно, глазом не моргнув, и никто бы не взял на себя смелость посадить его на электрический стул, ибо он исполнял гражданский долг, что должно было перечеркнуть присущие ему священные инстинкты, и, стало быть, все прекрасно и справедливо, коль скоро одно преступление смывает другое во имя Господа, отчизны и человечества, мир да будет с вами. А второй раз я ощутил реальность войны, когда отставной сержант Гризуолд, один из наших ночных посыльных, как‑то вдруг слетел с тормозов и учинил небывалый погром в конторе на одной из железнодорожных станций. Его направили ко мне, чтобы вышвырнуть за ворота, но у меня рука не поднялась его уволить. Он представил до того восхитительный образчик разложения, что мне скорее пристало бы прижать его к груди и стиснуть в объятиях; я только о том и мечтал, чтобы он с Божьей помощью добрался до 26‑го, или какого там еще, этажа, где находились кабинеты президента и вице‑президента, и разобрался бы со всей их гнусной шоблой. Но во имя дисциплины и дабы подыграть – пусть непотребному – фарсу, я вынужден был как‑нибудь наказать его либо сам понести наказание, и, стало быть, не найдя ничего лучшего, я снял его с оплаты по труду и перевел на твердое жалованье. Он воспринял это в штыки, не понимая до конца моей позиции: то ли я на его стороне, то ли против, – и, стало быть, очень скоро я получил от него послание, в котором говорилось, что через день‑другой он собирается ко мне наведаться и что лучше бы я поостерегся, потому что он намерен вынуть из меня душу. Он писал, что явится по окончании часов присутствия и что если я боюсь, то лучше бы мне иметь при себе парочку бугаев для острастки. Я знал, что он не бросает слов на ветер, и мне, черт подери, стало даже как‑то не по себе, когда я покончил с письмом. Как бы то ни было, я ждал его один, полагая, что куда большей трусостью было бы просить выставить охрану. Странный это был случай. Должно быть, он в ту же секунду, когда навел на меня взгляд, прикинул, что если я и впрямь сукин сын и лживый, вонючий лицемер, как он окрестил меня в письме, то с меня и взятки гладки, – ведь он и сам дерьмо порядочное, если уж на то пошло. Должно быть, он в ту же секунду уразумел, что мы с ним в одной лодке и что эта треклятая лодка дала приличную течь. Мне стало ясно, что с ним что‑то неладно, едва он переступил порог, внешне еще взбешенный, еще с пеной у рта, но в душе уже вполне остывший, вполне мирный, готовый чуть ли не хвостом вилять. Что до меня, то весь мой страх моментально испарился, как только я его увидел. Уже то, что я пребывал в спокойном одиночестве, был явно слабее и вряд ли мог обороняться, давало мне фору. Не то чтобы мне это было нужно, отнюдь. Но так вышло, и я, натурально, не преминул этим воспользоваться. Только он уселся, как сделался мягким, что тебе оконная замазка. Передо мной был уже не мужчина, а всего лишь большой ребенок. Миллионы, должно быть, таких же, как он, больших детей с пулеметами в руках способны были ничтоже сумняшеся истребить целые полчища противников; но в тылу, на окопных работах, безоружные, не имея перед собой зримого, понятного врага, они становились беспомощными, как муравьи. Все сводилось к вопросам пропитания. Хлеб и кров – вот все, за что нужно было бороться, но как бороться – на сей счет указаний не было, не было и зримого, понятного пути. Это как видишь армию – мощную, отлично оснащенную, способную смести все, что попадется на глаза, но вынужденную согласно приказу отступать день за днем – отступать, отступать и отступать на потребу соображениям стратегии, пусть даже это влечет за собой потерю территории, потерю боеприпасов, потерю снаряжения, потерю провианта, потерю сна, потерю мужества, потерю самой жизни, наконец. Сколько бы люди ни боролись за хлеб и кров, им не уйти от этого беспросветного отступления – во мгле, во мраке, ни за что ни про что – исключительно на потребу соображениям стратегии. Вот что снедало его сердце. Бороться не составляло труда, но бороться за хлеб и кров – это все равно что сражаться с полчищами призраков. Все, что вы можете, – это отступать и, отступая, смотреть, как один за другим исчезают сраженные наповал ваши собратья – безмолвно, загадочно, во мгле, в ночи, – и ничего тут не попишешь. Он сидел такой смущенный, до того сбитый с толку, до того запутавшийся и раздавленный, что уронил голову на руки и оросил слезами мой стол. И пока он так рыдает, вдруг звонит телефон и «говорят из кабинета вице‑президента» – нет бы вице‑президент лично, а то ведь всегда из кабинета – и требуют, чтобы «известный вам Гризуолд» был незамедлительно уволен. Я отвечаю ДА, СЭР! и вешаю трубку. Ни словом не обмолвившись об этом Гризуолду, я иду к нему домой и обедаю с ним, его женой и малышами. А уходя от них, даю себе слово, что если только мне придется уволить этого беднягу, то кое‑кто у меня за это поплатится, и в любом случае для начала я желаю знать, от кого исходит приказ и на каком основании. И поутру, разгоряченный и неустрашимый, я влетаю в кабинет вице‑президента и требую, чтобы меня принял вице‑президент лично, и «Это вы отдали приказ, – спрашиваю, – и на каком таком основании?» И прежде чем он успевает собраться с мыслями, чтобы либо отменить приказ, либо изложить свои соображения, я рублю ему сплеча все как есть, ничуть не стесняясь в выражениях: «И если вас, мистер Уилл Твиллдиллигер, это не устраивает, то я дарю вам эту должность – свою должность, его должность, хотите – засуньте ее себе в жопу», – с чем и удаляюсь. Я возвращаюсь к себе на бойню и как ни в чем не бывало приступаю к работе. Готовый, разумеется, к тому, что не пройдет и часа, как меня попросят с вещами на выход. Но не тут‑то было. Напротив, звонит, к моему изумлению, генеральный директор и говорит – мол, брось ты, не бери в голову, поостынь, мол, все образуется, да‑да, образуется, и не надо предпринимать опрометчивых шагов, «мы обязательно разберемся» etc. Сдается мне, что они до сих пор разбираются, потому как Гризуолд по‑прежнему продолжал работать, фактически его даже повысили: перевели в разряд служащих, что тоже, в сущности, дрянь дело, так как на месте служащего он зарабатывал меньше, чем когда был посыльным, зато это сохранило ему чувство собственного достоинства, хотя в то же время вызвало у него еще большее негодование – уж это будьте уверены. Но так всегда бывает с этими пустозвонами, которые спят и видят себя героями. Если кошмар недостаточно жуток, чтобы заставить вас проснуться, значит ваше отступление идет полным ходом, и тогда кончаете вы либо под забором, либо вице‑президентом. Так или эдак – все едино: тот же ебаный бардак, тот же фарс, то же фиаско – от начала и до конца. Я знаю это как очевидец, потому что сам я пробудился. И как только я пробудился, я убрался оттуда подобру‑поздорову. Я вышел через ту же дверь, что и вошел, – и в том и в другом случае без вашего на то соизволения, сэр!
Всякое событие совершается в одно мгновение, но каждому предшествует длительный процесс. В момент свершения мы имеем только взрыв, а за секунду до него – искра. Но дела вершатся в соответствии с законом – в полном согласии с единым космосом и при полном его содействии. Прежде чем я смог собраться с духом и произвести взрыв, бомбу пришлось тщательно подготовить, тщательно затравить. После того как я привел в порядок дела этих вышестоящих ублюдков, с меня понадобилось сбить спесь, попинать меня, как футбольный мяч, понадобилось растоптать, раздавить, унизить, стреножить, обуздать, сделать беспомощным, как медуза. На протяжении всей своей жизни я как‑то не стремился заводить друзей, но тут вдруг они пошли плодиться, как грибы после дождя. У меня не оставалось ни секунды времени на себя. Когда я вечерами приходил домой в надежде немного отдохнуть, меня там непременно кто‑нибудь дожидался, горя желанием пообщаться. Иногда набивалась целая толпа, и всем, похоже, было без разницы, приду ли я вообще. Одна компания презирала другую. Стэнли, к примеру, презирал всех без исключения. Ульрик тоже относился к другим с изрядной долей пренебрежения. Он только что вернулся из Европы после нескольких лет отсутствия. Мы с детства почти не виделись и вот в один прекрасный день случайно встретились на улице. Тот день стал знаменательным днем в моей жизни, потому что он открыл мне новый мир – мир, о котором я столько грезил, но который никогда не надеялся увидеть воочию. Я живо помню, как мы до самых сумерек простояли на углу Шестой авеню и 49‑й улицы. Я это точно помню, потому что казалось совершенно немыслимым, стоя на углу Шестой авеню и 49‑й ул. Манхэттена, слушать рассказ об Этне и Везувии, о Капри и Помпее, о Марокко и Париже. Помню, как он все озирался по сторонам, пока говорил, с видом человека, который никак не может взять в толк, зачем он здесь, и все же смутно осознает, что, вернувшись, совершил ужасную ошибку. Его глаза будто бы все время говорили: пустое все это, пустое – как ни крути. Вслух же он ничего такого не произнес, вслух он то и дело повторял: «Я уверен, что тебе бы там понравилось! Поверь, для тебя это самое подходящее место!» Когда мы прощались, я стоял как завороженный. В следующий раз мы встретились довольно не скоро. Мне нужно было слышать об этом опять и опять – все до последней детали. Пожалуй, ничто из того, что мне доводилось читать о Европе, не шло ни в какое сравнение с тем блистательным репортажем, что я услышал из уст моего друга. Еще удивительнее казалось мне то, что вышли мы с ним из одной среды. Ему повезло: он имел состоятельных друзей и умел считать деньги. Я же никогда не водил знакомства с солидными людьми – с такими, кто мог позволить себе поездить по свету или имел счет в банке. Все мои друзья, как и я, день за днем дрейфовали по воле волн, никогда не задумываясь о будущем. О’Мара – да, тот лишку попутешествовал, чуть не весь мир исколесил, правда когда бродяжничал или еще когда служил в армии, что не в пример хуже бродяжничества. Мой друг Ульрик был первым из моих друзей, о ком я с гордостью мог сказать, что он‑то уж поколесил по белу свету. К тому же и рассказать умел о своих приключениях.
* * *
Благодаря той счастливой встрече на улице впоследствии мы стали видеться часто, и продолжалось это несколько месяцев. Обычно он заходил за мной к вечеру после ужина, и мы отправлялись прошвырнуться по соседнему парку. Что за жажда меня одолела! Каждая безделица из иного жизненного пространства приводила меня в восторг. Даже теперь, спустя годы, даже теперь, когда я знаю Париж как свои пять пальцев, картина того Парижа, что нарисовал мне Ульрик, все еще стоит у меня перед глазами, по‑прежнему живая, по‑прежнему реальная. Временами, проносясь в такси по омытому дождем городу, я ловлю мелькающие блики описанного им Парижа, едва уловимые проблески, когда, например, проезжаешь мимо Тюильри, или же блики Монмартра, Сакре‑Кер – в просвете Рю‑Лаффит с последней вспышкой зари в нисходящих сумерках. Где уж нам, шпане бруклинской? Это выражение он обычно употреблял, если вдруг испытывал неловкость за свое неумение выразиться более адекватно. Я ведь тоже был шпана бруклинская, а это, надо сказать, последний и ничтожнейший из смертных. Но сколько бы я ни странствовал по жизни, локтями пробивая себе путь, нечасто приходилось мне встречать человека, который мог бы столь же увлекательно и достоверно описывать то, что он видел и чувствовал. Нашим вечерам в Проспект‑парке я в большей степени, нежели чему‑либо еще, обязан тем, что оказался здесь. Большинство стран, описанных Ульриком, мне еще предстоит повидать; иные из них, быть может, я не увижу никогда. Но они живут во мне – теплые и яркие, какими он сотворил их, пока мы петляли по парку.
Во всю плоть и ткань лоуренсовских творений вплетены такие разговоры об иных жизненных пространствах. Бывало, парк уже пуст, а мы все сидим и сидим на скамейке, рассуждая о природе лоуренсовских идей. Теперь, вспоминая наши беседы, я понимаю, какая путаница была у меня в голове, как жалко я заблуждался по части истинного смысла лоуренсовских текстов. Если бы я вовремя его постиг, жизнь моя ни за что бы уже не пошла тем курсом, который она взяла. Почти каждый из нас проживает большую часть жизни под спудом. Конкретно в моем случае могу сказать, что и сам я всплыл на поверхность лишь после того, как покинул Америку. Америка тут, может, вовсе ни при чем, но факт остается фактом: окончательно я очнулся, только когда попал в Париж. Да и то, может, только потому, что отрекся от Америки, отрекся от своего прошлого.
Мой друг Кронски имел обыкновение язвить по поводу моих «эйфорий». Была у него подлая манера напоминать мне в минуты особенно бурного веселья, что денницу я снова встречу в депрессии. Что правда, то правда. Вечно меня бросало из крайности в крайность. Долгая полоса уныния и меланхолии сменялась экстравагантными всплесками веселья, трансоподобного воодушевления. Нет бы хоть на миг задержаться в той плоскости, где я мог быть самим собой. Странно сказать, но я никогда не бывал самим собой. Я бывал либо анонимом, либо персоной по имени Генри Миллер, возведенной в n‑ю степень. В последнем из упомянутых состояний я мог, например, едучи в трамвае, выложить Хайме всю свою книгу. Хайме, который никогда и в мыслях не держал, что я могу быть кем‑то, кроме скромного управляющего по найму. Как сейчас, вижу его глаза – как он уставился на меня однажды вечером, когда я пребывал в одной из пресловутых «эйфорий». Мы сели в трамвай у Бруклинского моста, чтобы закатиться в одну квартирку в Гринпойнте, где в надежде нас поиметь дожидалась парочка потаскушек. Хайме, как водится, завел речь о яичниках своей жены. Во‑первых, он в точности не представлял себе, зачем они нужны, так что я принялся, не стесняясь в выражениях, объяснять ему, что к чему. В разгар своих разглагольствований я вдруг осознал всю глубину трагического и комического в том, что Хайме не знает, что такое яичники, и тогда я просто опьянел – опьянел, то есть так, будто заложил за галстук добрую кварту виски. В один молниеносный миг идея больных яичников разрослась в какое‑то экзотическое растение, представлявшее собой наигетерогеннейшее множество обрывков и ошметков, среди которых надежно, даже, пожалуй, намертво, обосновались, с позволения сказать, Дант и Шекспир. В ту же секунду я столь же внезапно восстановил цепочку моих собственных мыслей, возникшую где‑то в середине Бруклинского моста и неожиданно распавшуюся при слове «яичники». Я осознал, что все, что Хайме наговорил до слова «яичники», просочилось сквозь меня, как сквозь сито. А начал я посередине Бруклинского моста то же, что не раз уже начинал когда‑то в прошлом, – обычно по дороге в ателье отца: то было действо, повторявшееся изо дня в день, словно в трансе. Короче, я начал часослов – книгу скуки и однообразия моей жизни на общем фоне бешеной активности. Не то чтобы я годами обдумывал эту книгу, писавшуюся, как водится, по дороге от улицы Деланси до Мюррей‑Хилл. Но когда на закате дня плывешь по мосту и небоскребы светятся, будто фосфоресцирующие трупы, чередой накатывают воспоминания о прошлом… воспоминания о том, как я езжу через мост: по пути на работу, то есть в смерть, и домой, то есть в морг; как я воскрешаю в памяти «Фауста», глядя вниз на кладбище; как плюю туда из вагона надземки; вот все тот же постовой на платформе каждое утро, вот какой‑то полудурок, вот другие полудурки, уткнувшиеся в свои газеты, вот все новые небоскребы – новые склепы: работай в них и в них же умирай; вот скользящие под тобой суда: Фолл‑Ривер‑Лайн, Олбани‑Дэй‑Лайн; для чего мне надрываться, что меня ждет сегодня вечером – теплая пизда под боком? – а сумею ли я как следует всадить ей промеж ляжек… беги, стань ковбоем, подайся на Аляску, на золотые прииски, брось, пойди на новый виток, погоди умирать, дождись нового дня, подарка судьбы… река, кончай с этим, долой, долой, штопором вниз головой, по пояс в тину, ноги болтаются – рыбка подплывет и клюнет; завтра новая жизнь, где – да хоть где, зачем опять по новой, везде одно и то же, смерть, смерть – разрешение, но погоди пока умирать, дождись нового дня, подарка судьбы, нового лица, нового друга, миллиона шансов, ты еще слишком молод, у тебя меланхолия, да погоди ты умирать, дождись нового дня, подарка судьбы, переебешься как‑нибудь – и вперед, через мост, в стеклянный парник; все – муравьи, черви – сплошным липким потоком расползаются из мертвого древа, а с ними расползаются и их мысли… Быть может, находясь в вышине меж двух берегов, зависнув над уличной кутерьмой, над жизнью и смертью, над высотными склепами, сияющими по обе стороны в лучах умирающего дня, над безмятежно текущей рекой, все текущей и текущей, как само время, быть может, каждый раз, когда я оттуда ускользал, что‑то во мне пробуксовывало, понуждало вобрать это в себя, заявить о себе; во всяком случае, каждый раз, как я проплывал в вышине, я бывал поистине одинок, и, когда бы это ни происходило, книга начинала писаться сама собой, пронзительно возглашая вещи, каких я никогда не произносил даже шепотом, мысли, каких я никогда не высказывал, беседы, каких я никогда не вел, надежды, призрачные сны, мечты, каких я никогда не лелеял. Если такова была тогда моя истинная сущность, то она была чудесна, и, сверх того, она будто бы никогда не претерпевала изменений и всегда восстанавливалась после очередной мертвой точки, чтобы возобновиться в той самой жилке, в жилке, которую я надорвал, когда ребенком шел по улице, впервые один, и увидел в канаве вмерзшую в грязный лед дохлую кошку – впервые я воочию увидел смерть и постиг ее. С той минуты я узнал, что значит находиться в изоляции: каждый предмет, каждое живое существо и каждое мертвое существо влачат свое независимое существование. Мысли мои тоже влачили независимое существование. Внезапно, пока я глядел на Хайме и думал об этом странном слове – «яичники», более странном тогда, чем любое другое слово во всем моем лексиконе, на меня нахлынуло именно это чувство ледяной изоляции, и Хайме, сидевший рядом, был уже не Хайме, а лягушка‑бык – лягушка‑бык и никто другой. Я совершал прыжок с моста вниз головой, туда, в девственный ил, ноги сияют и ждут клева; подобным образом Сатана низринулся сквозь небесные сферы, сквозь земную твердь, головой вонзаясь в самый пуп земли, в наимрачнейшую, наигустейшую, наираскаленнейшую преисподнюю. Я шел по пустыне Мохаве, и спутник мой ожидал наступления темноты, чтобы напасть на меня и умертвить. Я снова шел по Стране Грез, и какой‑то человек шел надо мною по канату, а над ним другой человек сидел в аэроплане, пуская в небо буквицы дыма. Женщина, повисшая у меня на руке, была беременна, и через шесть‑семь лет плод, который она вынашивает, сумеет прочесть буквицы в небе, и он, или она, или оно, узнает, что это реклама сигарет, и позднее закурит сигарету, выкуривая, быть может, по пачке в день. В утробе на каждом пальчике формируются ногти – на руках и ногах; здесь можно было бы поставить точку, на ноготке ступни, самом крохотном ноготке, какой только можно себе представить, а можно и лоб расшибить, пытаясь во всем этом разобраться. По одну сторону надгробной плиты суть книги, писанные смертными, содержащие такое рагу из мудрости и вздора, из правды и лжи, что, проживи даже кто до Мафусаиловых лет, и то не сможет отделить существенное от незначительного; по другую сторону плиты суть такие предметы, как ноготки на пальцах ступни, волосы, зубы, кровь, яичники, если угодно, – все, что не поддается исчислению, и все это писано иного цвета чернилами, иного рода письмом – письмом непостижимым, не поддающимся дешифровке. Глаза лягушки‑быка вперились в меня, как пара запонок, вдавленных в застывший жир; они сидели в сизом налете на девственном иле. Каждая запонка – это отторгнутая и вышедшая наружу яйцеклетка, иллюстрация из словаря, непригодная для ночных бдений; потускневший в желтом застывшем жире глазного яблока каждый вдавленный яичник испускал пещерный хлад, представляя зрелище адского скейтинг‑ринка, где во льду вниз головой застряли люди и ноги их торчали снаружи в ожидании клева. Вот никем не сопутствуемый прошествовал Дант, согбенный бременем своего всевидения, совершая по нескончаемым кругам постепенное восхождение к небу, чтобы возвеличиться в своем творении. Вот Шекспир с ясным челом ввергнулся в пучину буйной фантазии, чтобы всплыть в изысканных ин‑кварто и репликах в сторону. Сизоватый налет непонимания был начисто смыт волной хохота. Преисподняя глазниц лягушки‑быка лучилась теперь сверкающей белизны спицами искрящейся радости, не требующей ни аннотации, ни классификации, не требующей ни нумерации, ни точного определения, – вращаясь, они сливались в калейдоскопической пестроте. Хайме – лягушка‑бык – являл собой яичниковый корчеватель, зачатый в высоком пролете меж двух берегов: это для него возводились небоскребы, выскабливалась девственная природа, истреблялись индейцы, отлавливались бизоны; для него соединялись Бруклинским мостом города‑близнецы, затоплялись кессоны, от башни к башне протягивались провода; для него в небе кувыркались люди, выписывая слова огнем и дымом; для него были изобретены и обезболивающее, и дорогостоящие хирургические пинцеты, и Большая Берта, способная разрушить то, что недоступно глазу; для него была расщеплена молекула и открыт атом, могущий существовать вне субстанции; для него еженощно шныряли по звездному небу телескопы и нарождающиеся миры запечатлевались на пленку в процессе созревания; для него сводились на нет барьеры времени и пространства и всякое движение, будь то полет птицы или вращение планет, неоспоримо и неопровержимо истолковывалось верховными жрецами низложенного космоса. И вот, как и посередине моста, посередине прогулки, посередине всего – будь то книга, разговор или занятия любовью, – на меня снова стало давить, что я никогда не делал того, что хотел, и вот оттого‑то, что я не делал того, что хотел, во мне и выросла эта тварь – то самое фантасмагорическое растение, некое подобие кораллового нароста, которое отнимало все, и жизнь в том числе, пока жизнь сама не стала этим – тем, что отвергалось и все же упорно отстаивало свои права, порождая жизнь и убивая жизнь одновременно. Я готов допустить, что жизнь продолжается после смерти, подобно тому как на трупе продолжают расти волосы; люди констатируют смерть, тогда как волосы свидетельствуют жизнь, и в конце всего не смерть, а эта жизнь волос и ногтей: тело остыло, дух угас, но в смерти еще что‑то живет, отторгая пространство, подчиняя время, возбуждая вечное движение. Любовь принесет эта ночь, печаль или рождение хромоногого существа, причина – ничто, случай – все. В начале было Слово… И что бы ни значило оно, это Слово, – болезнь ли, созидание, – громогласное, оно разносится и ныне; оно будет разноситься и впредь, обгоняя пространство и время, переживая ангелов, низвергая Бога, вспарывая мироздание. Любое слово вмещало в себя сразу все слова – для него, того, кто через любовь ли, через страдание или еще по какой причине обособился от мира. В каждом слове поток устремлялся назад, в начало, которое было утеряно и которого уже не найти, ибо нет ни начала, ни конца – есть лишь то, что выражает себя через начало и конец. Так вот, стало быть, в трамвае‑яичнике продолжали свое странствие человек и лягушка‑бык, вылепленные из одного теста, отнюдь не лучшего, но и не худшего, чем Дант, однако бесконечно разные: один – явно не понимавший смысла ни в чем, другой – слишком ясно понимавший смысл во всем, следовательно, оба блуждавшие и плутавшие среди начал и окончаний, чтобы в итоге осесть где‑нибудь на Яве или на Индиа‑стрит в Гринпойнте, а там опять окунуться в жизнь – так называемую – с легкой руки двух набитых опилками халд с трепыхающимися яичниками, принадлежавших к небезызвестному отряду брюхоногих.
Что кажется мне сейчас превосходнейшим доказательством моего соответствия – или несоответствия – времени, так это то, что я не имел никакого мало‑мальски существенного интереса ни к тому, о чем писалось, ни к тому, о чем говорилось вокруг. Только конкретный предмет вдохновлял меня – изолированная, обособленная, ничего не значащая вещь. Это могла быть и часть человеческого тела, и лестница в бурлеск‑театре; это мог быть дымоход или пуговичка, найденная мною в канаве. Не важно, что это была за вещь, но как раз она‑то меня и обезоруживала, как раз она‑то и побуждала меня признать себя побежденным, побуждала отдать за нее свой голос. За жизнь, окружавшую меня, за людей, создавших тот мир, что я знал, я ни за что бы не отдал свой голос. Я так же определенно находился за гранью их мира, как людоед – за гранью цивилизованного общества. Я был исполнен какой‑то противоестественной любви к вещи в себе – не какой‑то там философской тяги, но страстного, животного голода, словно в ней, в этой невостребованной, никому не нужной, всеми пренебрегаемой вещи, и заключался секрет моего собственного перерождения.
Живя в обществе, пышущем здоровьем новизны, я всеми силами цеплялся за старое. В каждом предмете имелась какая‑нибудь ничтожно малая частица, которая особенно привлекала мое внимание. Я обладал чувствительностью микроскопа в том, что касалось неполноценности, зачатков уродства, в которых, по мне, и состояла исключительная красота предмета. Все, что выделяло предмет, что делало его непригодным или устаревшим, привлекало меня к нему и повышало в моих глазах его ценность. Может, это и извращение, но извращение здоровое, если учесть, что мне не суждено было сродниться с той жизнью, что бурлила вокруг. Скоро я и сам, подобно тем предметам, перед которыми я так благоговел, стану посторонней вещью, пойду в расход. Спору нет – я безнадежно устарел. Однако я по‑прежнему был способен развлекать, давать советы, проявлять заботу и внимание. Но упаси бог, чтобы я всерьез старался вызвать к себе расположение. Если уж очень захочется, если приспичит, я всегда могу выбрать наугад любого человека из любого слоя общества и заговорить его до полусмерти. Если уж на то пошло, я могу держать человека во власти своих чар сколь угодно долго, хотя, как и любой волшебник или чародей, пока лишь я сам в ударе. Подспудно я ощущал в других какое‑то недоверие, подозрительность, антагонизм, каковые в силу их инстинктивности были неизлечимы. Пожалуй, мне надо было стать клоуном – это обеспечило бы мне широчайшие просторы для самовыражения. Но я недооценил эту профессию. Будь я клоуном или хотя бы конферансье, я бы точно прославился. Вот тогда меня бы оценили, потому что меня бы не поняли; зато всем бы стало понятно, что я для того и создан, чтобы быть непонятым. То‑то было бы облегчение, если не сказать больше.
Для меня всегда было постоянным источником изумления, как легко люди выходили из себя, слушая мои бредни. То ли это манера у меня такая экстравагантная, хотя порой это случалось еще до того, как я пускал в ход свои главные козыри. Построение фразы, какое‑нибудь злополучное прилагательное, легкость, с которой слова слетали с моих уст, затрагивание табуированных тем – все, как нарочно, цеплялось одно за другое, чтобы выставить меня враждебным, социально чуждым элементом. Как бы хорошо все ни начиналось, рано или поздно меня все же расчухивали. Если я, к примеру, был робок и неловок, значит чересчур робок, чересчур неловок. Если я был весел и непредсказуем, дерзок и напорист, значит не в меру весел, не в меру раскован. Мне никогда не удавалось держаться с собеседником вполне аи point.[28] Если это не было вопросом жизни и смерти – а в то время для меня все было вопросом жизни и смерти, – если речь заходила просто о приятно проведенном вечере в гостях у кого‑то из знакомых, – это дела не меняло. От меня исходили вибрации, обертоны и полутона, которые неприятным образом заряжали атмосферу. Целый вечер общество могло наслаждаться моими историями, я мог доводить всех до колик, как оно порой и случалось, – все будто бы предвещало только хорошее. И, однако, непременно что‑нибудь да происходило, прежде чем вечеринка подходила к концу: какая‑нибудь вибрация вырывалась на волю и заставляла звенеть хрусталь на люстре или же вызывала у какой‑нибудь чувствительной души воспоминания о ночном горшке под кроватью. Не успевал еще заглохнуть смех, а яд уже давал о себе знать. «Надеюсь при случае вновь увидеть вас», – говорили они, но влажные, липкие ладони, протягиваемые мне на прощание, опровергали сказанное.
Persona поп grata![29] Господи, до чего же теперь все мне кажется ясным! Никакой возможности свободного выбора: бери что дают и учись довольствоваться этим. Учись жить среди подонков, учись плавать, как канализационная крыса, а не то захлебнешься в нечистотах. Если решишься примкнуть к стаду, ты спасен. Чтобы тебя признали и оценили, ты должен уничтожить себя под ноль, должен слиться со стадом. Можешь мечтать, если будешь мечтать в ногу со всеми. Но как только ты начинаешь мечтать о чем‑то особенном, то ты уже не в Америке американец – американский американец, – а готтентот в Африке или калмык, а то и шимпанзе. Как только у тебя появляется «инако»‑мысль, ты тут же перестаешь быть американцем. И в ту же секунду, как только в тебе появляется что‑то особенное, ты сразу оказываешься на Аляске, на острове Пасхи, а то и в Исландии.
Говорю ли я это по злобе, из зависти, из ревности? Быть может. Быть может, я жалею, что не смог сделаться американцем. Быть может. В своем фанатизме, каковой опять же американского происхождения, я уже почти готов выродить монструозную структуру, своего рода небоскреб, который, без сомнения, долго еще простоит после того, как исчезнут другие небоскребы, но который тоже исчезнет, как только исчезнет то, что его породило. Все американское исчезнет в один прекрасный день, причем исчезнет гораздо основательнее, чем исчезло греческое, римское или египетское. Это лишь одна из тех идей, что вытолкнули меня из теплого уютного кровопотока, где, совершеннейшие бизоны, мы мирно паслись когда‑то. Это идея, которая стала причиной моей беспредельной тоски, ибо ощутить себя отторгнутым от чего‑то надежного – это мука адская. Но я не бизон и быть им не имею ни малейшего желания. Я даже не духовный бизон. Я слинял, чтобы снова влиться в извечный поток сознания, слиться с расой, предшествовавшей бизонам, с расой, которая переживет бизонов.
Все вещи, все предметы, как одушевленные, так и неодушевленные, будучи непохожими, наделены неискоренимыми характерными признаками. То, что есть я, – неискоренимо, ибо оно не похоже ни на что другое. Это, как я уже сказал, небоскреб, но он не похож на обычный небоскреб à l’américaine. В этом небоскребе нет лифтов, нет окон 73‑го этажа, из которых можно выброситься. Если вы устали подниматься, значит вам чертовски не повезло. В главном вестибюле никаких указателей. Если вы кого‑нибудь ищете, вам придется поискать самому. Если вам захочется пить, вам придется выйти; нет в этом здании ни тележек с газированной водой, ни табачных киосков, нет и телефонных будок. В любом другом небоскребе есть все, что нужно вам! – в этом же имеется лишь то, что нужно мне, что угодно только мне. И где‑то в этом же небоскребе приютилась Валеска, и мы еще доберемся до нее, когда ее призрак меня потревожит. На данный момент она в полном порядке, Валеска, учитывая, что она там, в шести футах под землей, и уже, наверное, дочиста обглодана червями. Когда она была еще из плоти и крови, ее тоже обгладывали дочиста – человекообразные черви, не имеющие никакого уважения к тому, что отличается цветом и запахом.
В отношении Валески имелось одно печальное обстоятельство – это ее негритянская кровь. Что угнетающе действовало на всех, кто попадал в ее орбиту. Она ставила вас об этом в известность, хотели вы того или нет. О своем негритянском происхождении, как я уже сказал, и о том, что мать у нее проститутка. Мать, разумеется, белая. Кто отец, не знал никто, даже сама Валеска.
Все шло гладко, пока ее случайно не вычислил один услужливый еврейчик из приемной вице‑президента. Ему и подумать страшно, поведал он мне с глазу на глаз, что я взял себе секретаршу из цветных. Она, дескать, может перезаразить всех посыльных. На следующий день меня вызвали на ковер. Все было так, будто я совершил святотатство. Разумеется, я сделал вид, что не заметил в ней ничего особенного, кроме того, что она чрезвычайно умна и чрезвычайно способна. В конце вмешался сам президент. Между ним и Валеской состоялась коротенькая беседа, в ходе которой он весьма дипломатично предложил ей лучшее место в Гаване. Ни слова о подпорченной крови. Просто, видите ли, она замечательно справляется со своими обязанностями, и они хотели бы ее повысить – в Гавану. В контору Валеска вернулась в бешенстве. Она восхитительна, когда злится. Заявила, что не двинется с места. Стив Ромеро и Хайме тоже были там, и мы все вместе отправились поужинать. За вечер мы слегка накачались. Валеска болтала без умолку. По пути домой она сказала, что собирается затеять скандал и хочет знать, не будет ли у меня из‑за этого неприятностей. Я спокойно заявил ей, что тоже уйду, если ее уволят. Сначала она вроде даже не поверила. Я сказал, что и так собирался и что мне на все начхать. Это, наверное, окончательно ее убедило: она взяла мои руки в свои и пожала их – очень нежно, и по щекам у нее ручьями покатились слезы.
Это было начало всего. Кажется, на следующий же день я сунул ей записку, в которой написал, что я от нее без ума. Она читала эту записку, сидя тут же напротив меня, и, когда дочитала до конца, сделала квадратные глаза и сказала, что не верит. Но в тот вечер мы снова пошли вместе поужинать; пито было много, и мы танцевали, а когда танцевали, она похотливо ко мне прижималась. Это было накануне того дня, когда жена моя, как назло, готовилась сделать очередной аборт. Я рассказал об этом Валеске, пока мы танцевали. По пути домой она вдруг сказала: «А что, если я одолжу тебе сотню долларов?» На следующий вечер я привел ее ужинать к себе домой и позволил ей вручить моей жене сто долларов. Я был приятно удивлен, как быстро они поладили. Прежде чем разойтись, мы договорились, что Валеска в день аборта придет к нам посидеть с малышкой. День настал, и я отпустил Валеску пораньше. Примерно час спустя после того, как она ушла, я решил, что надо бы и мне свалить пораньше. Я пошел по дороге к бурлеск‑театру на Четырнадцатой улице. Не доходя квартала до театра, я все‑таки передумал. Просто у меня мелькнула мысль, что если вдруг что случится, ну, там, если жена коньки отбросит или что, то хорош бы я был, черт меня дери, если бы провел эти полдня в бурлеск‑театре. Я немного прогулялся, прошелся взад‑вперед по дешевым торговым рядам, после чего отправился домой.
Странно как все обернулось. Пытаясь что‑нибудь придумать, чтобы развлечь дочурку, я вдруг вспомнил фокус, который в детстве мне показывал дед. Берешь домино и выстраиваешь из них высоченные боевые корабли; потом начинаешь тихонько потягивать скатерть, по которой «плывут» корабли, и тянешь, пока они не окажутся на краю стола, тут ты резко дергаешь – и все они летят на пол. Мы проделывали это снова и снова – все втроем, – пока малышка, умаявшись, не утопотала в соседнюю комнату и заснула. Скатерть валялась на полу, домино тоже. Валеска неожиданно перегнулась через стол, язык ее наполовину очутился у меня во рту, а моя рука – у нее между ног. Как только я завалил ее на стол, она тут же обвила меня ногами. У меня под ступней оказалась одна из доминошек – часть флотилии, которую мы разбивали, наверное, раз десять, если не больше. Я вспомнил своего деда; вспомнил, как он однажды предостерегал мою мать, что я слишком мал, чтобы мне столько читали; вспомнил его задумчивый взгляд, когда он прижимал утюг, отпаривая шов на пальто; вспомнил атаку на Сан‑Хуан‑Хилл, предпринятую берейторами; вспомнил картинку из большой книги, на которой изображен Тедди, увлекающий за собой своих волонтеров, – этой книгой я зачитывался, примостившись у дедовского верстака; я вспомнил линкор «Мэн», который плыл над моей кроватью в маленькой комнатке с зарешеченным окном, вспомнил адмирала Дьюи, Шлея и Сэмпсона; вспомнил о путешествии на корабельную верфь, которого я так и не совершил, потому как на полпути папа вдруг вспомнил, что в тот день нам надо было к доктору, и, когда я вышел от доктора, у меня не было уже ни миндалин, ни веры в человеческие существа… Едва мы закончили, как раздался звонок, – это моя жена вернулась со своей живодерни. На ходу застегивая ширинку, я побежал открывать входную дверь. Жена была белая как мел. Весь ее вид говорил о том, что больше ей такого не вынести. Мы уложили ее в постель, потом собрали домино и расстелили скатерть. На следующий вечер в bistrot я увидел по пути в туалет двух парней, играющих в домино. Улучив момент, я сцапал одну доминошку. От соприкосновения ее с ладонью в памяти мгновенно воскресли боевые корабли, звук, который они производили, рассыпаясь по полу, а вместе с боевыми кораблями и мои пропавшие миндалины, и моя утраченная вера в человеческие существа. Так что всякий раз, когда я пересекал Бруклинский мост и взирал на корабельную верфь, меня начинало выворачивать наизнанку. Там, наверху, зависнув меж двух берегов, я всегда испытывал такое чувство, будто я вишу над пустотой; там все, что когда‑либо происходило со мной, казалось ирреальным, нет, хуже, чем ирреальным, – необязательным. Вместо того чтобы соединить меня с жизнью, с людьми, с их жизнедеятельностью, мост почему‑то обрубал все и всяческие связи. Направлялся ли я на тот берег, на другой ли – разницы никакой: оба пути вели в ад. Не знаю как, но я умудрился порвать с миром, который создавался людскими руками и людскими умами. Прав был, наверное, мой дед… наверное, я и впрямь с малолетства отравлен книжками, которые читал. Но книги меня лет сто уже как не волнуют. Практически я давно уже перестал читать. Хотя зараза эта во мне все еще сидит. Только теперь моими книгами стали люди. Я прочитываю их от корки до корки и выбрасываю вон. Я пожираю их – одного за другим. И чем больше я читаю, тем ненасытнее становлюсь. И нет этому конца. Не может быть, да и не будет, пока во мне самом не начнет формироваться мост, способный воссоединить меня с потоком жизни, из которого еще ребенком я был вынут.
Жуткое чувство обособленности. Оно давило на меня многие годы. Если бы мне дано было верить в звезды, я бы ни на миг не усомнился, что целиком и полностью нахожусь под влиянием Сатурна. Что бы со мной ни происходило, происходило слишком поздно, чтобы что‑то для меня значить. Так было и с моим появлением на свет. Заготовленный на Рождество, я родился получасом позже. Мне всегда казалось, что по идее я должен стать такого рода личностью, какой и полагается быть тому, кому волею судьбы выпало родиться в 25‑й день декабря. В этот день родился адмирал Дьюи, а также и Иисус Христос… вроде бы и Кришнамурти тоже, если память мне не изменяет. Во всяком случае, таким я и собирался стать. Но поскольку у моей матери оказалась слишком цепкая матка и она держала меня в своих нетях, как осьминог, я появился на свет уже под новой конфигурацией небесных светил, иными словами, я родился со сдвигом. Говорят – астрологи, я имею в виду, – что со временем у меня все образуется, что в будущем меня якобы ждет слава. Но что мне до будущего? Лучше бы моя мать в утро 25 декабря упала с лестницы и свернула себе шею: вот тогда бы я взял отличный старт! И теперь, пытаясь понять, где возник сбой, я все дальше и дальше углубляюсь в прошлое и не успокоюсь до тех пор, пока не останется никакого другого тому объяснения, кроме как мое запоздалое появление на свет. Видимо, даже моя хлесткая на язык мать до некоторой степени это понимала. «Вечно плетешься сзади, как коровий хвост!» – вот как она меня припечатала. Но разве моя вина в том, что мать держала меня запертым в своем лоне, пока не минет тот час? Мне был уготован жребий стать такой‑то и такой‑то личностью: звезды ладили между собой, я ладил со звездами, – и все же я пролетел. У меня не было выбора в отношении матери, которой суждено было произвести меня на свет. Может, принимая во внимание все обстоятельства, мне еще и повезло, а то родился бы каким‑нибудь кретином. Как бы то ни было, ясным представляется одно – и это восходит к 25‑му числу, – что родился я с комплексом распятия. То есть, если быть более точным, я родился фанатиком. Фанатиком! Помнится, слово это ругательством изрыгалось в мой адрес с самого детства. Особенно родителями. Что такое фанатик? Фанатик – это тот, кто страстно верит и, отталкиваясь от того, во что он верит, совершает отчаянные поступки. Я всегда во что‑то верил, из‑за чего постоянно нарывался на неприятности. Чем больше меня щелкали по носу, тем тверже становилась моя вера. Я верил, а целый мир – нет! Ладно бы вопрос был лишь в суровости наказания, которое можно до конца претерпеть во имя веры, но ведь мир поступает гораздо коварнее. Нет чтобы просто подвергнуть тебя наказанию – вместо этого тебе строят козни, тайно вредят, выбивая почву из‑под ног. Это даже не предательство – то, что я имею в виду. Предательство понятно, и ему можно противостоять. Нет, это нечто худшее, нечто более мелкое, нежели предательство. Это какой‑то негативизм, неприятие действительности, в силу которого вы слишком много на себя берете. Вы тупо расходуете свои силы на то, чтобы удержать равновесие. Вы испытываете нечто вроде духовного головокружения, вы топчетесь на гребне, рискуя сорваться, волосы у вас стоят дыбом, вам не верится, что под ногами у вас бездонная пропасть. Это происходит от избытка энтузиазма, из страстного желания обнять весь мир, всем выказать свою любовь. Чем упорнее вы тянетесь к миру, тем стремительнее отступается он от вас. Кому нужна истинная любовь, истинная ненависть? Кому нужно, чтобы вы копались своими руками в его священных внутренностях? Это позволено лишь служителю культа в час жертвоприношения. Пока ты жив, пока теплится в жилах кровь, будь любезен делать вид, что под кожным покровом у тебя нет ничего похожего на кровь, ничего похожего на кости. По газонам ходить воспрещается! Вот девиз, под которым живут люди.
Продолжая балансировать на краю пропасти достаточно долго, приобретаешь кое‑какие навыки: с какой бы стороны на тебя ни давили, ты всегда выпрямишься. Находясь в состоянии постоянного крена, ты обнаруживаешь дикую веселость, противоестественную веселость, я бы сказал. В нынешнем мире есть только два народа, которым понятен смысл сказанного, – это евреи и китайцы. Если ты не принадлежишь ни к тем ни к другим, то попадаешь в категорию чудаков. Смеешься вечно невпопад; слывешь жестоким и бессердечным, тогда как в действительности всего лишь проявляешь твердость и непреклонность. Но если будешь смеяться, когда все смеются, и плакать, когда все плачут, так уж будь любезен и умереть, как все умирают, и жить, как все живут. А это значит быть правильным и все же оставаться внакладе. То есть быть мертвым при жизни, а живым – только после смерти. В такой компании мир, конечно же, покажется нормальным, даже в самых ненормальных условиях. Само по себе ничто не бывает правильным или неправильным, – это мышление делает его таковым. Вы больше не полагаетесь на действительность – вы полагаетесь исключительно на мышление. Но когда вы срываетесь с мертвой точки и летите в бездну, мысли ваши следуют вместе с вами, только вот пользы вам от них уже никакой.
В известном смысле – в глубинном, я имею в виду, – Христос никогда не срывался с мертвой точки. Только он начинал терять равновесие и его, будто под действием мощной отдачи, начинало перетягивать в бездну, как тут же накатывала эта самая отрицательная волна и оттягивала его смерть. Будто весь отрицательный выплеск человечества свертывался в исполинскую инертную массу, чтобы вывести человеческий интеграл, единицу – единую и неделимую. Это и было воскресением, которое невозможно объяснить, если не признать, что людям всегда было свойственно желание и готовность идти наперекор судьбе. Постоянно видоизменяется земля, постоянно видоизменяются звезды, человечество же – огромная людская масса, составляющая сей бренный мир, – завязло в облике одного и только одного.
Если ты не распят, подобно Христу, если тебе удается выжить и продолжать жить поверх и за гранью чувства никчемности и безысходности, то получается следующая любопытная вещь. Это как если бы ты воистину умер и затем воистину воскрес; и вот ты живешь сверхнормальной жизнью – как китайцы. То есть ты противоестественно весел, противоестественно здоров, противоестественно спокоен. Трагическое чувство исчезает: живешь себе как цветок, дерево, камень – в согласии с Природой и в то же время Природе вопреки. Если умирает твой закадычный друг, ты даже не удосуживаешься пойти на похороны; если на улице прямо на твоих глазах какого‑то прохожего сбивает автомобиль, ты проходишь мимо как ни в чем не бывало; если начинается война, ты провожаешь на фронт своих друзей, но сам не проявляешь ни малейшего интереса к кровопролитию. И так далее, и так далее. Жизнь превращается в спектакль, и если тебе выпала участь родиться творческой личностью, ты запечатлеваешь происходящее шоу. Одиночество упраздняется, поскольку разрушены все ценности, включая твои собственные. Процветает одно сострадание, но это не человеческое сострадание: человеческое сострадание предельно; это же – что‑то уродливое и порочное. Тебе всё настолько до лампочки, что ты запросто можешь принести себя в жертву – кому угодно или чему угодно. В то же время твой интерес, твое любопытство достигает невиданного размаха. А это инструмент сомнительный, так как он способен приковать тебя и к запонке, и к первопричине. Между тем и тем не существует непреложной, основополагающей разницы, – все преходяще, все бренно. Поверхностный слой твоего существа шаг за шагом рассыпается в прах, внутри же ты становишься твердым как алмаз. И быть может, это и есть то твердое магнетическое ядро твоей сущности, которое волей‑неволей притягивает к тебе других. Несомненно одно: и когда ты умираешь, и когда воскресаешь, ты составляешь одно целое с землей, и все, что причастно земле, неотчуждаемо от тебя самого. Ты становишься природной аномалией, существом без тени; теперь ты уже не умрешь – ты просто прейдешь, как преходят все прочие явления природы.
Ничто из того, что я сейчас пишу, не было известно мне в то время, когда во мне происходила великая перемена. Все, что я претерпел, было своего рода подготовкой к тому моменту, когда однажды вечером я, надев шляпу, вышел из конторы, из своей тогдашней личной жизни и встретил женщину, которой предстояло спасти меня от смерти заживо. В свете этого я обращаюсь теперь к моим лунным прогулкам по нью‑йоркским улицам, тем бессонным ночам, когда я бродил в своем сне и видел город, в котором родился, таким, какими вещи видятся в мираже. Бывало, я бродил по пустынным улицам за компанию с нашим детективом О’Рурком. Бывало, на земле лежал снег и в воздухе чувствовался мороз. И рядом О’Рурк, без умолку болтающий о ворах, убийцах, о любви, о человеческой природе, о золотом веке. У него была манера, оседлав одного из своих любимых коньков, внезапно остановиться где‑нибудь посреди улицы, засадив свой тяжеленный башмак между моих ботинок, с тем чтобы я не мог стронуться с места. И потом, ухватив меня за лацкан пальто, он приближал свое лицо вплотную к моему и начинал говорить мне прямо в глаза, буравчиком вкручивая в меня каждое слово. Снова я вижу, как стоим мы с ним вдвоем посреди улицы в четыре часа пополуночи: завывает ветер, валит снег, а рядом О’Рурк, глухой ко всему, кроме истории, которую ему необходимо сбыть с души. Помнится, пока он говорил, я краешком глаза всегда наблюдал за тем, что происходило вокруг, не вникая в то, о чем он говорил, но осознавая, что мы вот так стоим вдвоем или в Йорквиле, или на Аллен‑стрит, или на Бродвее. Мне всегда казалась несколько нелепой та его прилежность, с которой он излагал свои банальные уголовные истории среди самого грандиозного нагромождения архитектурных стилей, созданных человеком за всю историю своего существования. Пока он вещал об отпечатках пальцев, меня могла захватить история происхождения какого‑нибудь парапета или карниза на низеньком, красного кирпича зданьице позади его черной шляпы; обычно я принимался размышлять о том дне, когда этот карниз был возведен, о том, что за человек был его создатель и почему он соорудил его таким уродливым, таким похожим на все остальные вшивые вонючие карнизы, попадавшиеся нам на пути от Ист‑Сайда до Гарлема, да и за пределами Гарлема, если угодно, и за пределами Нью‑Йорка, за пределами Миссисипи, за пределами Большого Каньона, за пределами пустыни Мохаве – по всей Америке, всюду, где строятся жилища для людей. Мне казалось полным абсурдом, что не было дня в моей жизни, когда бы мне не приходилось сидеть и выслушивать излияния посторонних людей – банальные трагедии горя и нищеты, любви и смерти, тоски и разочарования. И если, как это обычно и бывало, ежедневно ко мне приходило хотя бы пятьдесят человек и каждый изливал мне свое горе, притом что с каждым я должен был молча сидеть и «улавливать», – то вполне естественно, что в какой‑то момент по ходу излияний я вынужден был блокировать свой слух, ожесточать свое сердце. Мне достаточно было самой малости: я мог пережевывать и переваривать ее днями, месяцами… Мало того что на службе я был обязан по уши утопать в этих потоках, мне доставалось еще и вечерами, когда я уходил; мне приходилось спать, выслушивая, и, выслушивая, предаваться мечтам. Они стекались со всего света, изо всех слоев общества – говорившие на тысяче различных языков, поклонявшиеся различным богам, соблюдавшие различные законы и обычаи. Легенда самого несчастного из них могла бы составить огромный том, но при этом, если взять их все до единой и выписать одной строкой, они могли бы сжаться до длины десяти заповедей, могли бы уместиться на оборотной стороне почтовой марки – как «Отче наш». Каждый день я так растягивался, что моей кожи, наверное, хватило бы, чтобы обтянуть весь земной шар; а когда я оставался один и мне не надо было больше никого выслушивать, я сжимался до размера булавочной головки. Величайшее наслаждение – и до чего же редкое! – в одиночестве бродить по улицам… по улицам бродить в ночи, когда никто не кажет носа из дому, и размышлять об окружающем меня безмолвии. Миллионы, завалившись навзничь, дрыхнут в свое удовольствие, и из их широко разинутых ртов не исходит ничего, кроме храпа. Прогуливаясь среди наибезумнейших архитектурных сооружений, какие не привидятся и в дурном сне, я задавался вопросом, почто и доколе сонмы людей, которым неймется распутать клубок своих горестных историй, будут валом валить из этих жалких лачуг и роскошных дворцов. В год, по самым скромным подсчетам, я впитывал двадцать пять тысяч историй; за два года их набиралось пятьдесят тысяч; за четыре года это было бы уже сто тысяч; через десять лет я бы просто сошел с ума. Уже сейчас я знаю столько людей, что ими можно населить порядочный город. Представляю, что за город получится, если собрать их вместе! Интересно, понадобились бы им небоскребы? А музеи? А библиотеки? Неужели и они построили бы для себя канализационную сеть, мосты, дороги, фабрики? Неужели бы и они понавешали кругом те же карнизики из листового железа, один к одному и ad infinitum[30] – от парка Бэттери до Золотой бухты? Что‑то не верится. Только угроза голода может подвигнуть их на это. Пустое брюхо, дикий блеск в глазах, страх, страх, как бы не стало хуже, – вот что гонит их одного за другим, доведенных до отчаяния, возводить – из‑под палки и кнута голодной смерти – величественнейшие небоскребы, наводящие ужас дредноуты, отливать тончайшую сталь, плести изящнейшие кружева, выдувать стекло и производить изысканнейший хрусталь. Гулять с О’Рурком и не слышать ничего, кроме баек о грабежах, поджигательстве, изнасилованиях, убийствах, – это все равно что слушать милый мотивчик, вырванный из мощной симфонии. И точно так же, как можно, насвистывая что‑нибудь, скажем, из Баха, мечтать о женщине, с которой хочешь лечь в койку, так и, слушая О’Рурка, я обыкновенно мечтал о том вожделенном миге, когда он наконец прервет свою болтовню и произнесет: «Ну, что есть будем?» В разгар описываемого им отвратительного убийства я мог мечтать о свином филейчике, который, скорее всего, перепадет нам в одной забегаловке чуть дальше по курсу, и тут же прикидывать в уме, что за овощи к нему подадут и что бы такое заказать на сладкое – пирог или заварной пудинг? Нечто подобное происходило, когда я – изредка – спал со своей женой: пока она стонала или что‑то там лопотала, я мог думать, выкинула она гущу из кофейника или нет, потому что у нее была дурная привычка все делать абы как – то есть что‑то важное, я хочу сказать. Свежий кофе – это дело важное, равно как и яичница с беконом. Если бы я вдруг снова ее обрюхатил, это было бы худо, во всяком случае серьезно, но куда важнее свежий кофе по утрам и запах яичницы с беконом. Я мог смириться и с сердечными приступами, и с абортами, и с несостоявшимися романами, но ведь должен же я чем‑то набивать себе брюхо, чтобы поддерживать жизнь, – вот я и хотел чего‑нибудь вкусненького, аппетитненького. Я чувствовал себя точно так же, как, наверное, чувствовал бы себя Иисус Христос, если бы его сняли с креста и не допустили смерти его во плоти. Я убежден, что шок от распятия был бы таким мощным, что у него обнаружилась бы полнейшая амнезия в отношении человеколюбия. Я уверен, что, оправившись от ран, он бы и думать забыл о страданиях человечества; с каким бы наслаждением накинулся он на чашечку свежего кофе с тоненьким ломтиком поджаренного хлеба, если бы ему предложили.
Тот, кто по причине слишком большой любви, что в общем‑то чудовищно, умирает от горя, заново рождается уже не для того, чтобы познать любовь или ненависть, – он рождается для наслаждений. И эта радость бытия, не будучи естественно благоприобретенной, есть яд, который рано или поздно отравит весь мир. Все, что создается за пределами естественных границ человеческого страдания, действует как бумеранг и всюду сеет гибель. Ночами нью‑йоркские улицы отображают распятие и смерть Христа. Когда на земле лежит снег и вокруг стоит немыслимая тишина, от зловещих нью‑йоркских зданий исходит музыка такого гнетущего отчаяния и страха, что съеживается плоть. Ни один камень в кладке не положен с любовью или благоговением; ни одна улица не проложена для танцев или веселья. Одно присовокуплялось к другому в безумной схватке ради наполнения желудка, и улицы дышат вонью пустых желудков, набитых и полупустых. Улицы дышат вонью голода, который не имеет ничего общего с любовью; они дышат вонью желудка ненасытного и продуктами желудка пустого, каковые суть нуль и ничто.
В таком вот нуле и ничто, в этой нулевой белизне, я и научился получать удовольствие что от сандвича, что от запонки. Я могу с величайшим любопытством исследовать карниз или парапет, делая вид, что слушаю скорбную повесть юдоли человеческой. Я могу вспомнить даты на определенных зданиях, имена построивших их архитекторов. Я могу вспомнить температуру воздуха и скорость ветра на том или ином перекрестке, – повесть же, которая этому сопутствовала, исчезла начисто. Я могу вспомнить даже, о чем вспоминал тогда, могу даже рассказать, что именно я тогда вспоминал, но толку‑то что? Был во мне один человек, но он умер, и все минувшее – из области его воспоминаний; был во мне еще один человек, и он жив, и предполагается, что человек этот – я, я сам, но он жив лишь настолько, насколько живо дерево, камень или полевая мышь. Раз уж сам город превратился в гигантский склеп, где люди что есть мочи стараются заработать себе пристойную смерть, то моя жизнь тоже стала похожа на склеп, который я сооружал, отталкиваясь от собственной смерти. Я кружил по каменному лесу, центром которого был хаос; иногда в этом средоточии мертвечины, в самом центре хаоса я то танцевал, то тупо напивался в одиночку, то строил планы новой жизни, но все это был сплошной хаос, сплошной камень, сплошная безысходность и белиберда. До тех пор пока я не столкнулся с силой достаточно мощной, чтобы вырвать меня из этого каменного леса, всякая жизнь была для меня невозможна, равно как ни одна страница не могла быть написана мною со смыслом. Не исключено, что у читающего эти строки создается впечатление хаоса, однако надиктовано это уже из средоточия жизни, так что все, что здесь есть хаотического, – это не более чем периферийный, случайный сор, так сказать занесенный из того мира, к которому я уже не имею никакого отношения. Каких‑то несколько месяцев назад простаивал я на улицах Нью‑Йорка, озираясь по сторонам точно так же, как когда‑то в прошлом; и вот снова я ловлю себя на том, что исследую архитектуру, исследую мельчайшие детали, которые можно увидеть лишь боковым зрением. Но на этот раз я как с Марса свалился. Что же это за племя такое? – спрашивал я себя. Что все это значит? И ведь ни намека на страдание или на ту жизнь, что захлебывалась в сточных канавах, – разве что, может, я лицезрел какой‑то непостижимый мир, мир такой мне незнакомый, что я почувствовал себя инопланетянином. С высоты Эмпайр‑Стейт‑Билдинг я взирал как‑то ночью на город, который знал снизу; вон они в истинной перспективе, человекообразные муравьи, вместе с которыми я копошился, человекообразные вши, вместе с которыми я боролся. Спешат куда‑то черепашьим шагом, все как один беззаветно исполняя свое микрокосмическое предназначение. В порыве бесплодного отчаяния возвели они во славу и гордость свою это колоссальное сооружение. И от самого верхнего яруса этого колоссального сооружения протянули гирлянду клеток, в которых крохотные канарейки выводят свои незамысловатые трели. На предельной высоте честолюбивых устремлений заливаются они, эти шмакодявочки, во славу драгоценной жизни. Быть может, лет через сто в такие клетки, думал я, насажают живых людей – беспечных дегенератов, чтобы пели они о грядущей жизни. Быть может, от них пойдет порода щебетунов, которые будут щебетать, пока остальные работают. Быть может, в каждую клетку посадят по поэту или музыканту, чтобы жизнь внизу текла без помех, составляя единое целое с камнем, единое целое с лесом – журчащий, скрипящий хаос нуля и ничто. Глядишь, через тысячу лет все станут дегенератами – что рабочие, что поэты, и снова все превратится в руины, как это уже не раз бывало. Может, спустя еще тысячу лет или пять, а то и все десять, на том самом месте, где я стою сейчас, обозревая окрестности, какой‑нибудь молокосос раскроет книжку, написанную на языке доселе неслыханном, повествующую о нынешней жизни – о жизни, которой тот, кто эту книжку написал, даже и не нюхал, о жизни с усеченными формами и рифмами, о жизни, имеющей начало и конец, – и, закрыв книгу, мальчик подумает: что за великий народ были эти американцы, что за удивительная жизнь была когда‑то на этом континенте, на том, где теперь живет он. Ни одна из грядущих рас, кроме, наверное, расы слепых поэтов, никогда не сможет представить себе тот бурлящий хаос, из которого слагается будущая история.
Хаос! Вопиющий хаос! Нет надобности выбирать какой‑то особенный день. Годится любой день моей жизни – знай крути назад. Каждый день моей жизни, моей хрупкой микрокосмической жизни, был отражением окружающего хаоса. Дайте‑ка вспомнить… Семь тридцать – звонит будильник. Но я и не думаю вылезать из постели. Валяюсь до восьми тридцати, пытаясь урвать еще немного сна. Сон – какой уж тут сон, когда в затылке сидит образ конторы, где я уже тогда служил. Вижу, как ровно в восемь Хайме прибывает на свое рабочее место: коммутатор жужжит, взывая о помощи, по широкой деревянной лестнице поднимаются просители, а из раздевалки доносится резкий запах камфары. Чего ради вылезать из постели и повторять вчерашние песни и пляски? С каким проворством я их нанимал, с таким они и отчаливали. Протираешь тут штаны – и даже ни одной рубашки на смену. По понедельникам я получал от жены карманные деньги – на проезд и на завтраки. Я вечно должал ей, она – бакалейщику, мяснику, домовладельцу и так далее. О том, чтобы побриться, я и не мечтал – не хватало времени. Надеваю драную рубашку, наскоро проглатываю завтрак и заимствую пятак на метро. Если бы жена была в дурном настроении, я бы не преминул обжулить газетчика возле метро. До конторы добираюсь на последнем издыхании: и так на час позже, чем положено, а тут еще целая дюжина телефонных звонков, которые надо успеть сделать, пока не повалят посетители. Делаешь один звонок, а три других уже ждут ответа. Говорю по двум телефонам сразу. Коммутатор жужжит. Между звонками Хайме точит карандаши. Под боком маячит швейцар Макговерн, пытаясь замолвить словечко по поводу одного из просителей, должно быть очередного мошенника, который не первый раз пытается пролезть под чужим именем. За спиной у меня картотеки и гроссбухи, содержащие сведения о каждом, кто когда‑либо пропускался через эту мясорубку. Неблагонадежные помечены красными чернилами; у некоторых из них против имени по шесть кличек. Между тем помещение кишит, как муравейник. Воняет потом, лизолом, перегаром. Половину из этих людей придется завернуть – не потому, что мы в них не нуждаемся: просто даже при самой острой необходимости они едва ли на что сгодятся. У барьера перед моим столом – мужчина с парализованными руками и подслеповатыми глазами – это бывший мэр Нью‑Йорк‑Сити. Ему уже семьдесят, и он с радостью согласился бы на все что угодно. У него прекрасные рекомендательные письма, но мы не вправе брать на службу тех, кому перевалило за сорок пять. Сорок пять в Нью‑Йорке – это кранты. Звонит телефон – обходительный секретарь из ХАМЛ. Не мог бы я сделать исключение для одного молодого человека, который только что зашел к нему в контору, – мальчишка где‑то около года провел в исправительной колонии. Что он натворил? Пытался изнасиловать свою сестру. Итальянец, разумеется. Мой помощник О’Мара учиняет ему допрос с пристрастием. Подозревает, что он эпилептик. В конце концов О’Мара добивается своего – мальчишка тут же в конторе как по заказу начинает биться в припадке. Одна из женщин падает в обморок. Красивая молодая особа в роскошных мехах пытается уговорить меня взять ее на работу. Прожженная проститутка, и я понимаю: такую возьмешь – так потом, чего доброго, хлопот не оберешься. Она желает работать в одном из зданий в жилых кварталах города – чтобы, говорит, поближе к дому. Близится время ланча, и потихоньку начинают стекаться все наши. Рассаживаются вокруг, наблюдая за моей работой, – для них это такое же развлечение, как и представление варьете. Заходит студент‑медик Кронски; говорит, что у одного типа, которого я только что принял, обнаружилась болезнь Паркинсона. Я так крутился, что не имел возможности сбегать в сортир. Геморрой – удел всех телеграфистов и управляющих, так утверждает О’Рурк. Ему в течение последних двух лет делали электромассаж, но все без толку. Время ланча, и мы вшестером садимся за стол. Как всегда, за меня кому‑то приходится платить. Приканчиваем ланч и мчимся назад. Сколько еще звонков, сколько бесед с просителями. Вице‑президент ставит всех на уши, потому что мы не в состоянии обеспечить приток рабочей силы в соответствии с нормой. В каждой нью‑йоркской газете и на двадцать пять миль вокруг полно объяв, взывающих о помощи. По всем школам набирались посыльные на неполный рабочий день. Обращались во все благотворительные комитеты и общества содействия безработным. Посыльные разлетаются, как мухи. Некоторые не протягивают и часа. Какая‑то человеческая мукомольня, и, что самое гнусное, это абсолютно никому не нужно. Но это уже дело не мое. Мое дело – сделай или умри, как говорит Киплинг. Я продолжаю латать дыры, принося одну жертву за другой, телефон надрывается, как безумный, помещение воняет все отвратительнее и отвратительнее, дыры становятся все шире и шире. Каждая – это отдельное человеческое существо, молящее о корке хлеба; у меня записан его рост, вес, цвет, вероисповедание, образование, квалификация etc. Все данные заносятся в гроссбух, потом вводятся в картотеку в алфавитном и хронологическом порядке. Имена и даты. Бывает, и отпечатки пальцев, когда на это хватает времени. Во имя чего? Во имя того, чтобы американские граждане могли пользоваться самым быстрым видом связи из известных человеку, во имя того, чтобы они еще быстрее могли продавать свои товары, во имя того, чтобы, если ты вдруг замертво свалишься посреди улицы, можно было немедленно оценить по достоинству твоего ближайшего родственника: немедленно – значит в течение часа, если, конечно, посыльный, которому поручено доставить телеграмму, не вздумает бросить работу или же бросить в помойку всю пачку телеграмм. Двадцать миллионов рождественских открыток с пожеланием веселого Рождества и счастливого Нового года каждая – от управляющих, от президента и вице‑президента Космодемонической Телеграфной Компании, а телеграмма может гласить: «Мать при смерти, немедленно выезжай», – но служащий слишком занят, чтобы заметить такое сообщение, и если вы потребуете возмещения ущерба – духовного ущерба, – то тут вам и юридический департамент, специально выдрессированный улаживать такого рода неожиданности, так что можете не сомневаться: матушка ваша помрет, вы поимеете веселое Рождество, а заодно и счастливый Новый год. Клерка, разумеется, уволят, а примерно через месяц он снова явится просить работы посыльного, причем его примут и поставят в ночную смену куда‑нибудь в район доков, где никто его не узнает, а жена его притащится вместе с отпрыском благодарить генерального директора, а то и самого вице‑президента за проявленные доброту и внимание. И потом, в один прекрасный день, все будут искренне удивлены, что упомянутый посыльный грабанул кассу, и, если сумма потянет на десять тысяч долларов, О’Рурка попросят выехать ночным поездом в Кливленд или Детройт, чтобы его отловить. Затем вице‑президент издаст приказ, запрещающий впредь принимать евреев, но через три‑четыре дня он даст маленькое послабление, потому что кто же еще будет работать, как не евреи. Гайки в этих чертовых тисках были закручены так туго, что я чуть было не взял на службу лилипута из цирка, да я бы, наверное, и взял его, если бы он вдруг не раскололся и не признался, что в действительности он не «он», а «она». Мало того, Валеска берет это «оно» под свое крылышко, вечером ведет «его» к себе домой и под видом симпатии подвергает тщательной проверке, включая вагинальное обследование посредством указательного пальца своей правой руки. В итоге коротышка по уши влюбляется и оказывается, кроме всего прочего, зверски ревнивой. День и без того тяжелый, а тут еще по дороге домой я натыкаюсь на сестру одного из моих приятелей, и она настоятельно зазывает меня пообедать. После обеда мы идем в кино и в темноте начинаем друг с дружкой заигрывать, причем дело кончается тем, что мы сваливаем из киношки и возвращаемся в контору; там я раскладываю ее на оцинкованном столе в раздевалке. И когда добираюсь до дому – слегка за полночь, – раздается телефонный звонок: звонит Валеска и просит, чтобы я сейчас же летел в подземку и ехал к ней, – дело крайне срочное. До нее час езды, а я к тому же смертельно устал, но она сказала, что дело срочное, и вот я еду. И когда я туда заявляюсь, я застаю там ее кузину, вполне привлекательную молодую особу, которая, как она сама рассказала, только что отдалась постороннему мужчине, потому что ей надоело быть девственницей. Ну так с чего же весь этот сыр‑бор? Как это «с чего» – ведь она в запарке забыла предпринять известные меры предосторожности и, может, уже беременна, а что тогда? Им бы хотелось знать, что, по моему мнению, надо делать, и я сказал: «Ничего». И тогда Валеска отводит меня в сторонку и спрашивает, не мог бы я, если мне не трудно, переспать с ее кузиной, чтобы ее, так сказать, сломать, дабы избежать повторения подобных штучек.
Ситуация была сикось‑накось, и все мы хохотали до упаду, а потом начали пить; единственное, что было в доме, – это кюммель, так что нам не много надо было, чтобы упиться до умопомрачения. И потом все пошло совсем уже наперекосяк, потому что они вдвоем стали меня прихватывать, но только мешали друг дружке. Кончилось тем, что я раздел их обеих и уложил в постель; так они в обнимку и уснули. И когда я отправился восвояси – в пятом часу утра, – выяснилось, что в кармане у меня ни цента; тогда я попытался стрельнуть пятак у таксиста, но ничего не вышло, так что в итоге я снял с себя подбитое мехом пальто и сунул его таксисту – в счет пятака! Когда я добрался до дому, жена еще не спала и злилась, как мегера, оттого что меня так долго не было. У нас состоялась жаркая дискуссия, в итоге я сорвался и ударил ее, она упала на пол и начала плакать и причитать; в итоге проснулась дочка и, услышав, что жена ревмя ревет, испугалась и подняла дикий вой. Девица с верхнего этажа примчалась посмотреть, что случилось. Она была в кимоно, распущенные волосы струились у нее по спине. В волнении она прильнула ко мне, и произошло то, о чем ни она, ни я и не помышляли. Мы уложили жену в постель, приложив ей ко лбу влажное полотенце, и, пока девица в кимоно, наклонившись, возилась с женой, я, подступив с тылу, заворачивал ей подол. Я погрузился в нее, и она долго еще так стояла, болтая всякий утешительный вздор. В итоге я залез в постель к жене, и, к вящему моему изумлению, она стала ко мне подъезжать; мы молча сцепились в схватке, которая продолжалась до рассвета. Казалось бы, я должен чувствовать себя разбитым, но не тут‑то было: сна ни в одном глазу, я лежал себе возле нее, подумывая о том, как бы мне взять выходной и наведаться к той блудливой красотке в мехах, с которой я беседовал в первой половине дня. Вслед за тем я стал подумывать о другой женщине – жене одного из моих приятелей, которая вечно пеняла мне насчет моей индифферентности. И потом я стал вспоминать одну за другой всех тех, кого я покидал по той или иной причине, пока в итоге не заснул сладким сном праведника и даже кончил во сне. В семь тридцать, как водится, зазвонил будильник, и, как водится, бросив взгляд на свою драную рубашку, висевшую на стуле, я сказал себе, что пропадай все пропадом, и повернулся на другой бок. В восемь зазвонил телефон – это был Хайме. Гони‑ка, говорит, лучше скорее сюда, а то тут забастовка. И вот так всегда, день за днем, и не было этому никакого разумного объяснения – разве что вся страна была сикось‑накось, и все, о чем я рассказываю, происходило везде: где пожиже, где погуще, но везде одно – сплошной хаос и сплошная бессмыслица.
Так оно изо дня в день все шло и шло на протяжении почти полных пяти лет. Сам континент исправно разрушался циклонами, смерчами, приливами и отливами, наводнениями, засухами, снежными бурями, суховеями, моровыми язвами, разработками полезных ископаемых, бандитскими налетами, покушениями, самоубийствами… какая‑то непрекращающаяся лихорадка и пытка, вулканоизвержение, водоворот. Я напоминал себе человека, сидящего на маяке: подо мною бушующие волны, скалы, рифы, обломки погибших кораблей. Я мог предупредить об опасности, но был бессилен предотвратить катастрофу. Я обонял опасность и катастрофу. Это ощущение порой становилось до того сильным, что пламенем обжигало мне ноздри. Я жаждал избавиться от всего этого, и в то же время меня нестерпимо к этому влекло. Я был вспыльчив и флегматичен одновременно. Я был сам как тот маяк – надежная крепость в бушующем море. Опорой мне служила твердая скала – тот же выступ, на котором воздвигнуты вздымающиеся ввысь небоскребы. Мой фундамент надежно заглублен, а тело мое одето в стальные доспехи, намертво скрепленные стальными болтами. Кроме всего прочего, у меня был глаз – огромный прожектор, который обшаривал самые потаенные места, вращаясь без устали и не зная жалости. И это неусыпное око заставляло, по‑видимому, дремать все прочие мои способности: все силы уходили на то, чтобы воспринять и постичь драму мира.
Раз во мне проснулась жажда разрушения, значит просто, наверное, око мое угасало. Я жаждал землетрясения, какого‑нибудь природного катаклизма, который бы погрузил маяк в пучину вод. Я желал метаморфозы, желал превратиться в рыбу, в левиафана, в разрушителя. Я желал, чтобы разверзлась земля, чтобы поглотила она все разом – на одном дыхании зияющей бездны. Я хотел увидеть город похороненным на дне моря. Я хотел засесть в пещере и читать при свечах. Я хотел, чтобы око мое угасло, и тогда бы я мог измениться и познать свое собственное тело, свои собственные желания. Я желал уединиться на тысячу лет, чтобы подумать над тем, что я видел и слышал, – и чтобы забыть! Я хотел чего‑то земного, что не было бы творением рук человеческих, чего‑то напрочь оторванного от всего человеческого, которым я обкушался. Я хотел чего‑то сугубо земного, приземленного и полностью отъединенного от идеи. Я хотел – даже ценой аннигиляции – вновь ощутить, как кровь возвращается в жилы. Я хотел вытряхнуть камень и свет из моего организма. Я желал темной животворящей силы природы, глубокого колодца матки, тишины, а нет – так погрузиться в черные воды смерти. Я желал быть той ночью, что освещалась безжалостным оком, ночью, затканной звездами и хвостатыми кометами. Родиться от ночи, столь пугающе безмолвной, столь удивительно непостижимой и в то же время красноречивой. Никогда больше не говорить, не слушать, не думать. Поглощаться и обволакиваться и одновременно обволакивать и поглощать. И долой всякую жалость, долой деликатность. Быть человеком только в земном смысле – как травинка, червячок или ручей. Разложиться на составные части, стать свободным от света и камня, стать изменчивым, как молекула, прочным, как атом, бездушным, как сама земля.
* * *
Как раз где‑то за неделю до самоубийства Валески я встретил Мару. Неделя или две, предшествовавшие этому событию, были сущим кошмаром. Череда внезапных смертей и странных стычек с женщинами. Для начала была Полина Яновски, одна евреечка лет шестнадцати‑семнадцати, у которой не было ни кола ни двора, ни друзей, ни родственников. Она зашла в контору в поисках работы. Случилось это перед самым закрытием, а я был не таким уж бессердечным, чтобы дать ей от ворот поворот. Почему‑то мне взбрело в голову привести ее домой пообедать и по возможности попытаться убедить жену ненадолго ее приютить. Что меня в Полине привлекло, так это ее страсть к Бальзаку. Всю дорогу она болтала об «Утраченных иллюзиях». Вагон был упакован битком, и нас так тесно прижимали друг к дружке, что не важно было, о чем мы говорили, потому что думали мы об одном. Жена, конечно же, была изумлена, увидев меня на пороге с красивой молоденькой девушкой. Жена была вежлива и обходительна – в обычной своей холодной манере, но я сразу же понял, что бесполезно просить ее приютить Полину. Все, на что она сподобилась, – это посидела с нами, пока мы обедали. Как только мы завершили трапезу, она извинилась и отправилась в кино. Девушка расплакалась. Мы так и сидели за столом, перед грудой грязной посуды. Я склонился к ней и заключил ее в объятия. Мне было искренне жаль ее, и я совершенно растерялся, не зная, что предпринять. Ни с того ни с сего она вдруг кинулась мне на шею и страстно поцеловала. Мы довольно долго простояли так, обнявшись, но я сказал себе: нет, брат, это криминал, да еще и жена, может, вовсе не пошла в кино, может, она, того и гляди, вынырнет. Я велел малышке собраться с силами, чтобы мы могли куда‑нибудь проехаться на трамвае. На глаза мне попалась детская копилка, я взял ее с собой в уборную и там тихонько опустошил. В ней и было‑то всего около семидесяти пяти центов. Мы сели в трамвай и поехали на побережье. В конце концов нашли пустынное местечко и улеглись на песок. Она была в истерическом возбуждении, так что ничего не оставалось делать, кроме как это самое. Я подумал, что она будет потом меня упрекать, но ничуть не бывало. Мы немного полежали, и она снова пустилась рассуждать о Бальзаке. Кажется, она и сама имела намерение стать писателем. Я спросил, что она собирается делать. Говорит, понятия не имеет. Когда мы собрались уходить, она попросила меня довести ее до шоссе. Сказала, что, пожалуй, поедет в Кливленд или еще куда‑нибудь. Было уже за полночь, когда я оставил ее стоять у бензоколонки. В сумочке у нее оставалось не более тридцати пяти центов. Взяв старт в направлении дома, я начал клясть свою жену – вот подлое сучье племя. Дай ей Бог самой вот так же вот очутиться среди ночи на шоссе, не зная, куда деваться. Я не сомневался, что, когда вернусь домой, она даже имени девушки не вспомнит.
Вернулся, а она меня поджидает. Ну, думаю, все, сейчас снова накинется на меня с проклятиями. Ан нет: она поджидала меня из‑за важного сообщения от О’Рурка. Я должен был дозвониться до него сразу же по возвращении. Однако я решил не звонить. Решил раздеться и лечь в постель. И только я устроился поудобнее, как зазвонил телефон. Это был О’Рурк. В конторе на мое имя лежит телеграмма, и он думает, не надо ли ее вскрыть и зачитать. Валяй, говорю, читай. Телеграмма подписана Моникой. Отправлена из Буффало. Там сказано, что утром она прибывает на Центральный вокзал вместе с телом матери. Я его поблагодарил и снова лег спать. У жены никаких вопросов. Лежи тут теперь и соображай, что делать. Откликнись я на ее просьбу – и все закрутится по новой. Только‑только я благодарил звезды, что отделался от Моники. И вот она возвращается с трупом матери в придачу. Слезы и примирение. Нет, такая перспектива меня не устраивает. Предположим, я не объявился. Ну и что? Всегда найдется кто‑нибудь поблизости, чтобы взять на себя хлопоты о теле. Тем более если в трауре – привлекательная молодая блондинка с искрящимися голубыми глазами. Интересно, вернется ли она работать в ресторан? Если бы она не кумекала в греческом и латыни, я никогда бы с ней не спутался. Но любопытство оказалось сильнее. И потом, она была такая, не приведи Господи, разнесчастная, что я совершенно не мог устоять. Может, все было бы не так уж плохо, если бы руки у нее не воняли жиром. Муха в сметане – вот что такое эти жирные руки. Помню первый вечер, когда я с ней познакомился и мы долго шатались по парку. Вид у нее был потрясающий, и к тому же она была благоразумна и образованна. Как раз тогда женщины носили короткие юбки, а на ней они сидели так шикарно, что все ее достоинства только выигрывали. Я каждый вечер таскался в ресторан, чтобы только поглазеть, как она двигается, как изгибается, обслуживая клиентов, как приседает, чтобы поднять вилку. И в придачу к прекрасным ногам и колдовским глазам – удивительное суждение о Гомере… к свинине с кислой капустой – стих из Сафо, латинские спряжения, оды Пиндара… к десерту, возможно, «Рубайят» или «Чинара». Но жирные руки и неприбранная постель в меблирашках напротив рынка – тьфу! Чего‑чего, а этого я переварить не мог. Чем больше я ее избегал, тем настырнее она ко мне цеплялась. Десятистраничные письма о любви с заметками по поводу «Так говорил Заратустра». И потом вдруг молчание и – мои поздравления самому себе. Нет, я не в силах заставить себя тащиться в такую рань на Центральный вокзал. Я повернулся на другой бок и заснул крепким сном. Попрошу‑ка я утром жену позвонить в контору и сказать, что я заболел. Помнится, я не болел уже больше недели.
Днем я нахожу Кронского ожидающим меня возле конторы. Он хочет, чтобы я составил ему компанию на ланч… там одна египтяночка – он хочет нас познакомить. Девушка, оказывается, еврейка, но приехала из Египта и внешне вылитая египтянка. Лакомый кусочек, так что мы тут же начинаем ее обхаживать. Поскольку я числился больным, то решил в контору не возвращаться, а пошел прогуляться по Ист‑Сайду. Кронски надумал вернуться, чтобы меня прикрыть. Мы распрощались с девушкой и разбежались в разные стороны. Я взял курс по направлению к реке, где было попрохладнее, и почти тотчас же забыл о новой знакомой. Уселся на пирс, свесив ноги. Мимо проползла баржа, груженная красным кирпичом. Ни с того ни с сего я вдруг вспомнил о Монике. О Монике, прибывающей с трупом на Центральный вокзал.
Труп багажом до Нью‑Йорка, провоз бесплатный! Это выглядело так нелепо и смешно, что я расхохотался. Как же она с ним поступила? Сдала в камеру хранения или оставила на запасных путях? Клянет меня небось на чем свет стоит. Интересно, что бы она вообще подумала, если бы ей могло прийти в голову, что я сижу здесь у причала и болтаю себе ногами. Было тепло и душно, несмотря на легкий ветерок, шедший с реки. Я начал кемарить. Только я очухался, как на ум пришла Полина. Я представил ее идущей по шоссе с поднятой рукой. Храбрая девчонка, что и говорить. Странно, что она как будто вроде и не дергалась, что может остаться с пузом. Наверное, в таком отчаянии была, что ей все было нипочем. Да еще Бальзак! Это тоже как‑то уж слишком не вяжется. Почему именно Бальзак! Ладно, это ее дело. Во всяком случае, она успеет нагулять хороший аппетит к тому времени, как встретит еще какого‑нибудь парня. Но чтобы такая девчонка – и мечтала стать писателем! А что, почему бы и нет? Каждый тешит себя своими иллюзиями. Ведь Моника тоже хотела стать писателем. Да и кто не собирался стать писателем? Писатель! Господи Иисусе, а ведь казалось, нет ничего проще!
Я задремал… А когда проснулся, у меня была эрекция. Солнце, казалось, запускало свои лучи прямо мне в ширинку. Я вскочил на ноги и ополоснул лицо прямо в питьевом фонтанчике. По‑прежнему было душно и жарко. Асфальт размяк, как каша, мухи кусались, в сточных канавах гнили отбросы. Я потолкался немного среди тележек, блуждая вокруг голодным взором. Все это время у меня было что‑то вроде затяжной наводки, а в голове – ни одной подходящей мишени. И лишь когда я вернулся на Вторую авеню, я вдруг вспомнил – она говорила, что живет над русским рестораном возле Двенадцатой улицы. Собственно, у меня еще не было определенных планов на предмет, чем заняться. Разве что попастись, убивая время. Впрочем, ноги сами потащили меня в северном направлении – к Четырнадцатой улице. Поравнявшись с русским рестораном, я немного передохнул, а затем взбежал по лестнице, перескакивая через три ступеньки кряду. Входная дверь была открыта. Я миновал пару пролетов, разглядывая таблички с именами. Она оказалась на верхнем этаже, и под ее именем значилось еще и мужское. Я робко постучал. Никакой реакции. Снова постучал, погромче. На сей раз уловил какое‑то шевеление. Затем голос у самой двери спросил, кто там, и одновременно повернулась ручка. Я толкнул дверь и шагнул в неосвещенное помещение. Шагнул прямо к ней в объятия – и обнаружил, что, кроме полураспахнутого кимоно, на ней ничего не надето. Должно быть, она крепко спала и только наполовину осознавала, кто ее обнимает. Когда до нее дошло, что это я, она попыталась высвободиться, но я взялся за дело всерьез и тут же принялся страстно ее целовать, увлекая по ходу дела назад, к ложу у окна. Она что‑то промямлила о незапертой двери, но я не собирался давать ей ни одного шанса выскользнуть из моих объятий. Поэтому предпринял ловкий обходной маневр, мало‑помалу подпихнул ее к двери, так чтобы она смогла подпереть ее задом. Свободной рукой я повернул ключ и после этого переместился вместе с девушкой в середину комнаты, на ходу расстегнув ширинку и настроив свой дрючок на режим возвратно‑поступательного движения. Она была такая сонная, что все происходило почти автоматически. Впрочем, от меня не ускользнуло, что ей доставляло удовольствие то обстоятельство, что ее ебут в полусонном состоянии. Только вот всякий раз, когда я делал выпад, сон у нее как рукой снимало. И как только девушка начала осознавать, что происходит, она изрядно перепугалась. Надо было как‑то исхитриться снова ее усыпить, не переставая при этом поебывать. Мне удалось завалить ее на ложе, не сдавая позиций, и тогда она распалилась, как пекло, и принялась вертеться и извиваться, что уж на сковородке. За все время, что я ее отмахивал, она, по‑моему, так и не открыла глаз. Я знай себе твердил: «Ебиптянка… ебиптянка…» – и, чтобы ненароком не кончить раньше времени, намеренно стал думать о трупе, который Моника приволокла на Центральный вокзал, и о тех тридцати пяти центах, что я оставил Полине на шоссе. Вдруг – бум‑бум‑бум! – сильный стук в дверь; она тут же открывает глаза и смотрит на меня в неимоверном ужасе. Я начал было в темпе вылезать, но, к моему удивлению, она меня удержала. «Не двигайся! – прошептала мне в самое ухо. – Подожди!» Тут снова громкий стук и потом, слышу, – голос Кронского: «Тельма, это я… это я, Ицци». Здесь уж я чуть было не расхохотался. Мы вернулись в исходное положение, и, как только глаза ее тихо закрылись, я начал слегка пошевеливать им у нее внутри, стараясь ее не разбудить. Это был один из самых необыкновенных ебов в моей жизни. Я думал, это будет длиться вечно. Как только я чувствовал, что вот‑вот забью струей, я тут же прекращал двигаться и начинал думать – думать, к примеру, о том, где бы мне провести отпуск, если я его получу, или о рубашках, лежащих в ящиках комода, или о пятне на ковре в спальне прямо возле ножки кровати. Кронски все еще стоял под дверью, – я слышал, как он переминается с ноги на ногу. Каждый раз, как я убеждался, что он там еще стоит, я слегка поосаживал, и в полусне она отвечала мне весело, словно бы понимая, что я хочу сказать посредством этой незамысловатой морзянки. Я не смел и догадываться, о чем она могла думать, иначе я бы тут же кончил. Порой я бывал опасно близок к этому, но спасительным трюком всегда оказывалась Моника с трупом на Центральном вокзале. Мысль о ней – о комичности ситуации, я имею в виду, – действовала как холодный душ.
Когда все было кончено, она распахнула глаза и уставилась на меня как баран на новые ворота. Сказать мне было нечего; единственная мысль в голове – это как можно скорее оттуда убраться. Пока мы совершали водные процедуры, я заметил лист бумаги на полу возле двери. Это была записка от Кронского. Его жену только что увезли в больницу – он хотел, чтобы Тельма туда к нему подошла. Слава богу, гора с плеч! – я мог удалиться без лишних слов.
На следующий день позвонил Кронски. Жена его умерла на операционном столе. В тот вечер я обедал дома; мы еще сидели за столом, когда в дверь позвонили. На пороге стоял Кронски, с виду совершенно убитый. Мне всегда было трудно найти слова соболезнования, а в случае с ним и вовсе невозможно. Я слушал избитые речи жены, и у меня появилось к ней такое отвращение, какого я сроду не испытывал. «Пойдем отсюда», – сказал я.
Какое‑то время мы шли молча. У парка свернули и подались к лугам. Лежал тяжелый туман, и на шаг вперед ничего уже нельзя было разглядеть. Он вдруг ни с того ни с сего разрыдался. Я притормозил и отвернулся. Как только мне показалось, что он успокоился, я оглянулся и увидел, что он смотрит на меня с какой‑то странной улыбкой. «Забавно, – сказал он, – так тяжело, оказывается, смириться со смертью». Теперь и я улыбнулся и обнял его за плечи. «Давай, тебе надо выговориться, – ответил я. – Облегчи душу». Мы снова зашагали по холмистым лугам: шли будто по дну морскому. Туман так сгустился, что я едва различал черты своего спутника. Он говорил спокойно и как в бреду. «Я знал, что это должно случиться, – все было слишком прекрасно, чтобы длиться долго». Ночью, накануне ее болезни, он видел сон. Ему приснилось, будто он потерял себя. «Я блуждал во тьме, выкликая собственное имя. Помню, как я подошел к мосту и, взглянув вниз на воду, увидел себя тонущим. Я прыгнул с моста вниз головой, а когда вынырнул, увидел Йетту, качающуюся на волнах под мостом. Она была мертва». Потом он вдруг добавил: «Ты ведь был там вчера, когда я стучался, да? Я знал, что ты там, и не в силах был уйти. Знал, что Йетта умирает, и хотел быть с ней, но боялся пойти туда один». Я молчал, и он продолжал как в бреду: «Первая девушка, которую я полюбил, умерла точно так же. Я был совсем еще дитя и не в силах был этого перенести. Каждую ночь я уходил на кладбище и подолгу сидел у ее могилы. Поговаривали, что я сошел с ума. Пожалуй, так оно и было. Вчера, когда я стоял под дверью, все это вернулось. Я увидел себя в Трентоне, у могилы, рядом с сестрой девушки, которую я любил. Она сказала, что так не может больше продолжаться, а то я точно свихнусь. Про себя я подумал, что я уже свихнулся, и, чтобы доказать себе это, решил совершить какое‑нибудь безумство и в результате сказал ей, что якобы я не покойницу люблю, а, мол, ее, и тут же притянул ее к себе, и мы лежали там и целовались, пока я наконец ей не ввинтил – прямо возле могилы. Наверное, это меня и вылечило, потому что больше я никогда туда не возвращался и никогда больше о ней не думал – до вчерашнего дня, когда стоял под дверью. Если бы я мог вчера до тебя добраться, я бы, наверное, тебя придушил. Не знаю, откуда у меня возникло это чувство, но мне почудилось, что ты разрыл могилу, что надругался над мертвым телом девушки, которую я любил. Маразм какой‑то, правда? И чего это я вдруг к тебе сегодня притащился? Может, оттого, что я тебе совершенно безразличен… оттого, что ты не еврей и тебе можно все рассказать, оттого, что тебе на все начхать, и ты прав… Ты случаем не читал „Восстание ангелов“?»
Тут мы вышли на велосипедную дорожку, которая окружала парк. Огни бульвара расплывались в тумане. Я хорошенько его рассмотрел и понял, что он выговорился. Мне стало интересно, смогу ли я его рассмешить. Но вдруг, если он рассмеется, то уже не сможет остановиться? Поэтому я наобум‑лазарь заговорил сначала об Анатоле Франсе, потом о других писателях и в конце концов, когда почувствовал, что теряю его, внезапно переключился на генерала Иволгина; тут‑то он и рассмеялся, и не рассмеялся даже, а раскудахтался, дико раскудахтался, точно петух на плахе. Его так разобрало, что он остановился, схватившись за живот; слезы ручьями лились из его глаз, и сквозь кудахтанье то и дело прорывались жуткие, душераздирающие рыдания. «Я знал, что ты меня растормошишь, – выпалил он, как только утихли последние всхлипы. – Я всегда говорил, что ты отъявленный сукин сын… Ты сам жидовское отродье, только не знаешь об этом… Ну а теперь скажи‑ка мне, блядская рожа, как ты там вчера? Засандалил конца? Я же говорил тебе, что она отменная подстилка. Знал бы ты, с кем она живет, боже ж мой! Повезло тебе, однако, что он тебя не застукал. Это русский поэт – ты тоже его знаешь. Я как‑то представил тебя ему в „Кафе Ройяль“. Смотри, чтобы он ничего не пронюхал. А то вышибет тебе мозги… напишет об этом прекрасную поэму и пошлет ей свой опус с букетом роз. Точно тебе говорю – я ведь знаю его еще по Стелтону, по колонии анархистов. Его папаша был нигилист. Семейка сумасшедших. Между прочим, хорошо бы тебе провериться. Я думал сказать тебе об этом как‑нибудь при случае, но не предполагал, что ты будешь действовать так стремительно. Знаешь, не исключено, что у нее сифилис. Это я не к тому, чтобы тебя отвадить. Просто предупреждаю ради твоего же блага…»
Видимо, этот взрыв и впрямь привел его в чувство. Он пытался на свой вывернутый еврейский лад убедить меня в том, что любит меня. Для этого ему сначала надо было испохабить вокруг меня все: жену, работу, моих друзей, «черномазую бабищу», как он называл Валеску, ну и так далее. «Сдается мне, когда‑нибудь ты станешь великим писателем», – сказал мой спутник. «Но, – добавил он ехидно, – тебе придется лишку пострадать для начала. Я хочу сказать, пострадать по‑настоящему, потому что ты еще не знаешь, что это такое. Тебе только кажется, что ты страдал. Для начала ты должен влюбиться. И теперь, эта черномазая бабища… ведь ты же не считаешь на самом деле, что влюблен в нее, верно? Ты когда‑нибудь рассматривал как следует ее зад… это я о том, какой он широченный. Пять лет – и она превратится в Тетушку Джемайму. Шикарную вы составите парочку, прогуливаясь по проспекту с вереницей плетущихся в хвосте негритят. Боже ж мой, да я бы скорее допустил, что ты женишься на евреечке. Конечно, не стоит ее переоценивать, но она была бы тебе под стать. Хорошо бы тебе как‑то остепениться. Ты разбазариваешь свои силы. Слушай, чего ты якшаешься со всякой шушерой? Похоже, у тебя талант притягивать к себе всякое отребье. Почему бы тебе не заняться чем‑нибудь полезным? И работа эта не по тебе – ты мог бы стать большим человеком где‑нибудь в другом месте. Ну, там, лейбористским лидером… не знаю уж, кем точно. Но для начала ты должен избавиться от своей жены – этого кувшинного рыла. Фух! посмотришь на нее, так прямо с души воротит. В голове не укладывается, как такой тип, как ты, мог жениться на этой сучке. Да кто она вообще такая? Подумаешь, пара перегретых яичников! Слушай, я все про тебя понял: просто у тебя один секс на уме. Нет, я не хочу сказать, что так уж совсем. У тебя есть голова, есть страсть, энтузиазм… но, похоже, тебе до фени все, что ты делаешь, все, что с тобой происходит. Не будь ты таким блудливым романтиком, я б готов был поклясться, что ты еврей. Со мной не так – мне вообще ничего не светит. А в тебе что‑то есть, только ты чертовски ленив, чтобы выплеснуть это наружу. Знаешь, когда я порой тебя слушаю, я говорю себе: хоть бы этот болван положил все это на бумагу! А что, ты мог бы написать такую книгу, что сам Драйзер снял бы перед тобой шляпу. Ты не похож на других американцев, которых я знаю; во всяком случае, у тебя с ними ничего общего, и это чертовски здорово. Ты, конечно, тоже слегка того, – надеюсь, ты и сам понимаешь. Но в хорошем смысле. Слушай, еще совсем недавно, если бы кто‑нибудь посмел разговаривать со мной в таком духе, я бы его убил. Пожалуй, я стал еще лучше к тебе относиться, потому что ты не пытался выражать мне сочувствие. Не хватало еще мне сочувствия с твоей стороны. Если бы сегодня вечером ты произнес хоть одно лживое слово, я бы точно свихнулся. Уверяю тебя. Я был на пределе. Когда ты завел о генерале Иволгине, мне на какое‑то мгновение показалось, что со мной все кончено. Я же говорю, в тебе что‑то есть… что‑то от лукавого! Так что теперь ты меня послушай… Если в ближайшем будущем ты не разберешься с самим собой, то еще немного – и ты сбрендишь. Тебя что‑то гнетет. Не знаю, что это, но у меня глаз наметан. Я знаю тебя от и до. Тебя действительно что‑то гложет – только это не жена, не работа и даже не эта черномазая бабища, в которую ты якобы влюблен. Порой мне кажется, что ты родился не в свое время. Видишь ли, я не хочу, чтобы ты вообразил, что я делаю из тебя кумира, но есть нечто такое, о чем бы я сказал… имей ты чуть больше доверия к самому себе, ты мог бы стать величайшим человеком современности. И не обязательно писателем. Ты, может, стал бы вторым Иисусом Христом, почем знать. Не смейся – я серьезно. Ты не имеешь ни малейшего представления о своих истинных возможностях… ты абсолютно слеп ко всему, кроме собственных прихотей. Ты не знаешь, чего хочешь. Не знаешь, потому что никогда не перестаешь думать. Ты позволяешь людям себя использовать. Ты идиот, чертова кукла. Имей я хоть десятую долю того, что есть в тебе, я мог бы поставить на уши весь мир. Скажешь, это бред, а? Ладно, слушай сюда… Я сроду не чувствовал себя более здоровым, чем сейчас. Когда я пришел к тебе сегодня вечером, мне казалось, что я готов наложить на себя руки. Не велика разница, сделал бы я это или нет. Но так или иначе, теперь я не вижу в этом острой необходимости. Этим ее не вернешь. Таким уж я уродился несчастным. Беда, видно, всюду ходит за мной по пятам. Но я все же не хочу отдавать концы. Хочу сначала сделать что‑нибудь доброе в жизни. Наверное, это звучит глупо, но мне правда хотелось бы что‑то сделать для других…»
Он вдруг осекся и снова уставился на меня с той странной улыбкой. Это был взгляд безнадежного еврея, в ком, как и во всей его расе, жизненный инстинкт был таким стойким, что, даже когда уже абсолютно не на что было надеяться, у него не хватало духу убить себя. Такая безнадежность была мне совершенно чужда. Про себя я подумал: вот бы нам с ним поменяться шкурами! А что, я мог бы убить себя шутки ради! Но что меня окончательно добило, так это то, что его ничуть не порадовали похороны – похороны собственной жены! Бог его знает, похороны всегда были у нас делом весьма печальным, но после ведь там всегда можно было попить‑поесть и мало того – услышать пару добрых скабрезных шуток и пару здоровых утробных смешков. Вероятно, по молодости лет я не мог должным образом оценить печальные стороны, хотя достаточно отчетливо видел, как на похоронах голосят и причитают. Правда, я никогда не придавал этому особого значения, потому что после церемонии, на поминках в открытой пивной по соседству с кладбищем, обычно преобладала атмосфера веселой пирушки, невзирая на траурные одеяния, креповые ленты и венки. Мне казалось – еще в детстве, – что там и впрямь пытались установить некую связь с покойным. Было в этом что‑то египетское, если вдуматься. Раньше они казались мне просто каким‑то стадом лицемеров. Но я ошибался. Это всего лишь тупые, здоровые германцы с присущей им жаждой жизни. Смерть не вписывалась в границы их кругозора, хотя звучит это странно, потому что послушать, о чем они говорят, так можно подумать, она занимает чуть не все их помыслы. Но по‑настоящему они все‑таки ее не понимали, в отличие, например, от евреев. Они готовы были рассуждать о загробной жизни, но по‑настоящему никогда в нее не верили. И если бы кто‑то зачах от горя, к нему бы стали относиться с опаской, как к умалишенному. Должны же быть пределы печали, равно как и пределы радости, – такое сложилось у меня о них впечатление. И в экстремальных точках у них всегда стоял желудок, который должно было набивать – лимбургерами, пивом, кюммелем, индюшачьими ножками, если они водились. За пивом слезы их высыхали, как у детей. И в следующий миг они уже смеялись, смеялись над каким‑нибудь курьезом в характере покойного. Даже то, как они употребляли прошедшее время, несколько меня озадачивало. Спустя час после погребения об усопшем говорили: «У него было такое большое сердце», – будто почившего вот уже тысячу лет как нет в живых, будто это историческая личность или герой «Песни о нибелунгах». Главное, что он умер – окончательно и бесповоротно, и, стало быть, они, живущие, отрезаны от него раз и навсегда, а сегодня, как, впрочем, и завтра, им предстоит жить, белью – стираться, обеду – вариться, а придет черед провожать в последний путь следующего – и гроб заказывать, и дрязги из‑за завещания разводить, но все это потянется в повседневной рутине, и грех будет, улучив минутку, предаться горю и печали, поелику Господь, если Он есть, так велел, и нам, смертным, нечего сказать по этому поводу. Выходить за пределы дозволенной радости или горя – порочно. Угроза помешательства – тяжкий грех. Они обладали колоссальным животным чувством слаженности, лишь чудом уловимым, когда оно истинно животное, и наводящим ужас, если осознаешь, что это не более чем тупая германская заторможенность, тупая бесчувственность. И все же я предпочитал эти одушевленные желудки гидроголовой скорби еврея. В глубине души я не мог жалеть Кронского, иначе мне бы пришлось жалеть все его племя вкупе. Смерть его жены – это всего лишь пунктик, пустяк в истории всех его бедствий. Как он сам сказал, он родился несчастным. Он родился, чтобы удостовериться, что все идет прахом, потому что уже на протяжении пяти тысячелетий все идет прахом в крови его соплеменников. Как они явились в мир с выражением безысходности на поникших лицах, так его и покинут. Они оставляли после себя дурной запах – яд, блевотину скорби. Они пытались очистить мир от вони, но это была та самая вонь, что они же и занесли в мир. Обо всем этом я размышлял, пока его слушал. У меня было так хорошо на душе, что, когда мы расстались, я, свернув в переулок, начал насвистывать и мурлыкать себе под нос. Меня одолела дикая жажда. «Не сумлевайся, дружишше, – гыварю я себе с чистейшим ирландским прынонсом, – была ба глотка, а глыток ныйдется!» И только я это вымолвил, как уперся лбом в скворечник в стене и заказал большую кружку пива и толстый гамбургер с кучей лука. Выпил вторую кружицу и вдогонку еще на зубок бренди. «Раз уж у этого жалкого хмыря не хватило ума отпраздновать похороны собственной жены, – подумал я в присущей мне беспардонной манере, – то я сам за него отпраздную». И чем больше я об этом размышлял, тем счастливее себя чувствовал, а если какая‑то толика печали и зависти все же затесались, то единственно по причине того, что я не мог поменяться местами с ней – дохлой, горемычной еврейской душонкой; ибо смерть была чем‑то абсолютно недоступным пониманию и разумению распиздяя вроде меня и жаль было разбазаривать ее на таких, как они, знавших о ней все и совершенно в ней не нуждавшихся. Я до такого остервенения упился идеей смерти, что в пьяном угаре стал заплетающимся языком молить Всевышнего убить меня той же ночью: убей меня, Господи, и дай мне понять, что за всем этим кроется. Изо всех своих вонючих силенок пыжился я вообразить, каково это – испустить дух, но у меня так ничего и не вышло. Самое большее, чего я смог добиться, – это имитировать предсмертный хрип, но за этим делом я едва не задохся, и потом я до такого безобразия перетрухал, что чуть не наложил в штаны. Тем не менее это была не смерть. Это было всего‑навсего удушье. Смерть скорее походила на наше блуждание по парку: двое людей бок о бок бредут в тумане, натыкаясь на кусты и деревья, и между ними – ни слова. Сама по себе смерть была чем‑то более легковесным, нежели представление о ней, и все же правомочной и мироносной – величавой, если угодно. Она была не продолжением жизни, а прыжком в неизвестность без какой бы то ни было перспективы возвращения назад – даже в виде пылинки. И это справедливо и прекрасно, сказал я себе, да и почему непременно надо возвращаться? Раз вкусив, вкушаешь вовеки – либо жизнь, либо смерть. Как монетка ни ляжет, то и хорошо, пока не сделаны ставки. Не скрою – жестоко захлебнуться собственной слюной: нет ничего более отвратительного. Но ведь не все же умирают от удушья. Бывает, что отходят и во сне – тихо и безропотно, как овечки. В таких случаях говорят: Господь прибрал. Как бы то ни было, вы перестаете дышать. Да и зачем, черт побери, непременно дышать вечно? Все, что приходится делать бесконечно, неизменно превращается в пытку. Жалкие недочеловеки, мы должны радоваться, что кто‑то изобрел для нас выход. Ведь мы не отбрыкиваемся от сна. Треть наших жизней мы прохрапываем, что тебе назюзюкавшиеся крысы. Каково это? Что здесь трагического? Ну а тут, считай, три трети пьяного крысячьего сна. Боже мой, да будь у нас хоть капля соображения, мы бы плясали от радости при мысли об этом! Мы бы все могли умереть завтра в постели без боли, без страданий, только бы нам хватило здравого смысла воспользоваться нашими медицинскими средствами. Мы не желаем умирать – вот в чем наша беда. Вот откуда Бог и вся эта возвышенная дребедень в наших чокнутых мусорных черепушках. Генерал Иволгин! Вот что заставило его раскудахтаться… ну, выдать еще несколько скупых всхлипов. С тем же успехом я мог бы заговорить и о лимбургском сыре. Но генерал Иволгин что‑то для него да значил… что‑то из ряда вон. Лимбургский сыр – это, пожалуй, чересчур трезво, чересчур банально. Впрочем, все это и так сплошной лимбургский сыр, включая генерала Иволгина, этого горького пьяницу и размазню. Генерал Иволгин восходит к лимбургскому сыру Достоевского, его особой, сугубо личной разновидности. Что предполагает особую марку, особый аромат. Стало быть, любой распознает его по вкусу и запаху. Но генерала Иволгина‑то что сделало лимбургским сыром? Да все то же, что и лимбургский сыр сделало лимбургским сыром, а это «х» и, стало быть, непознаваемо. И стало быть, что? Стало быть, ничего… вообще ничего. Амба! Иначе – прыжок в неизвестность, и точка.
Стягивая подштанники, я вдруг вспомнил, о чем говорил мне этот мерзавец. Я осмотрел свой член – выглядел он таким же невинным, как и всегда. «И не говори мне, что у тебя сифон», – сказал я, держа его в руках и слегка подавливая, точно и впрямь рассчитывая увидеть, как из него вытечет капля гноя. Да нет, я не думал, что у меня много шансов подцепить сифон. У меня другая планида. Триппер – да, это запросто. Триппер – дело житейское. Но уж никак не сифон! Я понимал, что он бы не прочь был накаркать мне эту заразу, если б мог, – лишь бы заставить меня узнать, что такое страдание. Но он напрасно надеялся, что я сподоблюсь оказать ему такую услугу. Я родился толстокожим и везучим. Я зевнул. «Что сифон, что не сифон – один черт: все тот же треклятый лимбургский сыр, – подумал я, – если ей приспичит, я урву себе еще кусок – и поминай как звали». Но ей это было явно не надо. Она упорно поворачивалась ко мне спиной. Так что я просто улегся рядом, приставил прибор к ее заднице и посредством ментальной телепатии стал внушать ей желание им воспользоваться. И должно быть, она с божьей помощью приняла мой сигнал, хотя и спала без задних ног, потому что я беспрепятственно проник сквозь тугие створки; к тому же мне не пришлось глядеть ей в лицо, – а оно было дьявольски обворожительно. Я еще подумал, когда напоследок пришпорил ее с посвистом: «Ну что, голубчик, получил свой лимбургский сыр? Можешь теперь отвалиться и дать храпака…»
Похоже, конца не будет этой волынке секса и смерти. На следующий же день мне в контору позвонила жена и сообщила, что ее подругу Арлину только что увезли в клинику для душевнобольных. Они подружились еще в Канаде, в школе при женском монастыре, где вместе изучали музыку и искусство мастурбации. Постепенно я перезнакомился со всем гуртом, включая и сестру Антолину, которая носила бандаж и была, очевидно, верховной жрицей культа Фонанизма. Все они попеременно с ума сходили по сестре Антолине. И Арлина с ее мармеладной рожей была не первой из их шатии‑братии, кто угодил в психушку. Я не утверждаю, что именно мастурбация привела их туда, но сам дух обители, бесспорно, этому способствовал. Все они были с гнильцой – уже в зародыше.
К концу дня ко мне заглянул мой старый друг Макгрегор. Он, как всегда, явился в мрачном расположении духа и с порога начал жаловаться на приближение старости, хотя ему едва перевалило за тридцать. Когда я рассказал ему об Арлине, он как будто немного ожил. «Всегда, – говорит, – подозревал, что у нее не все дома». – «А что так?» – «Да вот, – говорит, – как‑то ночью попытался ею овладеть, а она закатила жуткую истерику. Дело было не столько в истерике, сколько в том, какую чушь она при этом несла. Заявила, что согрешила перед Святым Духом и поэтому должна жить в воздержании». Вспомнив этот эпизод, он невесело рассмеялся. «Я сказал ей, ладно, мол, не хочешь – не надо… подержи только его в руке. Когда я это сказал, она, похоже, совсем сбрендила. Заявила, что я пытаюсь осквернить ее невинность, – прямо так и сказала, ядрен батон! А сама при этом взяла его в руку и сжала так, что я чуть было концы не отдал. Еще и рыдала всю дорогу. Причем не переставала талдычить о Святом Духе и о своей „невинности“. Я вспомнил, что ты мне однажды говорил, ну и влепил ей оплеуху. Сработало как по волшебству. Разом угомонилась – ровно настолько, чтобы я смог в нее нырнуть, – тут‑то и началась самая хохма. Слушай, тебе когда‑нибудь приходилось ебать шизанутых баб? Знаешь, в этом что‑то есть. Только я наладился, как у нее начался словесный понос. Не могу расписать тебе все в деталях, но она вроде даже и не понимала, что ее ебут. Не знаю, имел ли ты когда‑нибудь бабу, которая грызет яблоко, пока ты ее того… в общем, сам понимаешь, как это действует. Но тут было в тысячу раз хуже. У меня даже нервы сдали, так что я стал подумывать, уж не свихнулся ли я сам‑то… И теперь вот еще что, хотя ты вряд ли поверишь, но клянусь, это правда. Знаешь, что она выкинула, когда мы кончили? Обняла меня и поблагодарила… Погоди, это еще не все. Потом она вылезла из постели, опустилась на колени и вознесла молитву за спасение моей души. Ей‑богу, как сейчас помню. „Прошу, – говорит, – пусть Мак станет добрым христианином“. И что, ты думаешь, я? Лежу себе тихо со сплющенной фитюлькой и внимательно ее слушаю. Причем не могу взять в толк, то ли мне это примерещилось, то ли что. „Прошу, пусть Мак станет добрым христианином!“ Слыханное ли дело!»
– Ты что делаешь сегодня вечером? – добавил он, повеселев.
– Да, в общем‑то, ничего, – ответил я.
– Ну тогда идем со мной. Есть у меня одна девуля – могу познакомить… Пола. Я закадрил ее пару дней назад в Роузленде. Она не шизанутая – просто нимфоманка. Хочу посмотреть, как ты будешь с ней танцевать. Вот хохма‑то будет… просто поглазеть на тебя. В общем, если у тебя не потечет по ноге, когда она начнет выдрючиваться, считай, что я сукин сын. Давай, прикрывай лавочку. Нечего тут попусту пердеж разводить.
Прежде чем отправиться в Роузленд, нам предстояло убить уйму времени, так что мы заглянули в маленький шалманчик неподалеку от Седьмой авеню. До войны там был французский кабачок; теперь это забегаловка, в которой заправляют двое итальяшек. Возле дверей располагался крохотный барчик, а в глубине – такой же крохотный зальчик с опилковым полом и музыкальным автоматом. По идее мы собирались немного выпить и перекусить. Но это только по идее. Хорошо зная Макгрегора, я, впрочем, вовсе не был уверен, что до Роузленда мы доберемся вместе. Стоит подвернуться какой‑нибудь мымре, которая придется ему по вкусу – а для этого не надо ни кожи ни рожи, – он, понятное дело, бросит меня на произвол судьбы, а сам смоется. Единственное, о чем я должен был позаботиться, когда бывал с ним, – это заранее удостовериться, что у него хватит денег расплатиться за выпивку, которую мы заказываем. И разумеется, ни в коем случае не упускать его из виду, пока он не расплатится.
Первые один‑два стаканчика погружали его в воспоминания. Воспоминания о пизде, конечно. Его воспоминания всегда сводились к истории, которую он мне как‑то поведал и которая произвела на меня неизгладимое впечатление. Это была история об одном шотландце на смертном одре. В тот самый момент, когда он вот‑вот должен был отойти в мир иной, жена его, увидев, что он силится что‑то сказать, нежно склонилась к нему и спросила: «Что такое, Джок? Чего тебе нужно?» И тут Джок, собравшись с силами, приподнялся и с последним вздохом испустил: «О‑о‑о, пизды… пизды… пизды».
Эта тема неизменно звучала у Макгрегора как во вступительном слове, так и в заключительном. Такая уж была у него манера общаться – по пустякам. Лейтмотивом было здоровье, потому что между ебами, так сказать, он изводил себя до опупения, или, вернее, до охуения. Для него было самым обычным делом в конце вечера брякнуть: «Зайди‑ка на минутку – хочу тебе хуй показать». Если хуй по двадцать раз на дню вынимать, рассматривать, скоблить и драить, он, естественно, всегда будет распухшим и воспаленным. Мак то и дело бегал к доктору, но доктор находил его орган в полном порядке. А то и просто, чтобы его успокоить, давал ему скляночку с мазью и рекомендовал поменьше пить. Что, в свою очередь, приводило к бесконечным дебатам, потому что он поминутно приставал ко мне: «Если мазь мне помогает, то почему я должен бросить пить?» Или: «Если я вообще перестану пить, думаешь, мне все равно придется пользоваться мазью?» Что бы я ни посоветовал, разумеется, ему в одно ухо влетало, в другое – вылетало. Маку необходимо было изводить себя – не тем, так другим, и пенис явно служил для этого подходящей пищей. То вдруг он начинал мучиться из‑за кожи головы. У него, как и у любого нормального человека, была перхоть, и, когда хуй его не беспокоил, он напрочь забывал о нем и начинал переживать из‑за кожи головы. Или еще грудная клетка. Стоило ему подумать о своей грудной клетке, как он начинал кашлять. И как еще кашлять! Будто у него чахотка в последней стадии. Когда же он ухлестывал за какой‑нибудь юбкой, то становился нервозным и раздражительным, как кот. Победы давались ему нелегко. Но как только он добивался желаемого, женщина переставала его интересовать, и он мучился, не зная, как от нее отделаться. В каждой женщине он обязательно находил какой‑нибудь изъян – как правило, какой‑нибудь банальный пустячок, но он‑то и отбивал у него всякую охоту.
Все это он живописал мне, пока мы сидели в полумраке забегаловки. После второго стаканчика он, по обыкновению, поднялся и пошел в туалет, закинув по пути монету в музыкальный автомат; плясуны пустились в пляс, и он тут же приосанился и, указав на стаканы, бросил: «Закажи по новой!» Вернулся он с видом чрезвычайно самодовольным: то ли оттого, что облегчил мочевой пузырь, то ли прикадрился на выходе к какой‑нибудь шкирле, – не знаю. Во всяком случае, сев за стол, он лег на новый галс – весьма глубокомысленно на сей раз и очень спокойно, почти что философски. «Знаешь, Генри, ведь мы стареем. Негоже нам с тобой так бездарно прожигать жизнь. Если мы хотим чего‑то добиться, то теперь самое время начинать…» Вот уже который год выслушивал я подобные «силлогизмы» и знал поэтому, чем дело кончится. Это так, маленькое отступление, пока он бесцеремонно разглядывал публику, прикидывая, которая из бимбо покрепче держится на ногах. Когда он разглагольствовал о нашем жалком прозябании, ноги его пританцовывали, а глаза разгорались все ярче и ярче. Разумеется, случилось то же, что всегда, то есть как раз в тот момент, когда он говорил: «Возьми, к примеру, хоть Вудрафа. Ему‑то уж точно ничего не светит, потому что он самый настоящий кретин, попрошайка, юродствующий сукин сын…» – стало быть, на этом самом месте, как я уже сказал, произошло следующее: какая‑то пьяная корова мимоходом поймала его взгляд, и он мигом прервал свое повествование, бросив ей: «Привет, детка! Почему бы тебе не присоединиться к нам и не выпить за наше здоровье?» Ну а поскольку пьяные телочки вроде этой никогда не пасутся в одиночку – все больше парочками, то она, разумеется, согласилась: «С удовольствием. Не возражаете, если я с подругой?» И Макгрегор с видом самого наигалантнейшего кавалера в мире, понятное дело, воскликнул: «Ну конечно, о чем речь! Как ее зовут?» И затем, повиснув у меня на рукаве, прошептал мне в самое ухо: «Не бросай меня, слышишь? Нальем им по стаканчику и свалим, идет?»
Но за одним стаканчиком, как водится, последовал второй; счет рос чересчур стремительно, и друг мой уже не мог взять в толк, с чего это он должен тратить свои кровные на каких‑то двух халявщиц, так что ты, Генри, мотай первым, скажи, что идешь в аптеку, что ли, а я через пару минут следом… только смотри, обязательно меня дождись, не кидай меня, сукин ты сын, как в прошлый раз. Очутившись на воздухе, я, как водится, схватил ноги в руки, и вперед! – посмеиваясь про себя и благословляя судьбу, что так легко от него отделался. С таким количеством спиртного за поясом уже не особенно соображаешь, куда несут тебя ноги. Бродвей сверкал огнями так же умопомрачительно, как и всегда. Толпа текла черной патокой. Валяй, вязни в ней, как муравей, и предоставь ей нести тебя дальше. Все так поступают: одни – по здравом размышлении, другие – по чистой случайности. Весь этот напор и движение, символизирующие действие, успех, нацелены на процветание. Останавливаюсь поглазеть на башмаки, на фасонные рубашки, новомодное осеннее пальто, обручальные кольца по 98 центов штука. Все остальные вливаются в пищевой эмпорий.
Всякий раз, когда в преддверии обеденного часа я вступаю на эту тропу к водопою, меня охватывает лихорадка предвкушения. Лишь несколько кварталов отделяют Таймс‑сквер от Пятидесятой улицы, и когда говорят Бродвей, то этим сказано все, что он представляет собой в реальности, а в реальности Бродвей – ничто: так, курятник какой‑то, вдобавок еще и вшивый, – но в семь вечера, когда все несутся к кормушке, в воздухе стоит что‑то вроде электрического потрескивания и волосы у вас встают дыбом, словно антенны, и, если вы восприимчивы, вы не только улавливаете каждый разряд и вспышку – вам передается некий статистический зуд, эдакое quid pro quo[31] взаимодействующих, всепроникающих эктоплазматических частиц, излучаемых телами, сталкивающимися в пространстве, как звезды, составляющие Млечный Путь; только Млечный – это Радостный Белый путь, вершина мира, не имеющая над собой крыши, и там не угодишь ногой ни в яму, ни в канаву, провалившись в которую можно было бы сказать: «Это ложь». Абсолютная обезличенность Бродвея доводит вас до высшей точки устойчивой социальной горячки, которая гонит вас вперед, как слепую клячу, прядающую горячечными ушами. Все как один напрочь перестают быть самими собой – причем настолько, что тут поневоле становишься воплощением всего человечества, обмениваясь рукопожатиями с тысячей человеческих рук, кулдыча на тысяче разнообразных человеческих языков, проклиная, восхваляя, освистывая, напевая, витийствуя, ораторствуя, жестикулируя, источая мочу, оплодотворяя, подольщаясь, скуля, угождая, совершая сделки, сводничая, задавая кошачьи концерты и так далее и тому подобное. Ты – вся масса людей, живших на земле со времен Моисея, и, плюс ко всему, ты еще и женщина, выбирающая шляпку, птичью клетку или мышеловку. Ты можешь устроить засаду, лежа в витрине, словно четырнадцатикаратовое кольцо, ты можешь ползать по стене здания, словно человекообразная муха, но ничто не остановит шествия – даже зонтики, летящие со скоростью света, или двухпалубный морж, с достоинством вышагивающий по направлению к устричным отмелям. Бродвей, каким я вижу его сейчас и каким наблюдаю уже четверть века, представляет собой наклонную плоскость, какой мыслилась она св. Фоме Аквинскому еще в утробе. Изначально он предназначался исключительно для змей и ящериц, рогатой жабы и розовой цапли, но, когда затонула Непобедимая Испанская Армада, человеческие существа смыло с палубы и они хлынули на континент, образуя в непотребных, постыдных корчах и содроганиях некую пиздообразную расщелину, простирающуюся от бейсбольных батарей на юге до площадок для игры в гольф на севере, пересекающую мертвый, кишащий червями центр острова Манхэттен. Здесь, между Таймс‑сквер и Пятидесятой улицей, сосредоточено все, что св. Фома Аквинский забыл включить в свой magnum opus,[32] и среди прочего, разумеется, гамбургеры, запонки, пудели, бытовые автоматы, седовласые игроки в шары, ленты для пишущих машинок, апельсиновые палочки, бесплатные сортиры, гигиенические пакеты, таблетки от кашля с привкусом ююбы, бильярдные шары, рубленый лук, крахмальные салфетки, люки, жевательная резинка, апельсиновые коктейли с лимонными палочками, рубчатые шины, магнето, лошадиная мазь, капли от кашля, фенамин и пресловутая кошачья вкрадчивость истерически одаренного кастрата, с болтающимся между ног обрубком шествующего к тележке с газированной водой. Предобеденный дух – смесь пачулей, разогретой смоляной обманки, глазированного электричества, засахаренного пота и припудренной мочи – вгоняет в лихорадку горячечного ожидания. И Христос никогда уже не сойдет на землю, и не явится никакой законодатель, и вовек не переведутся ни воры, ни насильники, ни убийцы, но все же… все же человек еще ждет чего‑то – чего‑то жутко удивительного и абсурдного: может, заливного омара под майонезом за бесплатно, может, нового изобретения вроде электрического света или телевидения, только более опустошающего, более душераздирающего, – изобретения немыслимого, которое обеспечит всеразлагающий покой и пустоту, но не покой и пустоту смерти, а покой и пустоту жизни, покой и пустоту, о которых мечтали монахи, о которых и по сей день еще мечтают в Гималаях, Тибете, Лахоре, на Алеутских островах, в Полинезии, на Острове Пасхи… покой и пустоту, которые были заветной мечтой человека еще с допотопных времен, с тех времен, когда еще не было написано первое слово; покой и пустоту, которые были мечтой пещерного человека и антропофага, мечтой двуполых и короткохвостых, мечтой тех, что слывут безумцами и не имеют ни малейшей возможности защитить себя, ибо количественно они подавляются теми, кого безумцами не считают. Холодная энергия, заарканенная хитрожопым быдлом, выпускается теперь, как ракеты из стартового пистолета, приводя в движение шестеренки, вращающиеся замысловатым образом, создавая иллюзию силы и скорости: одни преобразуют энергию в свет, другие – в мощность, третьи – в движение; слова, смонтированные из проводов маньяками и подогнанные одно к другому, словно фальшивые зубы, – безупречные, но вызывающие такое же омерзение, что и больные проказой; завораживающее, легкое, скользящее, лишенное смысла движение – по вертикали, по горизонтали, по кругу, от стены к стене и сквозь стены, ради удовольствия, ради выгодной сделки, ради преступления, ради сексуальных восторгов; весь свет, движение, мощь, безлично зачинаемые, порождаемые и распределяемые по всей длине душной пиздообразной расщелины, призваны ослепить и повергнуть ниц дикаря, деревенщину, изгоя, но никто не ослеп, никто не пал ниц; этот – голодный, тот – распутный… все на одно лицо и ни на йоту не отличаются ни от дикаря, ни от деревенщины, ни от изгоя – разве только какой‑нибудь ерундой, брик‑а‑браком, обмылками мыслей и опилками ума. В эту самую пиздообразную расщелину, клюнувшие на приманку, но не ослепленные, до меня вошли миллионы, и один из них – Блэз Сандрар, махнувший впоследствии на Луну, а оттедова – снова на землю, явившись в верховьях Ориноко воплощенным в облике дикого мужлана, зато на сей раз простым, как пуговица, хотя уже неуязвимым, уже не смертным – диковинной плавучей махиной стиха, воспевающего архипелаг бессонницы. Из тех, лихорадочных, мало кто вылупился; среди них я сам – еще в скорлупе, но уже проклюнувшийся и помеченный – в свирепом спокойствии постигаю скуку нескончаемого дрейфа и бездействия. Перед обедом переливы небесного света мягко струятся сквозь надтреснутый серый свод, блуждающие полусферы обсеменяются спорами с голубыми яйцевидными зародышами; они коагулируют и делятся: в одну корзинку омары, в другую – ростки зарождающегося мира, антисептически личного и абсолютного. Из люков, посеревшие от жизни в подземелье, насквозь пропитанные дерьмом, выползают наружу люди будущего мира, и глазированное электричество впивается в них крысиным зубом, едва угаснет день и, словно прохладные, освежающие сумерки канализационных труб, опустится тьма. Подобно обмякшему члену, выскальзывающему из перегретой пизды, я, по‑прежнему оставаясь в скорлупе, делаю несколько преждевременных телодвижений в попытке вылупиться, но то ли еще не вполне увял и обмяк, то ли, свободный от спермы, скольжу ad astra,[33] потому как время обеда еще не пришло и перистальтическое безумие требует одержимости верхнего отдела толстой кишки, подчревной области, пупочной и постшишковидной долей. Сваренные заживо омары плавают во льду, не давая пощады и не моля о пощаде; они недвижны и неправдоподобны в оледенелой скуке смерти, тогда как жизнь, дрейфующая мимо витрины, охвачена мерзостью запустения, безрадостной паршой, она изъедена трупным ядом и студеным стеклом витрины, словно пиратским ножом, отсечена ровно и чисто.
Жизнь дрейфует мимо витрины… Я такая же частица жизни, как омар, как четырнадцатикаратовое кольцо, как лошадиная мазь, но чрезвычайно сложно установить самый факт, а факт состоит в том, что жизнь есть товар с приложенным товарным чеком, причем то, что я выбираю себе в качестве пищи, гораздо важнее меня, едока, при этом все поедают друг друга, и поедают последовательно, – ведь глагол превыше всего. В процессе еды «хозяин» оскверняется и справедливость на время упраздняется. Блюдо и то, что на нем, посредством хищнической власти кишечного аппарата требует внимания и концентрирует дух, в первую очередь гипнотизируя его, затем медленно заглатывая, затем пережевывая, затем поглощая. Духовная часть существа улетучивается, как пар, не оставляя абсолютно никаких следов, ни признаков в калоотложениях; она исчезает, и исчезает гораздо основательнее, чем точка в пространстве по ходу математических выкладок. Лихорадка, которая может возобновиться завтра, точно так же соотносится с жизнью, как ртуть в термометре соотносится с теплом. Жизнь не станет теплее от лихорадки, а именно это и требовалось доказать, и лихорадка, следовательно, освящает спагетти с фрикадельками. Когда ты жуешь одновременно с тысячами жующих – а каждое жевательное движение есть акт убийства, – ты неизбежно становишься носителем определенного стадного мировосприятия, вследствие которого, выглядывая из окна, ты видишь, что даже и представителей человеческого рода можно за здорово живешь отправлять на убой, калечить, морить голодом, пытать, ибо, пока ты жуешь, самое преимущество сидеть одетым за столом, вытирать рот салфеткой позволяет тебе постичь то, чего так и не смогли постичь мудрейшие из мудрейших, а именно: никакой иной образ жизни невозможен, – тогда как вышеупомянутые мудрецы зачастую пренебрегали столом, одеждой, салфеткой. Стало быть, люди, каждодневно в определенные часы снующие по пиздной расщелине улицы под названием Бродвей в поисках того‑то и того‑то, имеют целью установить то‑то и то‑то, что в точности повторяет метод математиков, логиков, физиков, астрономов и иже с ними. Доказательство есть факт, а факт имеет лишь тот смысл, который придан ему теми, кто сей факт устанавливает.
Заглотив фрикадельки, незаметно смахнув на пол бумажную салфетку, слегка рыгнув и не зная, отчего и зачем, я вступаю в двадцатичетырехкаратовое сияние, да еще и в эффектной театральной упаковке. На этот раз я бреду по боковым улочкам, следуя за слепцом с аккордеоном. Время от времени я присаживаюсь на ступеньку и слушаю арию. Слушать музыку в опере – это полный идиотизм; здесь же, на улице, она обретает именно тот умопомрачительный привкус, который придает ей особую пикантность. Женщина, сопровождающая слепца, держит в руках оловянную миску; слепец тоже частица жизни, как и оловянная миска, и музыка Верди, и Метрополитен‑Опера‑Хаус. Каждое существо и каждая вещь являются частицами жизни, но когда они просто свалены в кучу, это еще не жизнь. «Когда же жизнь, спрашивается, – и почему не теперь?» Слепец бредет дальше, а я остаюсь сидеть на ступеньке. Фрикадельки тухлые, кофе паршивый, масло прогорклое. Все тухлое, паршивое, прогорклое – что ни возьми. Не улица, а вонючий рот; такова и соседняя улица, и следующая, и последующая. На углу слепец останавливается и исполняет «Домой в наши горы». Нащупываю в кармане жевательную резинку. Жую… жую, просто чтобы жевать. Занятие – лучше некуда, если только не надо принимать решение, принять которое невозможно. На ступеньке мне удобно и никто не мешает. Я – частица мира, жизни, что называется; я в ней, и я вне ее.
На ступеньке я в легкой дреме сижу где‑то около часа. Прихожу к тем же выводам, что и обычно, когда выдается минутка подумать о своем. Либо мне надо сейчас же двигаться домой и садиться за книгу, либо удариться в бега и начать совершенно новую жизнь. Мысль о книге вселяет в меня ужас: так много накопилось, о чем рассказать, что я не знаю, с чего и как начать. Мысль о том, чтобы удариться в бега и начать все заново, равно пугает: это значит работать как проклятый, чтобы только не протянуть ноги. Человеку моего склада, при условии что мир таков, каков есть, абсолютно не на что надеяться, негде искать спасения. Даже если бы я и правда смог написать ту книгу, какую хочу, ее все равно никто бы не оценил, – слишком уж хорошо я знаю своих соотечественников. Даже если бы я и правда смог начать все заново, толку все равно бы не было, потому что, в сущности, у меня напрочь отсутствует желание трудиться, желание стать полезным членом общества. Сижу и глазею на дом напротив. Он выглядит не просто безобразным и бессмысленным, как, впрочем, и остальные дома на этой улице, – но когда так напряженно в него всматриваешься, он начинает казаться верхом абсурда. Идея соорудить обиталище именно в таком духе поражает меня абсолютной бредовостью. Да и сам город поражает меня как образец величайшей бредовости – все в нем: канализация, линии надземки, бытовые автоматы, газеты, телефоны, полицейские, дверные ручки, ночлежки, рекламные щиты, туалетная бумага – все. С тем же успехом всего этого могло бы и не быть, и не только мы сами ничего бы не потеряли, но и вся вселенная оказалась бы только в выигрыше. Я вглядываюсь в лица людей, трюхающих мимо, пытаясь понять, есть ли среди них хоть один, кто мог бы со мной согласиться. Предположим, схватил бы я одного такого за фалды и задал бы ему один лишь простой вопрос. Предположим, я спросил бы его прямо в лоб: «Почему вы продолжаете жить так, как живете?» Пожалуй, он кликнул бы полицейского. Интересно, разговаривает хоть кто‑то из них сам с собой, как это делаю я? Да в своем ли я уме, спрашивается. Единственный вывод, к которому я прихожу, состоит в том, что я другой. А это вам не фунт изюма, что бы вы там ни думали. Генри, говорю я себе, неторопливо поднимаясь со ступеньки, потягиваясь, отряхивая брюки и сплевывая резинку, ты еще молод, Генри, говорю я себе, ты, Генри, желторотый птенец, цыпленок, и если ты позволишь им ухватить себя за яйца, то ты болван, Генри, ибо ты лучше любого из них, только хорошо бы тебе избавиться от ложных представлений о человечности. Генри, мальчик мой, ты должен уразуметь, что имеешь дело с головорезами и людоедами: просто они разодеты, выбриты, напомажены, но все же – головорезы и людоеды. Лучше пойти бы тебе, Генри, заказать себе охлажденного шоколаду, а когда сядешь выпить газировки, разуй глаза и забудь о судьбах человечества, потому что, может, ты еще найдешь себе смазливую цыпочку, и порядочная чистенькая цыпочка промоет тебе шарикоподшипники, и у тебя появится приятный привкус во рту, тогда как заботы о судьбах человечества чреваты перхотью, поносом, вонью изо рта, воспалением мозга. И вот, пока я таким образом расслабляюсь, подходит ко мне какой‑то забулдыга и стреляет у меня десятицентовик; я отстегиваю ему для полного счастья четвертак, думая про себя, что, будь у меня чуточку больше здравого смысла, я поимел бы сочную отбивную вместо паршивых фрикаделек, хотя какая теперь разница: все это еда, еда же производит энергию, а энергия – это то, что приводит в движение мир. Отказавшись от охлажденного шоколада, я продолжаю свой путь и вскоре оказываюсь как раз в том месте, куда стремился все это время, то бишь перед окошечком билетной кассы Роузленда. Ну вот, Генри, говорю я себе, если повезет, старина Макгрегор будет уже здесь и перво‑наперво выльет на тебя ушат дерьма за то, что ты слинял, а потом ссудит тебе пятерик, и если только ты постараешься не дышать, поднимаясь по лестнице, то, может, увидишь и его нимфоманку, а там и поимеешь сухостой. Входи, Генри, только тихо, и разуй глаза! И я вхожу, согласно инструкции, на цыпочках, сдаю в гардероб шляпу, отливаю для порядка, после чего не спеша спускаюсь назад по лестнице и прицениваюсь к тарифным барышням, разгуливающим в прозрачных шелках, – все напудренные, напомаженные, с виду холеные и манящие, но на деле наверняка адские зануды, да еще небось с мозолями на ногах. В каждую из них, пока я там ошиваюсь, я закидываю воображаемый уд. Заведение кишмя кишит пиздами и хуями, потому‑то я и не сомневаюсь, что найду здесь старину Макгрегора. Дивный способ не задумываться о глобальных проблемах. Я опять об этом, потому что в какой‑то миг, как раз когда я изучал чью‑то смачную попку, у меня начался рецидив. Я снова чуть было не впал в транс. Я, ей‑богу, подумал, что, может, мне и правда убраться отсюда, пойти домой и засесть за книгу. Жуткая мысль! Как‑то я целый вечер провел, сидя в кресле, ничего не видя и не слыша. Должно быть, я написал толстенный том, прежде чем очнулся. Лучше не рассиживать. Лучше постоянно находиться в движении. А не закатиться ли тебе, Генри, как‑нибудь сюда с кучей бабок – просто посмотреть, насколько тебя хватит. Я имею в виду сотню‑две баксов – пустить их на ветер, ни в чем себе не отказывая. Вон одна, на вид неприступная, с точеной фигуркой: бьюсь об заклад, она будет ужом виться – только подмажь ее хорошенько. Положим, заламывает она двадцать баксов, а ты ей – «Запросто!» Положим, шепнешь ей: «Слушай, у меня внизу авто… махнем на пару дней в Атлантик‑Сити?» Нет у тебя, Генри, авто, нет и двадцати баксов. Не рассиживайся… шевелись.
Конец ознакомительного фрагмента – скачать книгу легально
[1] Т. е., на языке автора статьи, «саморождение», иными словами, «творение самого себя» (этим. греч.).
[2] Dearborn Mary V. The Happiest Man Alive: A Biography of Henry Miller. N. Y.; L.; Toronto; Sydney; Tokyo; Singapore: A. Touchstone Book. Publ. by Simon & Schuster, [1992]. P. 160. – Здесь и далее иноязычные цитаты даются в переводе автора статьи.
[3] The Diary of Anaïs Nin. 1931–1934 / Edited and with an Introduction by Gunther Stuhlmann. San Diego; N. Y.; L.: A Harvest Book. The Swallow Press and Harcourt Brace & Company, s. a. P. 136.
[4] Dearborn Mary V. The Happiest Man Alive… P. 161.
[5] Ibid. P. 174.
[6] The Diary of Anaïs Nin. 1931–1934… P. 132–133.
[7] Ibid. P. 134.
[8] Ferguson Robert. Henry Miller: A Life. N. Y.; L.: W. W. Norton & Company, [1991]. P. 206.
[9] Наст. изд. С. 185.
[10] The Diary of Anaïs Nin. 1934–1939 / Edited and with a Preface by Gunther Stuhlmann. San Diego; N. Y.; L.: A Harvest / HBJ Book. The Swallow Press and Harcourt Brace Jovanovich Publishers, s. a. P. 67.
[11] Штейнер Рудольф. Мистерия и миссия Христиана Розенкрейца: Лекции 1911–1912 гг. СПб.: Дамаск, 1992. С. 23–24.
[12] The Diary of Anaïs Nin. 1934–1939… P. 99.
[13] Наст. изд. С. 183.
[14] Perlès Alfred. My Friend Henry Miller: An Intimate Biography / With a Preface by Henry Miller. L.: Neville Spearman, [1955]. P. 112.
[15] Наст. изд. С. 155.
[16] Миллер Генри. Время убийц: Этюд о Рембо // Иностранная литература. 1992. № 10. С. 162 (пер. Инны Стам).
[17] The Diary of Anaïs Nin. 1931–1934… P. 106.
[18] Миллер Генри. Время убийц… С. 167.
[19] Там же.
[20] Dearborn Mary V. The Happiest Man Alive… P. 152.
[21] Miller Henry. Black Spring. L.; Glasgow; Toronto; Sydney; Auckland: Grafton Books. A Division of the Collins Publishing Group, [1986]. P. 24–25.
[22] The Diary of Anaïs Nin. 1931–1934… P. 356.
[23] Dearborn Mary V. The Happiest Man Alive… P. 200.
[24] Ibid. P. 152.
[25] Ibid. P. 198.
[26] Ярхо Г. И. Предисловие // Казанова Джованни Джакомо. Мемуары; Цвейг Стефан. Казанова. М.: Книга, 1991. С. 6.
[27] Казанова Джованни Джакомо. Мемуары; Цвейг Стефан. Казанова. С. 293.
[28] Здесь: как подобает (фр.).
[29] Нежелательное лицо! (лат.)
[30] До бесконечности (лат.).
[31] Буквально: одно вместо другого; путаница, недоразумение (лат.). Здесь: субститут, заменитель.
[32] Главный труд (лат.).
[33] К звездам (лат.).
Библиотека электронных книг "Семь Книг" - admin@7books.ru