
Я уже не боюсь | Егор Зарубов
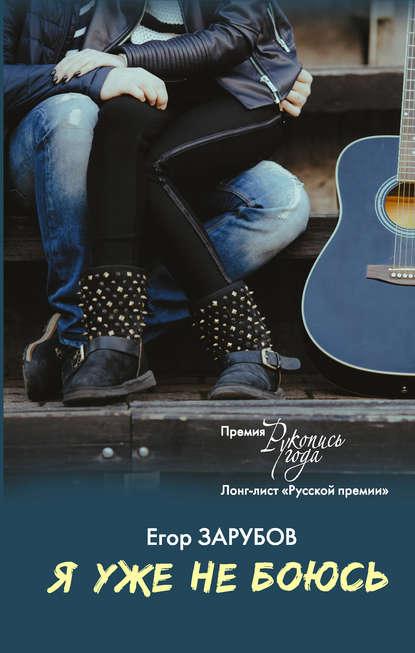
Егор Зарубов
Я уже не боюсь
* * *
Часть 1. Летнее время
1
Когда мне было семнадцать, я убил человека. Но до этого было долгое, долгое лето, и произошло еще очень много всего. Слишком много. Честно говоря, многовато для одного. Поэтому я и решил этим поделиться.
И еще: я буду использовать настоящее время, если вы не против. А если против, то мне все равно. Потому что, когда тебе семнадцать, время сжато в сверхплотную точку. Сдавлено, стиснуто, скручено в звенящее от напряжения «здесь и сейчас». Настоящее время. Да, это то, что нужно.
Ну все, погнали.
– Мясо надо жрать настоящее, без химии всякой, – мычит с набитым ртом Крот, вгрызаясь в бутерброд и осыпая мое колено новой порцией крошек. Прожевав кусок, он продолжает: – Они в корм добавляют какую‑то фигню, которая у животных снижает агрессию. А у дикой зверюги, которая на природе пасется, в мясе полно этой вот агрессивности… Какой‑то там ген, или фермент, или еще какая‑то хрень. Без нее мужику жить нельзя. Вот так‑то…
Я смотрю в грязное окно ползущего в пробке «икаруса». Когда же мы наконец приедем и можно будет перестать слушать этот бред?
– А тебе, Карась, уж точно надо такое мясо хавать… Ты ж борец, тебе силу надо! – не умолкает Крот, поглощая остатки бутерброда. Майонез пачкает пробившиеся в прошлой четверти молочные усы, одна капля попадает на стекло толстых очков. – Точно тебе говорю, уж я‑то знаю…
Покончив с бутербродом, Крот поворачивается, кладет подбородок на скрипнувшую спинку сиденья и пялится на занявших галёрку девчонок.
– Ты как думаешь, кто круче, Олька Бугас или Капитанская Дочка? Я бы их обеих потискал… – тихо говорит он, заговорщически подмигивая огромным глазом за стеклом линзы.
Я качаю головой: не хочется говорить Кроту, насколько «реальны» его мечты. Он наверняка и сам знает.
Не думаю я и об Оле с Капитанской Дочкой. Оля напоминает фарфоровую статуэтку – холодная и надменная, она, кажется, может разбиться от легчайшего прикосновения. А Капитанская Дочка (на самом деле Вика, у нее папа капитан милиции) похожа на оглушенную рыбу: вялая, унылая и безжизненная, с вечно выпученными глазами. Не думаю о них, стараюсь сосредоточиться на предстоящих соревнованиях. Но это не удается.
Все мысли занимает Надя. Она сидит впереди и справа – или, скорее, лежит на двух свободных сиденьях; черные волосы с розовой прядью свисают в проход, чуть‑чуть не доставая до грязного пола.
Крот следит за моим взглядом и присвистывает:
– Э‑эх, Михасик‑Михасик… Арсеньева тебе не по зубам. Так что забудь.
Похлопав меня по плечу жирными пальцами, он вновь нацеливает очки на одноклассниц с галерки, оставив хоть ненадолго меня в покое. Автобус наконец протискивается между отбойником и разбитой всмятку после стычки с трамваем иномаркой и с натужным ревом начинает набирать скорость. Подскочив на ухабе, он будит задремавшую Надю, которая потягивается, вытянув руки к тихо шелестящим черным воздуховодам на потолке, смотрит назад, в сторону галерки, скользит полным презрения взглядом по Оле с Капитанской Дочкой и бегло сканирует остальных.
Взгляд больших янтарных глаз цепляется за меня… и она мельком улыбается. Замечаю серебристый блеск брекетов; обычно девчонки с ними кажутся страшилами, но в Надином рту они похожи на какое‑то украшение.
Улыбка пропадает. Надя натягивает свои огромные наушники и прячется за пыльным изодранным подголовником.
Показалось? Наверняка показалось. Не могло не показаться. Она не могла улыбнуться мне. Даже просто заметить такую микрофлору, как я, ниже ее достоинства, так что я всего лишь придумал себе эту улыбку – хищную и одновременно манящую, как у красоток в мужских журналах, которые папа иногда покупает в «Союзпечати» на углу.
Автобус причаливает к тротуару, втиснувшись в ряд припаркованных машин. Дверь открывается, и стайка вызвавшихся сопровождать меня «болельщиков» – а по сути, обычных легализованных прогульщиков – высыпается на улицу. Выходя из автобуса, я вновь замечаю взгляд Нади и чувствую, как по коже бежит странная дрожь. Я не знаю, радует меня этот взгляд или пугает. В нем есть что‑то такое… первобытное, что ли. Как будто я кусок мяса, а она – плотоядный зверь. В памяти тревожным эхом прокручиваются бредни Крота про мясо.
Я прохожу совсем рядом с ней, чувствуя запах земляничного «Орбита», а сквозь него – сигарет «Магна», и слышу песню из фильма «От заката до рассвета», доносящуюся из болтающихся на Надиной шее наушников. Впереди маячит, сверкая лысиной, физрук и тренер по борьбе Владислав Юрьевич. Взмахом руки он манит всех к облупившемуся зданию спорткомплекса Суворовского училища, где проходят республиканские соревнования по самбо и дзюдо. Забросив за плечо сумку с самбовкой и шортами, я бреду следом за учителем, глядя на белую жвачку, которую тот прилепил за набухшим сломанным ухом, и думая, какая же мерзкая это привычка. «Как ее потом можно снова жевать?» – думаю я, и ехидный внутренний голос тут же отвечает вопросом на вопрос: «А от Надиного „Орбита“ ты бы отказался? Особенно с ее языком в придачу?»
Я трясу головой, стараясь вытряхнуть из нее все подобные мысли и думать о борьбе.
Чем ближе входная дверь, тем сильнее вздымается вал мандража, готовый поглотить меня без остатка. Странно. Я уже не первый год хожу в секцию борьбы, участвовал во множестве всяких спартакиад и соревнований, но неизменно чувствую этот поганый страх. Сейчас его только подпитывает наше опоздание: в зале уже наверняка полно народу, а эти чертовы взгляды, колкие и цепкие, как репейник, они хуже всего…
Я люблю историю. Хорошие оценки. Выигранные олимпиады. Особенно люблю даты. Повторяю их иногда. Это меня успокаивает.
476 год нашей эры – падение Римской империи.
1492‑й – открытие Америки Колумбом.
1861‑й – отмена крепостного права.
Даты как бы подсказывают, что все уже было. А значит, ничего особенно страшного уже не случится.
– Давай, Карасин, бегом в раздевалку – и в зал, – бурчит Владислав Юрьевич, болтая висящим на пальце свистком. Интересно, зачем он его сюда‑то притащил?
Я юркаю в дверь мужской раздевалки, а физрук и «группа поддержки» движутся дальше, к гудящему впереди пчелиным ульем залу.
Раздевалка пуста, лампы не горят, в колоннах падающего через мутные стекла света клубятся хлопья пыли. Я подхожу к одному из открытых шкафчиков, сажусь на скамейку, начинаю разуваться. Потом раздеваюсь, кладу вещи на полку, ставлю кроссовки вниз, достаю из сумки красные шорты и самбовку. Движения размеренны, неторопливы: уже здесь, в раздевалке, следует готовить себя к предстоящему бою, с помощью примитивного самогипноза монотонных движений обретая спокойствие и хладнокро…
– Хочешь меня?
Я резко поворачиваюсь, врезаюсь коленом в стальную дверцу шкафчика, крякаю и застываю на одной ноге, привалившись спиной к холодному металлу.
Надя.
Совсем близко.
Увидев меня, почти голого, оцепеневшего, стоящего на одной ноге, как фламинго в синих трусах, она смеется.
– Ч…что? – только и могу прошептать я, уже не страшась предстоящего состязания и даже мечтая поскорее оказаться на татами. В мигом пересохшее горло будто натолкали битого стекла, слова с трудом прорываются наружу и безвольно осыпаются с губ, как песок.
Надя подходит ближе. Ее теплое дыхание скользит по моей щеке: снова запахи земляничной жвачки и сигарет. Янтарные глаза смотрят на меня с насмешкой и щепоткой жалости.
– Я говорю, хочешь меня, Карасин? – отчетливо повторяет она.
Хочется немедленно провалиться под землю. Лучше даже насквозь, чтоб выскочить где‑то в Австралии. От смущения краснеет, кажется, не только лицо, но и все тело.
На ее губах расцветает и с едва слышным хлопком лопается пузырь жвачки. Мы стоим молча, и секунды превращаются в вечность, а я сам – в бесконечного пространственно‑временного червя, о которых нам с упоением рассказывал старый физик Григорий Израилевич.
Наконец Надя властно притягивает меня к себе и целует: брекеты клацают о мои зубы. Я хлопаю глазами, как утопающий, и не знаю, что делать, когда Надя проталкивает языком жвачку мне в рот и отстраняется, оставив вместе с ягодным вкусом «Орбита» и стальным послевкусием брекетов едва ощутимый привкус себя.
– Думаю, это значит «да», – воркует она.
– Арсеньева… Надя… – бормочу я, чувствуя, как разливающаяся по телу волна жара заставляет кружиться голову и бешено колотиться сердце.
Секундой позже Надя касается языком моей щеки, а потом легонько отталкивается руками от моей груди, как пловчиха от бортика бассейна, и возвращается к двери.
– Порви там всех, и я подумаю над твоими перспективами, – говорит она, ослепительно улыбнувшись, и хлопает казенной синей дверью, оставляя меня наедине с тарахтящим в груди сердцем и нарастающей убежденностью, что все это мне просто привиделось.
Если бы не жевательная резинка во рту, я бы в этом не сомневался.
– Михась, ты чего такой красный‑то? – спрашивает Крот, подозрительно щуря подслеповатые глазки. – Как кипятком обварили… Рожу от самбовки не отличишь.
Я не отвечаю. Скользнув торопливо взглядом по сидящим на длинной скамейке одноклассникам – и заметив черные, с розовой прядью волосы, – я сажусь с краю и смотрю на сплетенные клубки тел, танцующих и катающихся на коврах.
На трех татами одновременно шесть человек. У каждого ковра стоит стол, за которым сидит судья. Скамейки у стен спортзала усеивают болельщики, родители и ожидающие своего выхода борцы.
Больше всего я ненавижу именно ожидание. Если бы можно было выйти из раздевалки прямиком на ковер, в бой, как из душевой в бассейн, было бы куда легче. Но эта задержка, эта нервотрепка, эта попытка высмотреть в сидящих вокруг будущего соперника… И обычно‑то мучительно, но сейчас, после этого… этого случая с Надей Арсеньевой, сиденье на скамье просто невыносимо, будто пришлось взгромоздиться на горящую конфорку.
Зал, и так сотрясаемый воплями, отрывистыми выкриками судей и подбадривающими кричалками, ревет: здоровенный армянин, с которым мне уже доводилось встречаться в прошлом году, с хлопком распластал на мате парнишку легче его самого килограммов на десять. И куда только смотрел судья, когда их ставил вместе? Паренек трепыхается, как выброшенная на берег рыба, пытаясь выбраться из‑под армянина, но тот не выпускает его, пока судья не засчитывает четыре балла за двадцатисекундное удержание.
В прошлом году на месте паренька был я. Мрачная мысль о возможности вновь встретиться с этим громилой на татами угнетает еще больше, чем ожидание.
«Порви там всех, и я подумаю над твоими перспективами», – проносится в голове.
– Карасин Михаил! – кричит судья на правом татами, и я вздрагиваю, как ужаленный.
Во рту до сих пор болтается потерявшая вкус жвачка, и я незаметно леплю ее под лавку. Вскочив, затягиваю потуже красный пояс и направляюсь к ковру, стараясь не смотреть на сидящих вдоль стены.
Особенно на Арсеньеву.
На ковер выходит парень примерно одного со мной сложения, в белой самбовке и синих шортах. Взгляд немного затравленный, волосы взъерошенны, на веснушчатом лице испарина.
Значит, выходит уже не первый раз.
Судья бьет в звякнувший жестяной гонг, и мы с соперником, поклонившись друг другу, осторожно сближаемся. Я толком даже не успеваю сообразить, с кем имею дело, – противник вцепляется в плечевые захваты моей самбовки и неуклюже пытается поставить заднюю подножку, от чего сам опасно кренится. Делаю резкий толчок и обрушиваю соперника на спину, заработав первые четыре балла.
Спустя минуту с небольшим я покидаю татами, получив двенадцать баллов и сделав оппонента всухую. В этом нет ничего необычного: возможно, в других единоборствах и случаются красочные и затяжные бои, подобные схваткам в фильмах с Ван Даммом или Брюсом Ли, но в самбо/дзюдо, как правило, превосходство одного из противников проявляется сразу, и начинается, как говорит Владислав Юрьевич, «избиение младенца». Мне не раз доводилось как побеждать, так и с треском проигрывать за считаные минуты, поэтому обычно такие легкие победы не приносят особой радости. Но на этот раз я доволен.
В голове кружится назойливым жужжащим насекомым мысль о моих, как сказала Надя, «перспективах».
Проходя мимо вяло изображающих ликование «болельщиков» из своего класса – только Крот оголтело вопит: «Михасик молото‑о‑о‑ок!» – я все же задерживаю взгляд на Наде и вижу на дне ее глаз озорные бесовские искорки. Она отвечает мне улыбкой, проведя кончиком языка по губам цвета красного вина, накрашенным, как сказала бы моя мама, «вульгарно». На этот раз и я выдавливаю бледную тень улыбки, радуясь, что на раскрасневшемся после боя лице не виден смущенный румянец. Усевшись на свое место, жду следующего крика судьи.
Обычно угнетающий гул соревнований сейчас где‑то далеко, будто звук двигателей самолета, скрытого высоко в облаках. Надя хозяйничает в моей голове, прогнав оттуда прочие мысли. Вспоминаются слова Крота: «не по зубам». Пожалуй, того же мнения почти все вокруг: даже просто тусоваться с Арсеньевой мечтают многие, но удача выпадает мало кому.
– Карасин Михаил!
Крик судьи вырывает из размышлений, и я вновь плетусь на ярко‑желтый, блестящий в свете ламп ковер. Хотя уже не совсем плетусь: появилось чуть больше уверенности. Бой вновь получается быстрым и победным, хотя на этот раз противник сумел‑таки сделать двухбалльный бросок, и разгрома всухую не вышло.
Возвращаюсь, тяжело дыша и слушая грохот сердцебиения в ушах, и ожидаю третьего, финального выхода. Если одолею соперника, то получу первое место в своей категории. Если нет – будет еще бой, где смогу претендовать на третье. Но этот вариант я даже не рассматриваю – ведь тогда на «перспективах» будет поставлен крест.
Наконец звучит третий призыв. Поднимаюсь и бодро шагаю к ковру, надеясь, что удача не подведет и на этот раз. Но, когда судья следом кричит имя соперника, ноги на мгновение страшно тяжелеют, став бетонными столбами, и резко хочется в туалет.
– Мирзоян Артур!
На другой стороне зала огромный силуэт отделяется от частокола сидящих на скамье борцов и движется к татами. Заставляю себя стряхнуть оцепенение – ведь все (и Надя) смотрят – и волочусь параллельным курсом, как приговоренный на эшафот. В памяти всплывают ощущения, с которыми тебя впечатывают в ковер. «Перспективы» становятся весьма туманными…
Впрочем, стоит ступить на холодный кожзаменитель татами, как страх покидает меня вместе с прочими эмоциями, уступив место холодной расчетливости. Тело, разогретое предыдущими схватками, готово к сражению.
Армянин скользит по мне безразличным, полным скуки взглядом, как по очередному таракану, которого приходится давить. Вряд ли он запомнил нашу предыдущую встречу.
Звук гонга. Поклон. Бой начался.
Вспоминаю, как в прошлый раз меня сгубила излишняя напористость, и начинаю кружить по ковру, постепенно сближаясь с Мирзояном и выставив вперед руки, как клешни краба. На смуглом лице соперника появляется едва заметная ухмылка: он знает, что рано или поздно мы будем бороться, ведь за уклонение оппонента от боя активному борцу дают один балл, что порой решает исход поединка.
Мы кружимся вокруг центра ковра, постепенно сближаясь, как космические корабли перед стыковкой, пока, наконец, не цепляемся за плечи друг друга верхним захватом. Думаю рвануть вниз – там преимущество рослого армянина будет не таким ощутимым, – но, прежде чем успеваю осуществить задуманное, меня вдруг отрывают от земли и швыряют на ковер – легко, как тряпичную куклу.
– Мирзоян, четыре балла! – кричит судья.
Зал бешено ревет. Тень армянина нависает надо мной. Я почти ничего не слышу: в ушах от удара стоит гул, глаза на миг слепнут от яркого света ламп.
Глубоко вдохнув, поднимаюсь и, подпрыгнув на месте, подавляю желание кинуть взгляд на Надю.
Начинаю сближаться с Мирзояном. На этот раз бросаюсь вниз, обхватываю громилу за поясницу, подсекаю ногой и чувствую, как армянский колосс валится под собственной тяжестью…
Мирзоян падает, перекатывается и подминает меня под себя. Извиваюсь ужом, но все бесполезно: меня надежно пригвоздили к ковру. Начинается отсчет удержания: до двадцати секунд – два балла, больше – четыре. В нос ударяет запах пота от самбовки армянина, его полные презрения глаза совсем близко.
Наверное, у Нади сейчас такой же взгляд. Если она вообще смотрит на этот позор.
Отчего‑то эта мысль вместо отчаяния вызывает ярость. А память о ее прикосновениях, ее дыхании на моей коже, ее вкусе заставляет мышцы налиться сталью.
Взревев, я начинаю сбрасывать с себя удивленного Мирзояна и вырываюсь на свободу.
– Мирзоян, два балла! – кричит судья, в голосе которого тоже мелькает нотка удивления.
Но я собираюсь продолжить удивлять их всех. Чувствую прилив сил, вновь бросаюсь на противника…
И снова оказываюсь на полу.
– Четыре балла Мирзояну!
«Блин… Еще два балла, и мне крышка», – думаю я, проклиная себя за неосторожность. Поднявшись, смотрю на Мирзояна; внутри черной жижей клокочет ненависть.
Я не позволю забрать у меня «перспективы».
Не этому детине с вечной насмешливой улыбкой на лице.
Не сегодня.
Испуская тихий рык, двигаюсь вперед. Вижу в глазах Мирзояна какое‑то странное выражение – возможно, страх от того, что он увидел в моих. Чувствую, что белки моих глаз покраснели, налившись кровью.
Хватаю армянина и пытаюсь свалить его. Тот стоит камнем, но и его попытки контратаковать мне удается парировать. Мы оба глухо ревем, из моего рта на татами капает слюна.
Вдруг рассудок ледяным лезвием рассекает мысль об ударе. Вспоминаю, как один чувак из сто тридцать первой школы на спартакиаде в прошлом году рассказывал, что их этому учил тренер: прикрывшись самбовкой – так, чтобы не видел судья, можно пару раз врезать противнику в челюсть. «Расслабляющие удары», как он их назвал.
Решение принимается мгновенно. Прикрыв кулак курткой, разворачиваюсь спиной к судье и что есть силы луплю армянина в челюсть. Тот воет, удивленные глаза наполняются слезами.
Еще удар.
Еще.
Судья не видит, зато видит зал: под потолком разносится возмущенный рев. Краем глаза среди других лиц замечаю Надино; в отличие от шока, изумления или возмущения остальных, в ее взгляде есть нечто, очень похожее на торжество.
Мирзоян, оправившись от неожиданного потрясения, сам обрушивает на меня град молотящих ударов. Затем подсекает, валит на ковер, хватает за руки, не зная, что делать дальше – бить самому или не позволять бить себя. Его толстая, как бревно, рука совсем рядом с моим лицом.
И тогда, попытавшись шевельнуть руками и ногами и убедившись в их полной обездвиженности, я чувствую, как рассудок окончательно растворяется в отчаянной, бешеной ярости, и применяю последнее оставшееся оружие.
Мирзоян, в окружении толпы сочувствующих, выходит на крыльцо с перебинтованной рукой. Его тренер хлопает армянина по плечу. В глазах борца по‑прежнему стоит полное непонимание того, что произошло. Я отхожу за угол и возвращаюсь назад, когда крыльцо спортзала пустеет.
– Ну ты дал, Михасик… Ну ты дал! – заливается Крот. – Юрич говорит, что будут ставить вопрос об отчислении… Хотя он так всем говорит… Вон и мне, когда с сигаретой в параше поймал, то же говорил… А ты не парься, Михасик. Мы все… все за тебя.
Киваю, и Крот убегает к стайке возле автобуса. Я знаю, что там Крот, как и все остальные, тут же начнет обсуждать, насколько съехала моя крыша и когда меня переведут в школу для умственно отсталых душевнобольных маньяков‑дебилов. Вспоминаются слова Крота о натуральном мясе. Я до сих пор чувствую во рту вкус крови Мирзояна и едва сдерживаю истеричный смешок.
– Хочешь? – слышу голос за спиной.
Обернувшись, вижу Арсеньеву. Она протягивает пачку с двумя оставшимися сигаретами. Я не курю, хочу отказаться, но вдруг протягиваю руку и беру сигарету. Надя достает другую и, смяв пачку, бросает ее на замусоренный газон. Щелкает розовая зажигалка «Cricket» в Надиных пальцах, и рот наполняется горьковатым дымом, хоть немного забивающим солоноватый привкус.
Курим и молчим; по улице безразлично несутся машины, в окнах домов, окутанных сумерками, загорается свет. Наконец Надя бросает окурок в траву и говорит:
– Честно говоря, я с Олей Бугас поспорила на червонец, что ты выиграешь, и решила тебя… это… мотивировать чуток.
Я неопределенно хмыкаю.
Улыбнувшись, она отворачивается и, не оглядываясь, идет в автобус. Смотрю ей вслед: от табачного дыма кружится голова.
Думаю о том, что скоро конец учебного года, и смеюсь. Проходящая мимо женщина замечает мои окровавленные зубы и ускоряет шаг.
2
Я стою на остановке. Раннее утро, над проспектом еще висит прохладный сумрак, гул редких машин рикошетит от домов протяжным эхом и растворяется в тишине. Я жду первый троллейбус, чтобы успеть к восьми утра на работу в задницу мира – промзону вокруг метро «Выдубичи». Подрабатываю там уже неделю грузчиком на фирме у отца Вовы Шмата – таскаю шифер, трубы, мешки с цементом и пакеты с шиферными гвоздями.
В доме напротив поднимают роллеты в отделении банка. У двери соседней парикмахерской курит, прислонившись к стене, мама Аллы, подружки Долгопрудного. Я знаю, что она выкурит две сигареты, прикурив одну от другой, а потом откроет парикмахерскую и пойдет работать – и как раз в эту секунду (ну или секундой позже) из гастронома на углу выйдет Усатый, дед Китайца, с растворимым кофе в стаканчике, который он зимой пьет в кафетерии, а летом на улице. Выпьет в два глотка, швырнет смятый стакан в урну и дворами пойдет на завод, как ходит уже тридцать лет. Ну а потом и троллейбус покажется на горизонте, на перекрестке взметнув к небу фонтан ярких синих искр.
Вдруг думаю, что это не просто я знаю, что и когда случится, а наоборот – все происходит по моему велению и хотению. Я здешний маленький божок. Приказываю маме Аллы бросить сигарету – и вуаля, окурок в траве. Велю старику с кофе отправляться в цех – и вот уже древний серый пиджак с рыжей латкой на правом локте исчезает в густой зелени яблонь во дворе напротив. И мне самому не приходится ехать на работу поневоле. Это мой выбор. Часть этого мира, моего мира, которым я управляю.
Поскрипывая и постанывая, к тротуару подкатывает троллейбус с рекламой нового дельфинария на борту. Шипит дверьми, будто выдыхая от усталости. Средние двери не работают, и я запрыгиваю в задние. Несмотря на утреннюю прохладу, в салоне древней чехословацкой «шкоды» пахнет вчерашней жарой – раскаленным дерматином, горячим поролоном из набивки изодранных сидений, немытыми телами и, совсем немного, духами и табаком; из кабины водителя через почти пустой салон тянутся облачка дыма.
Плюхнувшись на сиденье и положив ноги на пустое кресло впереди, я думаю о школе. Ясное дело, никто никого никуда не исключил – это, судя по всему, вообще была тупая шутка тупого Крота. Зато обо мне слух пошел, что я слегка того. Это приятно. У меня в последнее время чувство гулкой пустоты в том месте, где вроде как должна находиться личность. Я раньше любил смотреть по телику мультики про черепашек‑ниндзя. Их трудно было спутать, и не только из‑за разноцветных повязок на лбах. Леонардо был главным. Рафаэль отпускал саркастические шуточки. Микеланджело обожал пиццу, а Донателло был умником и придумывал всякие изобретения.
Я был никем.
А теперь я псих, кусающий людей за руки.
А еще я играю на гитаре.
Странно, но, вспоминая эту историю, я совсем не думаю об Арсеньевой. Когда Юля пришла в наш класс, она мигом вышибла Надю из моих мыслей так далеко, что та скрылась за горизонтом.
Когда троллейбус проползает мимо универмага, я думаю о кроссовках «Adidas», которые продаются там в обувном отделе. Это даже не совсем кроссы, а скорее помесь с сандалиями: носок закрытый, а сзади лямки с застежками. Темно‑зеленые. Суперкруть. В таких и в футбик играть можно, и не жарко. Только вот дорогие. Но я до середины лета успею подзашибить бабла, и «адики» будут мои… Лишь бы их никто до меня не купил…
Выдубичи – территория победившего ада. Сумасбродные хитросплетения эстакад и путепроводов, ветвящихся друг над другом и вечно гудящих от несущихся машин. А внизу – окутанный выхлопными газами замусоренный пустырь, забитый ларьками и маршрутками и патрулируемый стаями бродячих псов. Однажды учитель рисования Аркадий Иванович (его за полноту и вечную сонливость прозвали Диванович, или просто Диван) показывал нам альбом с картинами художника Эшера, со всякими шизоидными бесконечными спиралями, лестницами, которые ведут сами в себя, и прочими невозможными безумными штуковинами. Сидя на скамейке в ожидании служебного автобуса, который потащит меня в недра промзоны, я смотрю на клубок бетонных змей над головой и думаю, что Эшер мог приложить руку к созданию этого места. Кажется, все эти пути никуда не ведут, замыкаются сами на себя, машины бесконечно гоняют по кругу, и все здесь давно покорилось неконтролируемому хаосу.
Когда‑то желтый, а теперь побуревший от вечной здешней копоти «Икарус» ползет среди облезлых заводских цехов, кирпичных труб и заваленных остовами машин полей растрескавшегося асфальта. «Гармошка» автобуса так жалобно стонет на поворотах, что кажется, он вот‑вот распадется пополам. Я сонно вишу на поручне над Боцманом – сварщиком со СТО напротив нашей конторы, который когда‑то служил на флоте и теперь вечно козыряет татуировками с якорями, когда напьется. Он меня не видит – сопит, прислонив голову к стеклу; кепка с надписью «USA California» съехала с головы, приоткрыв остатки седой шевелюры.
Остальных не знаю, хотя много знакомых лиц: каждое утро едем вместе. Все такие же серые, угрюмые и молчаливые, как и пейзаж за окном.
Я работаю в паре с Дрэдом. Назвали его так, наверное, из‑за фильма со Сталлоне – во всяком случае, точно не из‑за прически, которой у него нет по причине облысения. Не знаю, мне все равно. Дрэд – вечно угрюмый долговязый дрищ с худыми руками‑палками; он вроде как только вышел из тюрьмы, где сидел неизвестно за что непонятно сколько. Он особенно не распространяется, а мне неинтересно. Мы с ним таскаем туда‑сюда волнистые и плоские шиферные плиты, загружаем машины клиентов, разгружаем те, что привозят нам товар, взвешиваем и отпускаем мешки с шиферными гвоздями, а в редкие минуты отдыха лежим на горе мешков с цементом, в тени ржавой лапы козлового крана, и курим одну сигарету за другой, глядя на белые следы самолетов в синеве неба и башни огромных труб ТЭЦ, высящиеся на горизонте.
Из здания бывшего заводоуправления в горячую, вечно висящую в воздухе уличную пыль выходит Тарас. Нас в фирме аж пятеро – мы с Дрэдом, грузчики, Таня, беременная девушка‑бухгалтер, завхоз Никитична и Тарас – директор. Вернее, не так – Его Высокопревосходительство Директор. По крайней мере так он себя ведет. По сути он просто напыщенный говнюк в костюмчике – лет на пять старше меня (Тарас, не костюмчик), но корчит из себя кого‑то типа Билла Гейтса. Вечно с перекошенной харей отряхивает пыль со своего пиджачка, промакивает вспотевший бледный лоб салфеткой, и жрать ходит не в столовую, а ездит куда‑то в город на своей новенькой «бехе», черно‑переливчатой, как навозный жук. И никогда не здоровается за руку со мной или Дрэдом. Однажды я протянул ему ладонь, сняв серую от цемента перчатку, и его, кажется, едва инфаркт не прошиб от брезгливости.
На самом деле Тарас – сынок хозяина, и здесь он почти ничего не делает – так, заезжает иногда проверить, что к чему, и быстро сваливает, ко всеобщей радости. Но сейчас, заметив нас на мешках, он явно собрался поиграть в руководителя и подыскать нам, лодырям, работенку на близящийся обеденный перерыв.
– Там сейчас вагоны подъедут, – говорит Тарас. Как обычно, не здороваясь. Как положено говнюку. – Пойдете разгрузите. Позовите Боцмана и еще кого‑нибудь. Потом пообедаете.
– Так точно, – сверкает золотым зубом Дрэд и, как только Тарас убирается восвояси, вскакивает и направляется к воротам. Сейчас он позовет Боцмана и Серого Человека, они скинутся, и Боцман сходит в единственный на всю промзону магазин, где купит бутылку «Графской», литр «Тархуна» и полбатона с плавленым сырком. Потом Боцман с пакетом в руке войдет в ворота, а за ним притащится и Серый Человек.
Я щелкаю пальцами, и минуту спустя все так и происходит. Еще одно подтверждение моих божественных способностей управлять окружающим миром.
Мы идем к вагону, стоящему в тупике за складом. Ржавая коробка стоит в выгоревшей листве растущих вдоль железной дороги берез; на рельсах блестит солнце, все вокруг начинает стискивать в удушающем захвате дневной зной.
Шифер привозят в кассетах – огромных железных стяжках, которые удерживают вместе пачки хрупких листов. Кассеты примотаны друг к другу толстой проволокой, которую нам как раз и нужно раскусить. Для этого Дрэд и Боцман тащат большие кусачки. Потом подъедет кран, опустит стропы, и стропальщик, фиксируя крюки в петлях кассет, позволит вытащить их одну за другой из вагона и перетащить на склад.
Мы по очереди забираемся на вагон. Я – последний, как положено младшему в здешней иерархии. Если б порядок определяли не по старшинству, а по умственному развитию, шел бы первым.
Вся хитрость в том, что раскусить проволоку – плевое дело. Можно одному минут за десять управиться. Но белоручка Тарас вряд ли вообще близко подходил ко всем этим непонятным вагонам, кассетам и кусачкам и уверен, что это сложнейшая работа, занимающая не меньше часа.
Что тут скажешь… Да будет так.
Наверху мы рассаживаемся на шиферной плите. Боцман вытирает пыльным рукавом пот с редких бровей и вытаскивает из пакета бутылки, закуску и три стаканчика. Глаза Серого Человека при виде водки начинают блестеть.
Вообще‑то он весьма загадочная личность. Работает на фасовке цемента через дорогу. На самом деле его, кажется, звать то ли Коля, то ли Толя, а Серым Человеком прозвали из‑за цементной пыли, покрывающей его в буквальном смысле с головы до ног, от кончиков коротко остриженных волос до разбитых носков старых кроссовок «Puma». Цемент даже на бровях и ресницах. Серый Человек. Он похож на бетонного Неизвестного солдата в сквере за школой. И такой же разговорчивый.
– Точно не будешь, Школа? – спрашивает Боцман.
Я отрицательно качаю головой, и старик ухмыляется – отработанный ритуал. Он разливает водку по стаканам. У него блеклые, будто выгоревшие на солнце, глаза. Он бормочет что‑то вроде «за тех, кто не с нами» и опрокидывает стакан вместе с остальными. Потом Дрэд что‑то крякает про «тех, кто на зоне». Серый Человек просто чокается и выпивает, торопливо залив следом зеленую газировку. Все закуривают. Боцман, свернув самокрутку из газеты, чиркает спичкой и, выпустив дым сквозь желтые зубы, смотрит на меня, а потом говорит:
– Ничего‑ничего… Вот поживешь с мое, Школа, и тоже пить начнешь…
Я улыбаюсь, тоже закуриваю и смотрю вдаль – туда, где за грохочущими и лязгающими заводами, складами и железнодорожной станцией мелькают над блестящей равниной Днепра чайки.
Я думаю о Юле. О том, когда она уже наконец приедет с дачи.
3
Баба Майя – злобная старуха из третьего парадного, которая считает черешню напротив своего окна личной собственностью. Поэтому, завидев в густой вечерней тени листвы наши темные силуэты, ползущие по веткам, она немедленно орет сиреной «скорой помощи»:
– Ах вы, гниды малолетние! Пошли вон с черешенки! Курвы поганые, обломаете!
И тут же исчезает в темном провале окна на втором этаже, за которым никогда не горит свет. Я знаю, что через минуту она выскочит на улицу со своей утыканной гвоздями дубиной, и придется удирать. А бегает баба Майя, несмотря на свои семьдесят четыре и угон на работы в Германию в юности, очень даже резво. Так что лучше иметь фору.
– Все, валим, – говорит Жмен и лезет вниз.
Из‑за кулька с черешнями в зубах получается что‑то вроде «Ффе, ваим», но и без подсказок уже спускаюсь, роняя из карманов джинсовки черешни и смеясь. Хватаю еще пару налитых темных ягод с жирной черной земли и запихиваю в карманы, дожидаясь, пока Жмен с проклятиями, хрустом и парой сломанных веток свалится наконец вниз.
Мы мчимся по двору, разбрызгивая кедами непросохшие с утра лужи с лоскутьями вечернего неба, темно‑синего, почти черного, а вслед нам несется, отскакивая эхом от кирпичных стен дома и ржавых коробок гаражей, ругань злобной старухи:
– Сучата вонючие! Я ж знаю матерей ваших! Будет вам расплата, ироды!
Я смеюсь так, что едва не спотыкаюсь. Представляю себе, как баба Майя жалуется маме на кражу черешни, и смех едва не сгибает меня пополам.
Вбежав в парадное, вызываем лифт и поднимаемся к Жмену в квартиру. Хлопает, включаясь, старый «Электрон», Жмен тащит с балкона двухлитровую бутыль с черным как деготь сливовым вином, которое делает его дед. Забрасывает его в морозилку, а взамен вытаскивает покрытую инеем недопитую чекушку.
– Давай по маленькой, пока вино остынет.
На экране телевизора проступает извивающаяся Дженнифер Лопес, но Жмен тут же клацает пультом. Фигуристая пуэрториканка сменяется блестящей серебристой лужей, постепенно растущей в Роберта Патрика из «Терминатора‑2». Я мою трофейные черешни и высыпаю их в фарфоровую миску с цветочным узором и щербинкой на краю.
Придерживая отпадающую дверцу шкафчика над мойкой, Жмен вытаскивает две старые рюмки в виде сапожков и, сполоснув их под краном, плещет в мутное стекло тягучую жидкость.
Чокаемся, выпиваем. Я тут же забрасываю следом в рот черешню, но все равно кажется, что в горло провалился ледяной кусок жидкого Терминатора с экрана.
– Есть тема. Погнать к Сексапилке, – говорит Жмен, вытаскивая из морозилки вино, будто за прошедшие полминуты урчащий «Минск» успел его охладить. Я беру с полки стаканы, и вскоре мы уже пьем сладкую, черную, щекочущую горло пузырьками газа, как пепси‑кола, жидкость.
– А Маша как же? – смеюсь я.
– А что Маша? Она с родаками в Евпатории. Если ты не растрындишь, то и не узнает, – усмехается в ответ Жмен.
– Сексапилка ж в общаге вроде живет.
– Ага. С подружками. У нее смена до одиннадцати, потом можно заруливать.
– А где общага ее?
– На вторых Теремах.
– Университет?
– Ага, щас. Швейно‑парикмахерское ПТУ. Я еще Шмата вызвонил, зацепим его на универсаме.
– Пешком потулим? Туда ж тролль ездит.
– Не‑е, чувак, не пешком и не на тролле.
Жмен звякает связкой ключей:
– Батя на дачу поехал на электроне, а «запор» в гараже.
– Ни хера себе… Ты хоть водить умеешь?
– А то…
– Может, не бухай хоть?
– Та ладно, не ной. Сколько тут ехать, до Теремов‑то. Тебе матушке надо позвонить?
– Та нет…
– Ладно, идем в парадняк, курить охота.
Захватив вино и стаканы, спускаемся на площадку между шестым и седьмым этажами; вместо стены здесь сплошное стекло, за которым бегут по проспекту машины, ползут троллейбусы, а на другой стороне этой вечно ревущей реки расцветают огнями окон бесконечные многоэтажки. Поздняя вечерняя тьма наконец обрушивается на город и заливает каждый уголок, до которого не дотягиваются фонари и автомобильные фары.
– А ты подружек ее видел? – спрашиваю я.
– Нормальные, как по мне, хоть я не переборчивый. Тебе хватит, – машет рукой Жмен.
– Стоп‑стоп… А Сексапилку ты уже себе застолбил? – опять смеюсь я. На самом деле я ни о ком, кроме Юли, думать не могу, и мне вообще по фигу, что там за подружки.
– А кто, вообще, с ней познакомился?
Жмен прав. Именно он пригласил к нам за столик официантку из нового бара в тринадцатом доме, когда мы зашли туда глянуть футбол. После ее смены мы тогда отлично посидели, потом вылезли на улицу и еще долго бродили по окрестным дворам. Ее звали Люда, и она приехала откуда‑то из‑под Нежина, но имя сразу забылось, когда Шмат прозвал ее Сексапилкой. Самое смешное, что она не была такой уж прям невероятно красивой, а мне вообще показалась полноватой, но Шмату она отчего‑то представлялась идеалом красоты. Может, это из‑за того, что у него до сих пор ни одной бабы не было, хоть он уже в универ поступать собрался.
– Опа, смотри, – кивает Жмен на застывший между остановками троллейбус, чиркает спичкой о стекло – зажигается со второго раза – и выпускает струю дыма в трещину, рассекающую окно.
Я поначалу думаю, что у тролля слетели штанги, но потом вижу, как распахиваются задние двери и на тротуар выскакивают два тощих силуэта в спортивных костюмах; головы скрыты капюшонами кенгурушек, но даже так понятно, что в этих головах мозгов негусто. В освещенном проеме дверей появляется еще один человек – сухопарый старичок в синем форменном жилете кондуктора поверх клетчатой рубашки. Больше в салоне, похоже, никого нет.
Двери начинают закрываться, но один из кенгурушек ставит ногу на ступеньку и пытается ворваться в троллейбус. Дед‑кондуктор неожиданно ловко дергает ногой, едва не дотянувшись до атакующего, и тот отступает.
– Ох, ни хера ж себе мортал комбат! – гогочет Жмен, туша сигарету в оставшейся со вчера на перилах пустой пивной банке и глядя на безмолвную битву внизу, как на экран телевизора с выключенным звуком. Я тоже подхожу ближе к стеклу и наблюдаю за потасовкой.
Кенгурушки тем временем предпринимают новую атаку. Один безуспешно машет кулаками, пытаясь дотянуться до старика, но дед уверенно держит оборону, схватившись двумя руками за поручень и выбрасывая вперед ногу. Я гадаю, почему водитель не тронется вперед, хоть и с открытой дверью, и думаю, что тот, должно быть, сам наблюдает за происходящим, удивленно разинув рот.
Машущего кулаками поддерживает своими выпадами соратник. Он все пытается, держась за дверь, попасть ногой по коленям кондуктора, и в какой‑то момент, оставив опорную ногу на нижней ступеньке, наклоняется слишком далеко вперед.
Роковая ошибка.
Рука деда выпускает пластиковую трубку перил, сжимается в кулак и наносит сокрушительный удар сверху вниз прямо в лицо агрессору. Вопль, кажется, доносится даже до нас, прорвавшись сквозь уличный гул. Второй нападающий впадает в ступор и убирает ногу с входной площадки, глядя, как его приятель падает на тротуар, держась за разбитый нос; я вроде бы вижу кровь на лице, но с такого расстояния могу и ошибаться.
Водитель, пользуясь успехом кондуктора, тут же захлопывает двери, и троллейбус, вздрогнув, с гулом несется вперед. Потерпевшие поражение от древнего старика кенгурушки – капюшоны в процессе драки слетели с их бритых голов – кричат что‑то вслед уезжающему победителю, машут кулаками и показывают средние пальцы. Потом тот, что остался цел и невредим, смотрит по сторонам – небось хочет удостовериться, что никто посторонний не стал свидетелем их позора.
Мы ржем так, что стекло едва не дребезжит. Жмен даже расплескивает вино, облив выведенные баллончиком желтые буквы на стене: «Ж + М FOREVER TOGETHER».
– Ты видел?! Ты это видел?! – хлопает он в ладоши, будто мы смотрели в разные окна. – Как дедок чуваку вмазал! Вот она, старая закалка! Ладно, пошли, пора уже, цепляй баклашку…
Прихватив бутылку с вином, мы спускаемся во двор. Жмен звякает ключами возле дверей гаража. Оттащив тяжелую, протяжно скрипнувшую створку, он включает свет, взорвавшийся сверхновой в ночном дворе.
– Вот он, родименький… – проводит Жмен рукой по белому багажнику – вернее, в случае с «запором», капоту – огибая пятна ржавчины и грязи, и добавляет: – Батя вроде с гнилым дном решил вопрос. Приварил туда дверь от нашего старого холодильника.
Он смеется, и я так и не понимаю, шутка это или нет. В любом случае, «запор» выглядит сурово и бывало.
Жмен открывает дверь и забирается внутрь.
– Слушай, ты уверен, что это… – начинаю я, но мои слова прерывает рычание заводящегося мотора.
– Не боись, залазь, – машет рукой Жмен.
Загораются и освещают стеллаж с инструментами и всяким хламом фары – одна ярко, другая совсем тускло; машина дергается назад, выезжает из гаража; блеклая фара напоминает подбитый глаз.
Выскочив из машины, Жмен забегает в гараж, копается на одной из полок и выходит с охапкой каких‑то грязных, измазанных в масле спецовок. Открыв багажник, он бросает все это внутрь, к бутылю с вином, и захлопывает скрипнувшую крышку.
– Зачем это?
– Потом узнаешь, – ухмыляется Жмен, и мы медленно едем по двору.
Проспект похож на улицы городов будущего из фантастических фильмов – расцвеченный холодными разливами неона вывесок, оранжевыми конусами фонарного света, множеством немигающих глаз освещенных окон и бесконечной световой многоножкой встречных автомобилей, скользящих по «запорожцу» Жениного отца лучами фар. Вскоре остаются лишь фонари – по обе стороны проспекта потянулись черные пустоши, заброшенная громада недостроенного Ледового стадиона и приземистый силуэт полумертвого, превращенного в рынок ипподрома. Это буферная зона, отделяющая Колос, наш район, от Теремков‑1, уже растущих впереди сияющей стеной высоток. Жмен ведет на удивление аккуратно и спокойно – машин на дороге не много, да и спирт, должно быть, слегка притупил страх.
– Клацни там «play», – машет рукой Жмен в сторону магнитофона, валяющегося на заднем сиденье в компании кучки кассет без коробок. Магнитолы в тачке нет, и батя Жмена возит с собой старую «Беларусь 302», которую однажды залил водой и додумался просушить в микроволновке. После этого несчастный кассетник оплавился по краям, став жутким и зловещим, как Фредди Крюгер, но продолжает худо‑бедно работать.
Из колонок «Беларуси» замурлыкал Лагутенко:
«Достала… морская… меня болезнь…»
Мы хором орем:
– «Сушите! На веслах! Садимся! На якорь!!!»
Ветер, свистящий в опущенных окнах, вытягивает слова и музыку из салона и уносит в накрывшую проспект ночь.
На развязке уходим вправо, к Теремкам‑2. Останавливаемся у супермаркета, который все по привычке называют универсамом. Несмотря на враждебный Колосу статус Теремков, в детстве почти все его обитатели, включая меня, вместе с родителями вынуждены были посещать этот магазин, так как на Колосе были только маленькие и пустые гастрономы, а здесь хоть что‑то можно было купить. Впрочем, и сейчас нам приходится ездить в новый торговый центр «Магеллан», чтобы сходить в кино, – оба кинотеатра на Колосе, «Загреб» и «Прогресс», давно приказали долго жить. А летний театр на ВДНХ, где иногда показывали кино, и вовсе спалили.
Шмат стоит в оранжевой световой колонне под фонарем в каком‑то идиотском вельветовом пиджаке – должно быть, отцовском, потому как карманы болтаются где‑то в районе Шматовых коленей.
– Ты б еще галстук надел, – хохочет Жмен, когда Шмат, потеснив магнитофон, забирается в машину, и мы едем дальше.
– Ага. И в носок заправил, – добавляю я.
– Мы же к дамам едем. Надо выглядеть прилично. Не то что вы, в кенгурах.
– Да уж, эти дамы оценят твой прикид, не сомневайся, – продолжает смеяться Жмен, перестраиваясь в правый ряд и ныряя во дворы. Рядом со Шматом кассетный «Мумий Тролль» орет «Владивосток 2000».
– Ты уже решил, куда поступать будешь, а, Шмат? – спрашивает Жмен.
– Никуда. Мне ж только семнадцать, до призыва год еще…
– И что с того? Будешь фигней страдать? Приткнулся б уже куда‑нибудь… – качает головой Жмен, который сам собирается после школы идти в армию. – Вон на Карася посмотри. По‑любому поступит куда‑то… Приличный человек потому что. Не то что ты.
– Ага, приличный… По ходу твой приличный человек, судя по роже, сейчас обрыгает тебе салон.
– Чего?!
Меня на миг действительно окутала дурнота от выпитого и пропитавшей салон «запора» бензиновой гари. Если б дело было днем, по жаре, точно блеванул бы.
«Запор», рыча, замирает у забора детского садика, за которым наискосок и параллельно друг другу, как полосы на батоне, стоят пять общаг. Вроде как вторая – нужная, швейно‑парикмахерская. Рычание движка стихает, кусок забора с буквами «УЙ», залитый светом яркой фары, вновь тонет в черноте.
– А вы взяли поесть‑попить? Ну в смысле бабам? – спрашивает Шмат, когда мы вылазим из машины и Жмен запирает ключом обе двери. Я открываю багажник и вытаскиваю из‑под вороха грязного тряпья бутыль с вином.
– Ох как, мать вашу, обворожительно… – качает головой Шмат. – Увидят эту пыльную балсанку и сразу из одежды на вас выпрыгнут.
– Ты не выделывайся, а предложи что‑нибудь получше, – бурчит Жмен.
– Вон ларек круглосуточный. Там «Амаретто» есть.
Шмат кивает в сторону сияющей у одного из подъездов будки.
– Ух ты, какие слова знаешь… – снова качает головой Жмен, втыкая в зубы сигарету. – А бабло где взять, а, Шмат, на твое вот это… ну, на то, что ты сказал?
– У меня полтаха есть, – гордо выпрямляется Шмат во все свои метр семьдесят два.
У Жмена блестят глаза. И это наверняка не только свет фонаря в них отражается.
– Ну так погнали, чего стоим?
У ларька топчутся два типа, похожих на космических пиратов из «Гостьи из будущего». Один высокий, здоровый и пузатый, с бритой башкой, другой – вытянутый кучерявый дрищ. Вспоминаю, как звали чуваков из фильма, – Крыс и Весельчак У.
– Слушай, ну всего пятьдесят коп не хватает же! – ноет Крыс у светящегося окошка.
Изнутри вылетают облачко сигаретного дыма и слова продавщицы:
– Ну вот, как их накопаете, так и приходите.
– Та ладно тебе!
– Слышь, чувак, дай мы купим, а там дальше будете… – говорит Жмен, приближаясь к амбразуре оконца.
Крыс поворачивает к нему лицо. На лбу у него пара‑тройка шрамов. Один свежий.
– Вы кто такие, вообще? – говорит Крыс.
Я качаю головой. Плохо дело, сразу видно.
– Тебе не по фигу? Отойди, дай купить.
– А че ты ко мне на «ты», а? Ты, червь рахитный…
– Тебе шрамов на лбу мало? Новых наделать? – огрызается Жмен.
Потом все происходит очень быстро.
Крыс бьет правой, но Жмен уклоняется, успевает врезать левой в челюсть. Удар слабый, но на миг дезориентирует Крыса, который тут же пропускает куда более злую подачу в табло и хватается за хрустнувший нос. Пятится назад, из‑под пальцев бежит кровь.
Весельчак тут же уматывает за угол дома, в темноту, с криком «Пацаны‑ы‑ы!!!». Эхо крика отфутболивают стены серых башен шестнадцатиэтажек.
Еще один удар Жмена – и Крыс, зацепившись за бровку, падает на украшающего клумбу лебедя из старой покрышки.
– Та‑а‑ак… А ну‑ка погнали отсюда, бегом! – шипит Шмат, и мы уматываем к «запору». Бежим мимо тачки в тень между гаражами, но Жмен останавливается.
– Чего ты! Давай быстрей! – машет рукой Шмат. – Там этих гнид небось стадо целое бежит!
Из‑за угла, за которым исчез Весельчак, слышно подтверждающее многоголосье. Крыс, сплевывая кровь на асфальт, поднимается. Тетка в ларьке хлопает окошком.
– Ща, погодь… – бормочет Жмен. Открывает багажник, хватает взятое в гараже тряпье и несется в темноту. Следом в пропахший мочой проем между гаражами ныряем мы со Шматом.
Прижавшись к ржавой стенке, скрытые тенью, мы наблюдаем за толпой, высыпавшей под яркий свет фонаря. У некоторых в руках блестят кастеты, все шарят взглядами по окрестностям. В центре гулко матерящегося роя пошатывается Крыс с измазанной в крови рожей, как индеец в боевой раскраске.
Шмат тихо дергает меня за плечо, и мы углубляемся в лабиринт гаражей. Заросли ржавых коробок позволяют по‑тихому обойти детский сад и подобраться к общагам, не привлекая внимания Крыса, Весельчака и их своры. Впрочем, они явно продолжат искать нас и могут вскоре добраться сюда. А значит, следует поторопиться…
– Шмат, давай ты первый лезь… – кивает Жмен на темную коробку, высящуюся перед нами. Он говорит тихо, чтобы нас ненароком не услышали жаждущие знакомства друзья Крыса.
Я только сейчас понимаю, что через дверь в общагу вечером не попасть, если нет пропуска.
– Я… Чего? Куда лезть? – пялится Шмат на светящиеся окна. Первые два этажа от набегов посторонних защищены решетками. Их темные прутья поблескивают в оконном свете, как будто…
– Да они ж солидолом обмазаны! – кричит Шмат.
– Тсс, дебил!
Жмен прикладывает палец к губам, потом кивает и протягивает нам тряпье из багажника.
– Потому я эту рвань и захватил. Знал, что вы не додумаетесь.
– Так, а куда забраться‑то нужно?
– Вон туда. На третий этаж. Там окно на кухне открыто.
– Блин… Стремновато…
– Ну можешь тут остаться. Пацаны те с тобой в футбик зашпилят. Башкой твоей.
– Нет уж, этот матч я лучше пропущу… Ладно, полез я…
По мусорному баку Шмат проворно, как мартышка, забирается на козырек подъезда, там надевает спецовку и рабочие перчатки. Потом быстро двигается вверх, перебирая руками и ногами, как ящерица, и ныряет в окно третьего этажа. Он похож на ниндзя, проникающего во вражеский замок.
– Давай сейчас я. А ты мне потом вино закинешь, – говорит Жмен и начинает подниматься. Я опасливо озираюсь по сторонам: кажется, голоса в гаражах становятся ближе.
Жмен неуклюжий и корявый. Думаю, ходячее дерево из «Властелина колец» и то быстрее запрыгнуло бы в окно. А этот валенок пару раз едва не сорвался, еще когда с мусорника на подъезд перелазил.
Вот. На этот раз точно голоса. Приближаются. Я решаю не ждать, пока Жмен завершит восхождение, и бросаюсь к мусорке. Чертова железяка предательски гремит под ногами, пока я, держась за желтую газовую трубу, перебираюсь на подъезд. Винная бутылка тяжело болтается во внутреннем кармане грязной спецовки. А может, это сердце стучит…
Натягиваю спецовку: в нос ударяют запахи масла и пота. Скользкие смолистые прутья противно трогать, но лезть нетрудно: помогают подоконники, карнизы и выбоины в старом кафеле. У самого заветного окна вижу торчащую из него рожу Жмена, уже покорившего вершину. Он тянет руку вниз. Думаю, что он хочет помочь мне забраться, и протягиваю свою.
– Вино давай, – шипит Жмен.
Я вытаскиваю бутылку из кармана, протягиваю ему…
Правая нога срывается. Меня на миг переполняет паника; стараюсь не смотреть вниз и прижимаюсь к прутьям, измазываясь в густой черной смоле. Теперь сердце точно колотится – лупит так, будто сейчас выпрыгнет и убежит подальше от безмозглого хозяина.
Подтягиваюсь и добираюсь наконец до подоконника. Жмен втаскивает меня внутрь, как мешок с картошкой; ударяюсь плечом об оконную раму, стискиваю зубы от боли. Во дворе кто‑то громко кричит и хлопает дверью подъезда. Не вижу кто – не хочу смотреть вниз.
А лучше бы посмотрел.
На кухне – никого, кроме нас троих; в углу на одной из трех старых плит хлопает крышкой кастрюля, под которой урчит пламя; под потолком потрескивает длинная белая лампа, ее свет режет глаза.
– Какая комната? – спрашиваю я.
– Триста четыре, – отвечает Жмен.
– Знаешь, как идти?
– Хрен там.
Мы осторожно идем к двери. В спецовке после подъема жарко. А может, это от выпитого. Или от духоты. Или от плиты.
Наверное, от всего вместе.
Где‑то в недрах здания гудит и клацает лифт. В проеме вдруг появляется пухлая девушка со светлыми, накрученными на бигуди волосами и зеленым полотенцем в руке. Она замирает и смотрит на нас. Шмат машет ей рукой.
Девушка быстро уходит. Мы идем дальше.
Впереди – сероватый кафель и зеркала. Туалет. Вправо и влево уходит коридор с множеством дверей.
– Так, ща… – говорит Жмен, проходит немного вправо, качает головой, идет влево и машет нам.
– Сюда, пошли.
Шмат идет следом, а я говорю:
– Погоди чуток, я сюда заскочу. Руки помою.
– Ну давай… Только быстро…
Я иду к ряду умывальников. У одного из них стоит, наклонившись к гудящему крану, какой‑то чувак. Он кажется мне знакомым. К сожалению, я понимаю, где его встречал, только когда подхожу к раковине, открываю кран и вижу отражение чувака в надтреснутом зеркале.
Разбитый нос. Бледная противная харя.
Крыс.
В ту же секунду он смотрит на меня. Глаза вспыхивают, и я представляю, как Крыс видит меня в красноватом свете, через прицел, как Терминатор. «Цель опознана», и все такое.
Я бросаюсь к двери, прежде чем Крыс начинает вопить что‑то своим высоким голоском. Вылетаю в коридор, ору чувакам, а за мной топот и щелчки открывающихся дверей.
Жмен со Шматом далеко уйти не успели и все понимают быстро. Ускоряются, и мы бежим через корпус втроем, как непутевые герои «Операции Ы». Коридор то и дело поворачивает под прямым углом, мелькают двери других кухонь и туалетов, в стену вжимаются редкие местные обитатели. Я думаю, что будет, если впереди тупик, и представляю боль в разных частях тела.
Перспектива не особенно заманчивая. Борцовские навыки не помогут. Не будет ни Юли, ни зеленых кроссовок…
В уме, как всегда в такие вот секунды, мелькают даты:
1888‑й – убийства Джека‑потрошителя.
1600‑й – Джордано Бруно сжигают на костре.
1305‑й – Уильяма Уоллеса казнят в Лондоне (по крайней мере, если фильм с Мелом Гибсоном не врал).
Думаю о том, что следующей и последней датой может стать нынешний год с пометкой «Трагическая гибель Михаила Карасина в швейно‑парикмахерском общежитии». Но нам везет: выбегаем на площадку перед лифтом. Вниз уходит лестница. Я оглядываюсь и вижу множество силуэтов в коридоре, бегущих следом; тени, отброшенные тусклым светом редких ламп, мелькают на казенной серой краске стен.
Ждать лифта нет времени.
– Бегом! – ору я и несусь вниз, хватаясь за перила и перепрыгивая по пролету за раз. На втором этаже две девчонки сидят и курят на ступеньках. Я прыгаю через них, и обе с визгом вскакивают, освобождая дорогу Жмену и Шмату. Бутылка с вином вылетает из кармана, падает на пол, пробка слетает, темная жидкость брызгает на стену.
Пролетаем мимо вахтерши; она, кажется, даже не успевает понять, что происходит. Непростительно долго вожусь с защелкой тяжелой стальной двери. За спиной слышен топот табуна Крысовых приятелей.
Темно, ни черта не видно. Бежим вокруг детского сада к тачке. Шмат долго лезет на заднее сиденье, и я ускоряю его пинком, откидываю спинку переднего сидения, забираюсь внутрь и хлопаю дверью так, что стекло едва не трескается. Жмен заводит мотор. «Запор» сухо хлопает, чихает и умолкает.
И снова.
И снова.
В свете фонаря появляются Крыс, Весельчак У и прочие гвардейцы кардинала. Они смотрят по сторонам и будто принюхиваются, как стая бродячих псов. Потом кто‑то показывает пальцем на наш «запор», все с воплями бегут к нам. Я начинаю прощаться с жизнью и представляю, как они сейчас просто растопчут нашу тачанку, сровняв ее с асфальтом своими копытами.
1764‑й – первые жертвы Жеводанского зверя.
1898‑й – львы‑людоеды убивают сто тридцать пять человек на постройке моста в Кении (если не врал фильм «Призрак и Тьма» с Вэлом Килмером и Майклом Дугласом).
1915‑й – медведь‑людоед убил шесть человек в японской деревне (вычитал в старом номере «Вокруг света»).
Кажется, сейчас список пополнят трое несчастных молодых ребят, растерзанных одичалой фауной Теремков‑2.
Мотор урчит, кашляет, булькает и наконец ревет. Вспыхивают фары, и мы едва не давим одного из преследователей, разворачиваясь. Жмен вопит, жмет на газ, и «запор» несется прочь из двора. Бензиновый перегар, наполняющий салон, кажется мне самым сладким цветочным ароматом.
Когда мы вновь на трассе, среди огней и гудящих машин, мне чудится, что все это было просто глюком. Наверное, я задремал. Вино и бензиновая вонь одурманили и нагнали в голову весь этот маразм.
А потом я смотрю назад, вижу испуганную и потрясающе ржачную рожу Шмата и смеюсь. Секунду спустя начинает хохотать Жмен, хотя его руки на руле до сих пор так дрожат, что машину немного водит из стороны в сторону. Потом и Шмат начинает похихикивать. Он случайно клацает магнитофон, и в салон врывается задыхающийся крик Лагутенко: «…дим, уходим, ух‑о‑о‑одим!!!»
В грязных драных спецовках, с измазанными в черном лицами мы едем по широкой ночной трассе мимо бесконечных сияющих на черном фоне квадратиков окон. Орем «Владивосток 2000», хохочем, в ушах свистит ветер, сердце тарахтит пулеметом в груди.
Мы едем домой.
4
Иду с остановки после работы. Шкварка кричит мне из окна, когда я поднимаюсь по разбитым ступенькам к двери парадного:
– Карась! Погнали на Выставку на великах!
Секунду думаю. Тело немного ноет от усталости, но прокатиться на Выставку сил хватит.
– Давай! Только я заскочу пожрать и переодеться. Воздушку захвати!
– Ага! Звони, как будешь выходить.
Почему Шкварка? Все просто. Фамилия – Соловьев. Прозвали Соловушкой. Потом Салом. Потом Шкваркой. На самом деле вполне себе удачная история – в сравнении, например, с Митей Кучмой, который стал Президентом, потом Презиком, а потом и кое‑чем похуже…
У меня советская «Украина», а у Шкварки китайский велик – с переключением скоростей и амортизатором, но все равно хреновый – постоянно приходится возиться с втулками и кареткой. Мне в гору тяжелее крутить педали, но зато еду тихо, а Шкварка хрустит, скрипит и звякает, как троллейбус. Мы едем вверх по Потехина; из мойки в автосервисе по асфальту течет пенистая вода, в крохотных лужах отражаются завешанные бельем балконы и осколки неба.
Выставкой в наших краях называют бывшую ВДНХ. Полуразрушенный забор начинается в конце улицы, за заброшенной воинской частью, в которой до сих пор стоят глушители – ржавые кольца, висящие на натянутых между столбами проводах, они раньше вроде как забивали всякие американские радиопередачи. В бетонном заборе полно дыр, через одну из них мы и заезжаем на Выставку.
В центре ВДНХ торчат павильоны, обрамляющие главную площадь, – монументальные, роскошные, с колоннадами и разными древнесоветскими скульптурами; павильоны абсолютно пусты внутри и похожи на огромные скелеты вымерших исполинов, выбеленные временем и дождями. Широкие площади, которые я еще застал забитыми людьми, обычно почти безлюдны. Впрочем, тамошнее запустение обманчиво – в центре Выставки еще катаются менты. А вот на задворках все действительно заброшено…
Окраинные павильоны похожи на негритянские гетто из голливудских боевиков – мусор, выбитые стекла, короста граффити, покрывающая стены до самых прогнивших крыш. Здесь пусто, если не считать пары‑тройки собачьих стай; редкие гости умершей Выставки сюда почти не забредают.
То что надо.
Мы едем мимо заржавленной спирали старых «американских горок», закрывшихся, когда мне было лет семь. Переплетения и изгибы старых рельсов напоминают Выдубичи. Впереди развалюха, раньше называвшаяся «Павильон химической промышленности».
Наша первая жертва.
Мы останавливаемся перед зданием. Половина стекол давно выбиты, остальные стали матовыми от многолетней пыли. В провалах разбитых окон густая маслянистая темнота.
Шкварка достает из рюкзака пневмат, заряжает баллончик. Целится.
Выстрел.
Гул проспекта едва доносится до этой глуши, и стекло лопается с оглушительным грохотом. Звон осколков эхом разлетается по заброшенному зданию. Из провала в крыше с криком взлетает птичья стая.
Мы смеемся. Шкварка передает мне пистолет. Я целюсь в одно из верхних окон – они звонче падают. Стреляю. Снова звенит стеклянный дождь. Летящие стеклышки блестят отраженным солнцем.
Шкварка прячет ствол, и мы едем дальше. Впереди «Угольная промышленность» – унылый прямоугольник, который я обожал в детстве, когда нас водили на экскурсии классе в третьем. Тогда там была модель шахты с настоящей вагонеткой, на которой можно было покататься. Теперь все выпотрошили. Мы лазили туда со Жменом в прошлом году. Только крысы копошатся и пенопластовый «уголь» хрустит под ногами.
Выстреливаем всю обойму. Стекла осыпаются, и вскоре под стеной вырастает блестящая гора осколков.
– Эй! Вы чего, паршивцы, творите?! – доносится крик от будки рядом с воротами служебного входа. Оттуда вылазит опухшая красная рожа сторожа.
Мы тычем ему факи и уезжаем, громко хохоча.
Неподалеку стоят два заброшенных кафе‑близнеца – «Весна» и «Лето», с колоннами на входах, похожие на древнегреческие храмы. Внутри все разграблено, у «Лета» провалилась крыша, отчего сходство с античными руинами лишь усилилось. Стекол осталось мало, но мы кое‑что находим и расстреливаем. Потом бьем маленькие окошки в бывших «Наглядной агитации» и «Профтехобразовании». Едем дальше по растресканному асфальту пустынных аллей. Нас провожают хмуро склонившие головы разбитые фонари. С некоторых свисают проржавевшие громкоговорители. Я вспоминаю, как в детстве из них доносились марши.
Духота такая, будто мы едем под водой. Пот ручьями стекает по коже. Тормозим возле прудов рядом с бывшим «Птицеводством». Когда‑то здесь плавали утки и лебеди, а по берегу бродили павлины. Сейчас тут просто грязные заросшие лужи.
– Как думаешь, этот хрен со служебного ментов не вызовет? – говорит Шкварка, тяжело дыша.
– Да ни хера он не сделает, – машу я рукой и опираюсь на колени.
Шкварка достает из рюкзака бутылку с водой, делает глоток, льет себе на голову, передает мне. Я тоже пью. Вода теплая.
– Я как выходил, мне батя опять по ушам ездил, типа я ни черта не делаю и не хочу ни фига… – говорит Шкварка, потягиваясь. Красная футболка потемнела от пота. – Я сначала собирался ему что‑то ответить, а потом думаю – блин, а я ж и правда ничего не хочу вроде. Ну так чтоб сильно. Так, в «контру» пошпилить, да и все… А, не – еще мобильный телефон.
Я улыбаюсь. Мне тоже родаки подобное в мозги пихают, но в стиле «плохо учишься, никуда не поступишь, сбухаешься и будешь как наш дворник дядя Федя». Мама хочет, чтоб я медицинский закончил, как она. Батя обрадуется, если закончу хоть какой‑то. Хотя сейчас до того допился, что особо не нависает и радует его разве что вкус спирта во рту.
Короче, я типа раздолбай. Но никто и никогда не обвинял меня в том, что я ничего не хочу. И правильно делали. Потому что я хочу.
Хочу Юлю и зеленые «адики».
Шкварка делает еще глоток… и выплевывает воду, уставившись на аллею. Я поворачиваюсь и вижу ментовский «бобик», направляющийся к нам.
Черт. Старый алкаш все‑таки настучал.
Мы седлаем велосипеды и мчимся прочь от прудов – в лабиринт узких дорожек и тропинок между павильонами, где не в силах протиснуться автомобиль. Мы здесь выросли и знаем этот мертвый город не хуже своих квартир. Ноги наливаются свинцом, к коже приливает жар. Менты несутся следом, пытаясь угнаться или опередить, но все тщетно. Спустя несколько минут мы пролетаем через пролом в заборе, заливисто смеясь. Скульптуры металлургов и шахтеров над входом в ближайший павильон тоже улыбаются.
Мы гоним мимо школьного стадиона в старый яблоневый сад, где есть бювет. Рвем яблоки, моем их под струями ледяной воды из колонки, вгрызаемся в сочную сладкую мякоть. Я делаю глоток воды, и в глазах темнеет от прохлады. Потом поливаю голову.
– Ребята! – доносится знакомый голос.
Я смотрю на спортивную площадку рядом со стадионом. Там есть старые стойки для штанг. Сами штанги давно стырили, и вместо них сейчас сидят и дымят сигаретами Оля Бугас и Алла Вронская из девятого «В» – девчонка Долгопрудного. Мы подходим к ним и вместе идем на Крыши.
Иногда я прихожу сюда один. Подумать. Хотя я толком не знаю, о чем думать, и просто сижу, смотрю на город, расстилающийся внизу. На блестящий купол колокольни лавры и Родину‑мать на горизонте, дрожащие в горячем смоге. На ленту проспекта, прямой чертой уходящего в центр. Отяжелевшие ленивые мысли вяло роятся в голове, как сонные мухи.
Сейчас тут полно народу. Девчонки, которые пришли с нами, Долгопрудный, Жмен и Алина‑Адреналина – сестра Вовы Шмата, рехнувшаяся на всю башню. У нее небедные родители, но, судя по всему, мозгов у них немного, раз они дают ей деньги, потому как она их все спускает на наркоту, а потом ходит и рассказывает, что видит будущее, и шестое измерение, и цветные круги на асфальте, в которые можно встать и крутиться, как на круге «Здоровье». Хотя сейчас она вроде более‑менее в норме. Сидит на парапете со всеми, бледная как вампир; ветер теребит ее короткие рыжие волосы.
Ветер – это круто. Здесь, на Крышах, он всегда есть, даже в такую жару. Без ветра мы бы совсем загнулись от вони горячей смолы. Мы купили пива и поставили его в тень возле бетонной байды, где спрятан мотор лифта.
Алла с Олькой пьют пиво в тени вентиляционного выхода. Оттуда пахнет старым прогорклым маслом, мясом, чем‑то жареным. Запах множества кухонь.
А пацаны прыгают.
Место потому и называют не крышей, а Крышами, что здесь два дома стоят очень близко – между углами парапетов чуть больше метра. И можно прыгать с крыши на крышу и обратно.
Жмен, Шкварка и Долгопрудный скачут туда‑сюда, истошно визжа в прыжках. Алина‑Адреналина вдруг встает и идет к ним. Тоже начинает прыгать, но молча, с какой‑то скукой в глазах, будто ее заставляют подпрыгивать над скакалкой на физре. Перед прыжками она смотрит вниз, где в шестнадцати этажах от нас видны крошечные машинки, деревца и замусоренные палисаднички. И это ее не пугает. Мне от одного взгляда на нее становится тошно.
Я боюсь высоты.
Я трусло.
Так боюсь, что даже на балконе не опираюсь на перила, а только осторожно заглядываю через край.
Так что сижу с девками и пью пиво. Потом достаю сигареты. С непривычки до сих пор кружится голова и подкатывает тошнота от первых затяжек.
– Карась, спой что‑нибудь, – говорит Алла, отбросив с лица светлую челку.
– Не.
– Ну давай. Ты прикольно поешь так.
– Ага. С гитарой.
– А че, без гитары не можешь?
– Неа.
– Ну Карась…
– Я, вообще, пойду уже. Мне завтра на работу, хочу поваляться, отдохнуть.
– Давай трудись. Получишь бабки – сводишь меня в тот японский ресторан на Печерской.
– «Якитория», – подсказывает Оля.
– Ага, в «Якиторию».
– Сухарики с красной икрой – это максимум, – улыбаюсь я, отрываясь от горячего бетона. Иду к будке с лестницей вниз и слышу, как девчонки смеются.
– Мы, как стемнеет, в парк пойдем, на дискач, – кричит мне вслед Оля. – Подходи!
– Не знаю…
– А я знаю, – смеется Алла. – Сто пудов пойдешь. Знаешь почему?
– Ну?
– Юлька приезжает сегодня. Она там будет.
Я улыбаюсь.
– Под водонапоркой, в девять.
– Окей.
5
Если кто‑нибудь когда‑нибудь скажет вам, что потерять близкого человека – это великая боль, – ударьте этого человека в лицо. Хорошенько. Так, чтоб хрустнули зубы. Потому что он ни хрена не знает о том, каково это – потерять кого‑нибудь.
Пережить смерть близкого человека – плевое дело.
Раз плюнуть. Два пальца об. Проще пареной репы.
Великая боль – это жить дальше без него.
Кто‑то может сказать, что люди часто теряют близких. Такое случается сплошь и рядом. Печально, но факт. Окей, согласен, вопросов нет.
Тогда как насчет двойной порции?
Когда‑то я попросил отца рассказать мне сказку перед сном. Он, конечно же, не знал ни одной, зато перечитал множество остросюжетных детективных романов. Тогда он как раз читал книгу Алистера Маклина «Пушки острова Наварон» и поведал мне леденящую кровь байку о спецназовцах и фашистах. По мотивам прочитанного. Не зная, что «сказка» основана на чтиве, я тогда подумал, что мой отец – сам спецназовец и лично дрался голыми руками с полчищами немчуры на скалистом островке. Еще бы – ведь он был большой, сильный и мог победить кого угодно.
Много лет спустя, глядя на чудовище, в которое он превратил себя, я подумал, что он был не в силах победить лишь самого себя.
Я прихожу поздно – около двух ночи. Щелчки, звяканье и лязг лифта для меня как музыка – помню наизусть, могу определить, мимо какого этажа ползет стальная коробка. Достаю ключи и начинаю вырезать «ЮЛЯ» на двери, но лифт приезжает раньше, чем я успеваю закончить, – получается только «ЮЛ» и косая палочка от «Я».
Выхожу не на своем, а между седьмым и восьмым – покурить на лестничной клетке. Подхожу к облезлому подоконнику, на котором стоит почерневшая от сигаретных ожогов банка из‑под кофе, набитая окурками.
За окном в темноте сияет залитый холодным светом фонарей двор автопарка; у ворот дремлют собаки, в окошке будки сторожа мерцает синий телевизионный свет. За автопарком россыпью огней виднеются многоэтажки.
Щелкаю зажигалкой, втягиваю горячий дым – глубоко, так, чтобы пропитал все тело. Во рту все равно остается привкус Юлиной мятной жвачки. В ушах еще гулко пульсируют дискотечные басы. А может, это сердце. Когда я думаю о Юле, оно иногда замирает, как в песне группы «Сплин», которую постоянно крутят по радио. А думаю я о ней все время. Обо всем остальном думать нет никакого желания.
Особенно о том, что ждет меня за дверью квартиры.
А ждет меня там столько сигаретного дыма, что не видно обуви на стойке в прихожей; кошка Марфа трется о ноги едва заметной тенью.
Можно было и не курить в парадном.
Захлопнув за собой стальную плиту двери, как крышку гроба, я шагаю в прокуренную темноту коридора и слышу грохот гитар, вырывающийся из большой комнаты вместе с клубами подсвеченного торшером сигаретного дыма.
Папаня решил послушать музыку.
Он у меня великий рокер. В основном, конечно, слушает всяких «Роллингов», «Зеппелинов» и прочих «Дип Перпл» – или «Папл», как он говорит, – но исправно прослушивает и новинки музиндустрии, которыми я время от времени разживаюсь. По большей части он, кажется, считает все, что после Кобейна, полным дерьмом, но иногда бывают странные («White Stripes», «RHCP») исключения.
Чуваку полтинник, а он слушает «White Stripes». Каково, а?
Вернее, слушал. Потому что то, что сидит сейчас в изодранном Марфой старом кресле и пялится мутными глазами в выключенный телик, тоже слушает «White Stripes».
Но это не мой отец. Нет, нет и нет, даже не уговаривайте.
Конечно, оно имеет некие общие черты с отцом. Есть отдаленное, какое‑то чудовищно противоестественное сходство огромной опухшей морды с едва заметными штрихами глаз на желтушной коже – с отцовским лицом. На этом существе одежда отца, хоть и весьма несвежая. Оно курит легкий «Честерфилд», как отец. И на дне той мути, что заполняет приоткрывшиеся бойницы глаз, виднеется едва уловимый, тусклый и чуть тлеющий огарок отцовского взгляда.
Но на этом все. Это как «Адидас» и «Абибас». Пиратская копия. Китайская подделка.
Судя по всему, оно такого же мнения, раз, скользнув по мне подернутым пьяной поволокой взглядом, вновь уставляется в черный куб телевизора сквозь частокол пустых бутылок.
Ведь у этого нет сына. А если и есть, то точно не я.
У этого огромные, отекшие ноги. Гигантские слоновьи столбы, едва не разрывающие ткань старых спортивок, раньше свободно болтавшихся на отцовских ногах. Они всегда отекают к вечеру – так сильно, что он не может ходить. Только из‑за этого он и не идет за очередной бутылкой – просто не может. К утру, когда он проснется здесь же, на этом диване, пропахший спиртом и кислым пьяным потом, отеки сойдут, и можно будет выбраться в магазин. Путь, конечно, не близкий, в соседний дом, но это дойдет. Оно ведь жаждет, как вампиры из старого романа Роберта Маккаммона в жутком переводе начала девяностых, который я недавно прочел.
Я смотрю на бутылки, столпившиеся на столе, как жертвы кораблекрушения на крошечном островке. Редко увидишь столько пустых бутылок. Иногда столько собирается после наших посиделок с Китайцем и Жменом. Пивных.
А эти из под коньяка «Жан‑Жак».
На самом деле речь не об алкоголизме. Алкоголизм – это другое. Это когда люди пьют, деградируют, потихоньку теряют человеческий облик и развоплощаются в груду отравленной плоти. Но все это, как правило, растянуто во времени длинным мерзким червем, который, как древоточец, медленно выгрызает в человеке зловонную пустоту.
Древоточец, ха. В сравнении с тем, что точит обычных алкашей, напавшее на моего отца было Годзиллой, которая заглотнула его, как семечку, рыгнула и запила водой.
Или «Жан‑Жаком».
Когда‑то, давным‑давно, такое уже случалось. Десять лет назад. Начало девяностых. Деньги‑фантики, пейджеры, «Горец» по телику, мама в слезах, везде бутылки. Все рухнуло. Все развалилось. Он не выдержал.
Тогда он за полгода дошел почти до того же, что сейчас лежит в кресле дохлым инопланетным Чужим. Почти. Вовремя спохватился. Больница. Лекарства. Потом воля.
Бесконечная воля жить. Десять лет. Ни глотка. Кофе, пепси, соки – вишневый, виноградно‑яблочный.
Воля.
Он говорил что‑то о каком‑то дефективном гене, который не дает нормально усваиваться алкоголю. Как у народов Севера и Сибири. Он родился в Якутске. Хотя его родители были из Европейской России, так что версия так себе. Хоть у нас и чуток татароватые лица.
Воля. Железная. Несокрушимая. Десять лет.
Ее сломила рюмка вина. Именно рюмка. Водочная. Пятьдесят граммов. Санаторий. Крым. День Победы.
«Только одну, и все». Мама улыбается и кивает.
Сказ о том, как капля прорвала плотину.
Это было год назад. А теперь передо мной в кресле сидит и слушает рвущиеся из колонок первые аккорды «Fell in Love with a Girl» чудовище.
Я стою и смотрю на него, не зная что сказать, да и нужно ли вообще говорить. Неизвестно, какой оно понимает язык. Может, вибрацию, как змея. Уже столько всего было сказано – и банального, про «пожалей‑нас‑одумайся‑дети‑мама‑работа» и так далее, и весьма изобретательного, вроде предложения тети Вали, маминой сестры, – на спор не пить, за деньги, но все без толку.
Вы же не стали бы разговаривать с Чужим, верно? Не отгрызает вам голову – и то хорошо.
Сам не знаю зачем, но я вытаскиваю из рюкзака новый диск «White Stripes», купленный на раскладке возле метро «Лыбедская». Машу бело‑красной коробкой перед лицом Чужого.
– Новый альбом, – зачем‑то вылетает из моего рта.
Чужой пытается улыбаться: с губы едва не срывается сигарета, в уголке рта поблескивает слюна. Я вдруг замечаю, что он прожег сигаретами столешницу, и отчего‑то пристально смотрю на эти черные язвы, покрывающие дерево.
Иду к себе в комнату. В спальне темно – мама наверняка спит. Она научилась спать, даже когда гремит музыка. Она засыпает, даже когда оно орет что‑то на кухне или гоняется с ножом за кошкой. За Марфу никто не переживает – удрать от Чужого ей проще простого. Она не только хитрее и ловчее. Теперь она еще и умнее, да и квартиру знает лучше. А подстеречь Марфу Чужой не сможет – от него уже не пахнет отцом, и кошка его сторонится.
Из окна моей комнаты видно Юлин дом – шестнадцатиэтажку на краю парка. Там горит несколько окон и мигает красный огонек на крыше. Я смотрю туда и представляю – нет, не представляю, а верю – что одна из светящихся клеточек – Юлино окно, и она сейчас стоит там и смотрит на меня.
Хочется позвонить ей, как всегда, когда ее нет рядом. Я бы позвонил, забив на ее бабушку и сестру, которых разбудит дребезжание старого красного дискового телефона, но у нас телефон в большой комнате, а там…
В общем, придется потерпеть.
Я раздеваюсь, бросаю вещи на стул, ложусь на кровать. Не укрываюсь – жарко, несмотря на поздний час. Духота висит в комнате невидимой глыбой и давит на грудь. Я закрываю глаза и думаю о Юле. Для этого не нужно никаких усилий – мысли все время летят к ней, как стальная стружка к электромагниту. Я думаю о том, как совсем недавно – на прошлой неделе – сидел с ней за одной партой и едва не падал в обморок, когда она поправляла волосы или забрасывала ногу на ногу. А сегодня…
Мысли разносит в клочья рев музыки, рвущийся в открытую дверь. Открываю глаза и вижу Чужого. Стоит надо мной черной горой. Его едкое дыхание заполняет комнату отравляющим газом.
Он что‑то говорит. Пытается говорить. Звуки высыпаются изо рта бесформенными обломками слов. Раньше такие ночные вторжения пугали, но сейчас я только чувствую жуткую усталость.
– Уйди, – бурчу я и собираюсь отвернуться к стене, к пыльному узорчатому ковру, все завитки и закоулки которого знаю наизусть; хочу спрятаться в этих узорах, как в лабиринте.
Чужой продолжает пытаться что‑то сказать, покачиваясь, будто в комнате дует шквальный ветер. Я думаю: о чем он вообще мог бы говорить? О том, как заставил маму превратиться в старуху за неполный год? Как превратил нашу жизнь в унылый и затянувшийся третьесортный фильм ужасов? Или, может быть, о том, как он, бедняжка, страдает неизвестно чем, мучается от непонятно чего и вливает в себя цистерны отравы из‑за того, что раньше – еще когда говорил на языке людей, а не Чужих – называл своей «ущербностью»?
Прислушавшись, я наконец понимаю, что он бормочет.
Хочет новый альбом «White Stripes».
Когда Чужой уходит, я лежу, не смыкая глаз, и жду, когда запахи прелой листвы, остывающей пыли и выхлопов с улицы вытеснят его вонь. На потолке начинают ползать тени: во дворе включила фары и поехала к арке машина. Только сейчас чувствую, как колотится сердце, – Чужой все же напугал меня. Кажется, никогда не усну. Смотрю на книгу, которую читаю, – она лежит, раскрытая, на стуле, под шортами. «Стрелок», Стивен Кинг. Там часто встречаются слова: «Мир сдвинулся».
Думаю немного почитать (вчера закончил на пятьдесят третьей странице. Год смерти Сталина. Я все числа так запоминаю), но тут же чувствую, как сон вновь обволакивает меня тугой пленкой, и заполнившая комнату чернота льется в мысли, выдавливая остатки света дня. Пытаюсь думать о Юле, но последние освещенные уголки рассудка заполняет Чужой. Или тот, кем он был раньше.
Перед тем как провалиться в липкую, душную темноту летнего сна, я обращаю немую молитву к безымянной силе, которая, может быть, есть где‑то там, в этой звенящей ночи за окном, и прошу ее изгнать Чужого и вернуть отца. Я делаю так каждую ночь. Потом, не слишком веря в эти мысленные радиограммы в пустоту, надеюсь, что утром все по крайней мере будет по‑прежнему. Как сегодня.
Засыпаю все же с мыслью о Юле и с улыбкой на губах. Не зная, что этой ночью мир сдвинется и «по‑прежнему» исчезнет, как влага ночного ливня на раскаленном полуденном асфальте.
Не зная, что под утро сердце, которое у отца и Чужого одно на двоих, перестанет биться.
6
Мама – светлая, хрупкая, лицо усыпано веснушками. Она трясется, и кажется, что веснушки вот‑вот посыплются с сухой бледной кожи на потертый паркет. Когда санитары несут мимо нее одеяло с телом (я вижу только руку, раздутую и белую, как какая‑то жуткая глубоководная рыба), с потрескавшихся губ срывается едва слышный вой – глухой и монотонный, как завывание ветра в щелях рассохшейся оконной рамы.
Врачи уже убрались, теперь и санитары. Остаемся только мы с мамой, дребезжащий звон телефона в комнате, голодно мяукающая Марфа и кровь на полу рядом с кроватью – перед смертью отца рвало.
Я подхожу к маме, хочу ее обнять, но мне страшно – страшно видеть этот взгляд. Как будто в нее попала молния и выжгла все внутри дотла, оставив лишь помутневшие стеклышки между пустотами внутри и снаружи. Она постепенно увядала весь этот бесконечный год, но за прошедшую ночь постарела сильнее, чем за все предыдущие месяцы. Кажется, стоит коснуться ее пальцем, и она рассыплется, как древняя мумия.
Мама вдруг вновь обретает способность видеть, а не смотреть в никуда. Фокусирует на мне взгляд. А потом шепчет, почти не шевеля губами. Или, скорее, шелестит. Как змея:
– Это ты… Все ты… Он так на тебя надеялся…
Из ее рта хлещут слова – острые, голодные и ядовитые, как бесконечный рой полных смертельной отравы насекомых. Они жалят и жалят… а потом я отключаюсь. Не слышу ничего. Смотрю в окно. Там синеву неба режет белый след самолета.
Она утихает, когда приходит тетя Валя. Прижав маму к себе, она говорит мне: «Пойди погуляй». Как будто я не при делах.
Как будто не мой отец только что умер.
Впрочем, я и сам хочу уйти. Здесь уже год пахло медленным, вязким, как деготь, самоубийством. А теперь пахнет свежей смертью.
Побросав в рюкзак все, что нужно, я выхожу из квартиры. Лифт гудит где‑то в шахте, и я иду пешком. Взгляд скользит по надписям и рисункам, пестрой коростой покрывающим стены подъезда. Банальные «ЦОЙ ЖИВ», брань, названия групп, «сосу» и номера телефонов… Более загадочные вроде «КОБРА любит НИМФУ» и совсем уж трансцендентальное «Что живет во рту моем?», выцарапанное на крышке мусоропровода между пятым и шестым, рядом со свастикой.
Все это для меня как сто раз прочитанная книга. Разбуди во сне, спроси этаж – смогу цитировать и декламировать.
Островки света на лестничных пролетах сменяются сумраком площадок перед дверьми лифта, и от этих перепадов глаза немного слепнут.
Мне стыдно. Я видел миллиард фильмов и читал триллион книг, в которых упоминалась смерть близких. Там герои всегда страдают. Мучаются. Рвут на себе волосы. Или впадают в ступор. В общем, ощущают что‑то необычное и всегда запредельно ужасное.
Я не чувствую ничего. Я только что видел мертвую руку своего мертвого отца, но сейчас шагаю по ступенькам, чувствуя, как в такт шагам изжогой поднимаются из глубин тела волны стыда. Ведь мои мысли, как и вчера, прилипли, как жвачка к подошве, к загорелым ногам Юли. И рукам. И всему остальному.
Хотя нет – вру. У меня появляется чувство невероятной собственной значимости. У меня умер отец. Я – трагическая фигура. Грустный взгляд. Никаких улыбок. Сигареты прикуривать одну от другой. Нужно поскорее всем рассказать, чтоб начали смотреть по‑другому, не как на остальных. То‑то у Жмена с Китайцем глаза из орбит повылазят, когда узнают, что у меня стряслось! А Юля…
Я думаю о ней, когда прыгаю из затхлой пещеры парадного в прямоугольник яркого света. Но думаю и о другом – о переполняющем меня чувстве великих перемен. Мир действительно сдвинулся. Произошло огромное, грандиозное событие. Нет эмоций – ни плюс, ни минус. Просто ощущение такое – Что‑то Важное Случилось.
Выскакиваю на улицу, ожидая увидеть зеленое небо, красную траву, ярко‑розовых двухголовых котов на заборе автопарка и серо‑буро‑малиновых крылатых осьминогов, играющих в футбол на площадке. Ведь произошло Событие. Все Переменилось. Все Не Так, Как Раньше.
Конец ознакомительного фрагмента – скачать книгу легально
Библиотека электронных книг "Семь Книг" - admin@7books.ru