
Зона интересов | Мартин Эмис
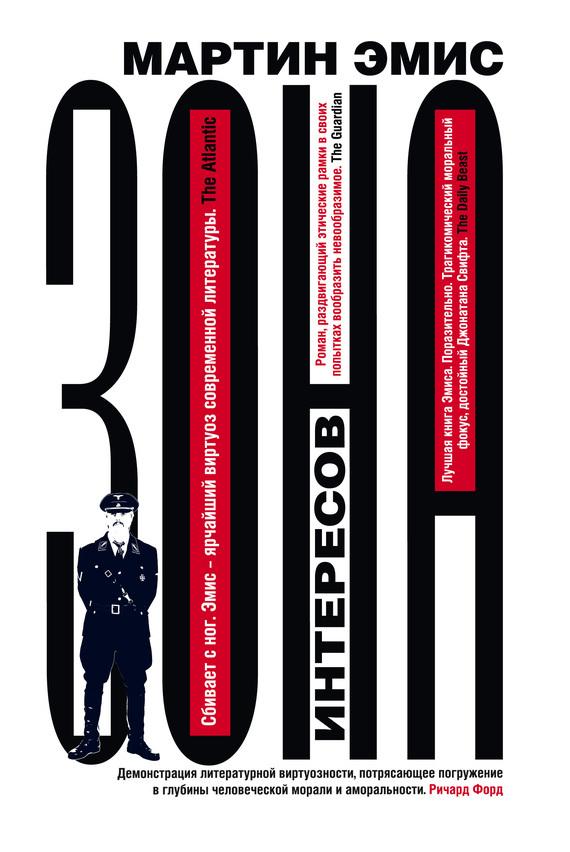
Мартин Эмис
Зона интересов
* * *
Вкруг котла начнем плясать,
Злую тварь в него бросать;
Первым – жабы мерзкий зев,
Что, во сне оцепенев,
Средь кладбищенских камней
Яд скопляла тридцать дней.
И змеи болотной плоть
Надо спечь и размолоть;
Лягвы зад, червяги персть,
Пса язык и мыши шерсть,
Жала змей, крыло совы,
Глаз ехидны, – вместе вы
Для могущественных чар
В адский сваритесь навар.
Кость дракона, волчье ухо,
Труп колдуньи, зуб и брюхо
Злой акулы, взятой в море,
В мраке выкопанный корень,
Печень грешного жида,
Желчь козла кидай сюда,
Тис, что ночью надо красть,
Нос татарский, турка пасть,
Палец шлюхина отродья,
Что зарыто в огороде,
Пусть в котле кипит и бродит.
В колдовской бросай горшок
Груду тигровых кишок.
Кровь из павианьих жил,
Чтоб состав окреп, застыл.
Я в кровь
Так глубоко зашел, что возвращаться
Мне так же тошно, как вперед идти.
У. Шекспир. «Макбет»[1]
Часть I
«Сфера интересов»
1. Томсен: Первый взгляд
К вспышкам молний мне не привыкать, к грому тоже. При моем завидном опыте в этих делах не привыкать мне и к ливням, – к ливням, и солнечному свету, и радугам за ними.
Она возвращалась с двумя дочерьми из Старого Города и уже основательно углубилась в «Зону интересов». Впереди мать с дочерьми уже ждала, длинная аллея – почти колоннада – кленов, их ветви и широкие листья смыкались наверху. Стоял вечер середины лета, в воздухе поблескивали крошечные комары… Моя записная книжка лежала, открытая, на пне, ветерок любознательно листал ее страницы.
Высокая, широкоплечая, полная, но с легкой походкой, в белом, доходящем до щиколоток платье с фестончатым подолом, в кремового цвета соломенной шляпе с черной лентой, с покачивающейся соломенной сумкой в руке (девочки тоже в белом, в соломенных шляпах и с соломенными сумками), она вступала в большие пятна пушистого, желто‑коричневого, как лани, золотистого, как львы, света и тепла и выступала из них. Она смеялась – откидывая голову назад, напрягая шею. Я, в моем сшитом на заказ твидовом пиджаке и саржевых брюках, с моим пюпитром и вечным пером, шел параллельно, не отставая.
И вот мы пересекли подъездную дорожку Школы верховой езды. Сопровождаемая двумя о чем‑то просившими ее детьми, она миновала декоративную ветряную мельницу, майское дерево, трехколесные виселицы, ломовую лошадь, небрежно привязанную к железной водопроводной колонке, и пошла дальше.
В Кат‑Зет[2] – в Кат‑Зет I.
Что‑то случилось с первого взгляда. Молния, гром, ливень, солнце, радуга – метеорология первого взгляда.
* * *
Ее звали Ханной – госпожой Ханной Долль.
Сидя в Офицерском клубе на софе, набитой конским волосом, среди развешенных по стенам лошадиной сбруи и изображающих лошадей картин, я отхлебнул эрзац‑кофе (кофе для лошадей) и сказал другу всей моей жизни Борису Эльцу:
– На миг я снова стал молодым. Это походило на любовь.
– Любовь?
– Я сказал: походило. Что тебя так удивляет? Походило на любовь. Чувство неизбежности. Сам знаешь. На зарождение долгого, чудесного романа. Романтической любви.
– Déjà vu и все такое? Давай‑ка. Расшевели мою память.
– Ладно. Мучительное обожание. Мучительное. Ощущение покорности и своего ничтожества. Как у тебя с Эстер.
– Там совершенно другое. – Он наставил на меня палец. – Там чувство отеческое. Ты поймешь, когда познакомишься с ней.
– Ну как бы то ни было. Потом это прошло и я… И я стал гадать, как она выглядит без одежды.
– Вот видишь? А я никогда не гадал, как выглядит Эстер без одежды. Увидев ее голой, я ужаснулся бы. Закрыл руками глаза.
– А увидев голой Ханну Долль, ты закрыл бы глаза, Борис?
– Мм. Кто мог бы подумать, что Старый Пропойца получит такую красавицу.
– Да. Невероятно.
– Старый Пропойца. Но ты все же прикинь. Не сомневаюсь, пропойцей он был всегда. Но не всегда старым.
Я сказал:
– Девочкам сколько? Двенадцать, тринадцать. Значит, она наших лет. Или немного моложе.
– А сколько ей было, когда Старый Пропойца ее обрюхатил, – восемнадцать?
– В то время он был наших с тобой лет.
– Ладно. Выйти за него – дело, я полагаю, простительное, – сказал Борис. И пожал плечами: – Восемнадцать. Однако она не покинула его, так? И тут уже шуточками не отделаешься.
– Я понимаю. Всегда трудно…
– Для меня она высоковата. Да если на то пошло, и для Старого Пропойцы тоже.
И мы в который раз задали друг другу вопрос: как можно было привезти сюда жену и детей? Сюда.
Я сказал:
– Эта обстановка больше годна для мужчины.
– Ну не знаю. Некоторые женщины ничего против нее не имеют. Некоторые женщины ничем и не отличаются от мужчин. Возьми хоть твою тетю Герду. Ей здесь понравилось бы.
– Тетя Герда может одобрять это в принципе, – сказал я. – Но ей здесь не понравилось бы.
– А ты думаешь, Ханне здесь нравится?
– Как‑то не похоже на то.
– Нет, не похоже. Однако не забывай, она – жена Пауля Долля, и она последовала за ним сюда.
– Ну, возможно, она здесь приживется, – сказал я. – Надеюсь. Моя внешность сильнее действует на женщин, которым здесь нравится.
– Нам‑то здесь не нравится.
– Нет. Но у нас, слава Богу, есть мы. А это не пустяк.
– Верно, мой дорогой. У тебя есть я, у меня – ты.
Бориса я знал целую вечность – он был ярок, бесстрашен, красив, ну просто маленький Цезарь. Детский сад, начальная школа, отрочество, потом, несколько позже, совместные, отданные велосипедным поездкам каникулы во Франции, Англии, Шотландии, Ирландии, трехмесячное путешествие из Мюнхена на Сицилию. Сложности в наших отношениях возникли, лишь когда мы повзрослели, когда в нашу жизнь вторглась политика – история.
Борис сказал:
– Ты‑то к Рождеству уедешь отсюда. А мне тут до июня торчать. И почему я не на востоке? – Он отпил кофе, покривился, закурил сигарету. – Кстати, шансы у тебя, братец, нулевые. Например, где? Она слишком приметна. Та к что будь осторожен. Старый Пропойца, быть может, и Старый Пропойца, но он еще и Комендант.
– И все‑таки. Случались вещи и более странные.
– Случались вещи куда более странные.
Да. Потому что то было время, когда каждый чувствовал фальшь, издевательское бесстыдство, поразительное ханжество любых запретов. Я сказал:
– У меня есть подобие плана.
Борис вздохнул и принял безучастный вид.
– Для начала потребуется звонок от дяди Мартина. После него я сделаю первый ход. Ферзевой пешкой на четвертую клетку.
Борис, помолчав, сказал:
– Думаю, пешка против не будет.
– Пожалуй. В общем, попытка не пытка.
Борису Эльцу было пора уходить, его ждал перрон. Месяц дежурств на перроне – взыскание внутри взыскания, полученное им за очередную кулачную драку. Перрон: выгрузка, селекция, затем поездка по березовой роще к Коричневому домику, в Кат‑Зет II.
– Самое жуткое – это селекция, – говорил Борис. – Ты бы заглянул туда как‑нибудь. Ради опыта.
Я одиноко позавтракал в Офицерском клубе (половина цыпленка, персики, заварной крем. Никакого спиртного) и направился в свой кабинет в «Буна‑Верке». Там состоялось двухчасовое совещание с Берклем и Зидигом, касавшееся главным образом задержек в строительстве цехов по производству карбида; однако по ходу дела я понял, что проигрываю битву за передислокацию рабочей силы.
Уже в сумерках я возвратился в Кат‑Зет I, в комнатку Ильзы Грезе.
Ильзе Грезе здесь нравилось.
* * *
Негромко стукнув по жестяной вращающейся двери, я вошел в комнату.
Совсем как юная женщина, коей она и была (в следующем месяце ей должно было исполниться двадцать), Ильза сидела на койке, сгорбившись, перекрестив лодыжки и читая иллюстрированный журнал; оторвать взгляд от его страницы она не соизволила. Форма ее висела на гвозде, торчащем из металлической балки, под которой я прошел, нагнув голову; одежду Ильзы составляли халат из темно‑синей грубой ткани и мешковатые серые носки. Не обернувшись ко мне, она сказала:
– Ага. Запахло исландцем. Засранцем запахло.
Глумливая томность была для Ильзы привычной манерой в общении со мной, а может быть, и со всеми ее мужчинами. Моя привычная манера в обращении с ней, да и с каждой женщиной, сводилась, по крайней мере поначалу, к велеречивой чопорности (я обзавелся этим стилем как противовесом моей внешности, которую многие находили – недолгое, впрочем, время – устрашающей). На полу валялись ремень Ильзы с кобурой и ее плеть из бычьей кожи, свернувшаяся кольцом, точно худая спящая змея.
Я разулся. А сев и поудобнее прислонившись к изогнутой спине Ильзы, свесил через ее плечо амулет на золоченой цепочке, с импортными духами внутри.
– Явился исландский засранец. И чего он желает?
– Мм, Ильза, какой тут бардак. Выходя на работу, ты всегда выглядишь безукоризненно – этого у тебя не отнимешь. Но в приватной жизни… а ведь ты такая поборница чистоты и порядка в других.
– Чего желает засранец?
Я сказал:
– Чего он желает? – И продолжал с задумчивыми паузами между предложениями: – Он желает, чтобы ты, Ильза, пришла около десяти вечера в мою квартиру. Там я попотчую тебя бренди, шоколадом и осыплю дорогостоящими подарками. А ты расскажешь мне о твоих последних успехах и неудачах. Вскоре мое великодушное сочувствие возродит в тебе чувство меры. Ведь чувство меры, Ильза, есть то, что, как известно, тебе очень редко, но изменяет. Во всяком случае, так говорит Борис.
– Борис меня больше не любит.
– На днях он пел тебе хвалы. Если желаешь, я поговорю с ним. Надеюсь, ты придешь ко мне в десять. И после нашей беседы и угощения состоится сентиментальная интерлюдия. Вот чего я хочу.
Ильза продолжала читать – статью, которая в сильных и даже гневных выражениях доказывала, что женщинам ни в коем случае не следует брить или как‑то еще лишать волосяного покрова свои ноги и подмышки.
Я встал. Она подняла на меня взгляд. Широкий, странно морщинистый, искривленный рот, глаза женщины, которая в три раза старше ее, изобильный каскад серовато‑светлых волос.
– Ты засранец.
– Приходи в десять. Придешь?
– Может, приду, – сказала она, переворачивая страницу. – А может, и нет.
* * *
Жилищный фонд Старого Города был до того примитивен, что для работников «Буны» пришлось построить в его деревенском пригороде своего рода спальный район (с начальной и средней школой, больницей, несколькими магазинами, кафетерием и пивной – а также с десятками норовистых домохозяек). Я же довольно быстро отыскал в одном из отходящих от рыночной площади проулков – Садовая, 9 – вполне приемлемую, хоть и по‑мещански меблированную квартирку.
У нее имелся один серьезный недостаток – мыши. После насильственного переселения владельцев этой квартиры ее около года использовали как жилье для строителей, в итоге, нашествия мышей стали хроническими. На глаза мне это маленькие твари не попадались, однако я почти постоянно слышал, как они шебуршатся в щелях и стоках, бегая, пища, кормясь, размножаясь…
При втором визите ко мне моя уборщица, юная Агнес, принесла большого, черного с белым кота по кличке Макс, или Максик. Макс был легендарным мышеловом. Все, что вам потребуется, сказала Агнес, это чтобы он гостил у вас раз в две недели; от блюдца с молоком Макс не откажется, но пищу поосновательней ему давать не следует.
Прошло совсем немного времени, и я проникся уважением к этому искусному и скромному хищнику. Максик казался одетым в смокинг – угольного цвета пиджак, идеально треугольная белая манишка и короткие белые гетры. Когда он припадал к полу и вытягивал передние лапы, коготки его раскрывались веером, изящным, как маргаритка.
Всякий раз, что Агнес отрывала его от пола и уносила, Макс, проведший у меня выходные, оставлял после себя устойчивую тишь.
Вот в такой тиши я и принял, а вернее, соорудил горячую ванну (чайники, кастрюльки, ведра) и придал себе к приходу Ильзы Грезе вид особенно опрятный и привлекательный. Поместил на стол коньяк, сладости, четыре запечатанных пакетика с крепкими колготками (чулки она презирала) и сел в ожидании, глядя в окно на старый герцогский замок, черневший в вечернем небе, совершенно как Макс.
Ильза была женщиной точной. Все, что она сказала, – слегка презрительно и до крайности томно, – все, что она сказала, едва лишь за ней закрылась дверь, это: «Давай по‑быстрому».
* * *
До сей поры, как мне удалось выяснить, жена Коменданта, Ханна Долль, сама отводила дочерей в школу и забирала их оттуда, но сверх этого дома почти не покидала.
Она не посетила ни одного из двух организованных на пробу thés dansants[3]; не присутствовала ни на коктейле, устроенном в Политическом отделе Фрицем Мебиусом, ни на премьерном показе романтической кинокомедии «Два счастливца».
Пауль Долль не появиться на этих мероприятиях не мог. Он и появлялся, всякий раз с одним и тем же выражением лица, а именно выражением мужчины, который героически смиряется с нанесенной его достоинству раной… Он имел обыкновение держать губы сложенными в трубочку, словно собираясь засвистеть, – до поры (так, во всяком случае, казалось), пока на него не нападали некие буржуазные сомнения, после чего рот складывался в подобие клюва.
Мебиус спросил:
– Вы без Ханны, Пауль?
Я подобрался поближе.
– Нездорова, – сказал Долль. – Знаете, как это бывает. В известные дни каждого месяца.
– Какая жалость.
Мне между тем удалось хорошо разглядеть ее, да еще и в течение нескольких минут, сквозь дырявую зеленую изгородь на дальнем конце спортивной площадки (проходя мимо, я остановился и сделал вид, что просматриваю мою записную книжку). Ханна распоряжалась на лужайке пикником двух своих дочерей и их подруги – дочки Зидигов, я почти уверен. Плетеная корзина стояла еще не разобранной. Ханна не сидела с девочками на красном ковре, но время от времени опускалась рядом с ними на корточки, а после поднималась опять – стремительным движением бедер.
Если не одеждой, то уж определенно очертаниями (лицо оставалось от меня скрытым) Ханна Долль отвечала национальному идеалу молодой женщины – спокойной, деревенского обличия, созданной для деторождения и тяжелой работы. Я благодаря моей внешности приобрел обширные плотские познания по части женщин такого типа. Я успел задрать и расправить немало трехслойных сборчатых юбок, стянуть немало ворсистых рейтуз, забросить себе на плечи немало ног в подбитых гвоздями деревянных башмаках.
Я? Росту во мне шесть футов три дюйма. Белые, точно иней, волосы. Фламандский нос, надменная складка рта, соразмерный задиристый подбородок, прямые углы движущихся как на шарнирах челюстей, которые кажутся приклепанными под маленькими округлыми ушами. Плечи широкие и прямые, грудь как бетонная плита, тонкая талия, растяжимый пенис, классически компактный, когда отдыхает (с резко выраженной крайней плотью), крепкие, точно тесаные мачты, бедра, квадратные коленные чашечки, микеланджеловские икры, ступни почти такие же гибкие и красивые, как большие, пятикратно ветвящиеся лопасти моих ладоней. Ну и чтобы завершить описание этого арсенала своевременно доставшихся мне счастливых приманок, – глаза у меня ледяные, кобальтово‑синие.
Все, что мне требуется, это словечко дяди Мартина, особое распоряжение столичного дяди Мартина, – и тогда я начну действовать.
* * *
– Добрый вечер.
– Да?
Я стоял на ступеньках оранжевой виллы, лицом к лицу с удивительной особой в плотной вязки шерстяном костюме (жилет и юбка) и с блестящими серебряными пряжками на туфлях.
– Хозяин дома? – спросил я. Мне было преотличнейшим образом известно, что Долль отнюдь не дома. Он пребывал на перроне – с врачами, Борисом и много кем еще, встречал Состав особого назначения 105 (предполагалось, что от Состава особого назначения 105 следует ждать неприятностей). – Видите ли, у меня чрезвычайно важное…
– Гумилия? – произнес женский голос. – Что там такое, Гумилия?
Вытеснение воздуха из глубин дома – и вот она, Ханна Долль, снова в белом наряде, мерцавшем в тенях. Гумилия, вежливо кашлянув, удалилась.
– Прошу простить за вторжение, мадам, – сказал я. – Мое имя Голо Томсен. Рад встрече с вами.
Я стянул палец за пальцем замшевую перчатку, протянул ей ладонь, которую она взяла в свою.
– Голо? – спросила она.
– Да. Ну, такова была первая моя попытка произнести «Ангелюс», неудачная, как видите. Однако «Голо» прилипло ко мне. Наши промахи преследуют нас всю жизнь, вы не находите?
– Чем могу быть полезна, господин Томсен?
– Госпожа Долль, у меня довольно срочные новости для Коменданта.
– О?
– Я не хочу быть мелодраматичным, однако в Рейхсканцелярии принято решение по вопросу, который, как мне известно, в высшей степени интересует его.
Она продолжала смотреть на меня, явно пытаясь составить мнение на мой счет.
– Я вас уже видела, – сказала она. – Запомнила, потому что на вас не было мундира. Вы его когда‑нибудь носите? Чем вы, собственно, занимаетесь?
– Офицер связи, – с коротким поклоном ответил я.
– Если это важно, вам, наверное, лучше подождать мужа. Я не знаю, где он. – Ханна пожала плечами. – Не желаете лимонада?
– Нет – не хочу доставлять вам лишние хлопоты.
– Какие же тут хлопоты? Гумилия!
Теперь мы стояли в розовом свете гостиной: госпожа Долль спиной к камину, господин Томсен перед центральным окном, из которого открывался вид на вереницу дозорных вышек и Старый Город – на среднем плане.
– Очаровательно. Просто очаровательно. А скажите, – с покаянной улыбкой спросил я, – вы умеете хранить секреты?
Взгляд ее посуровел. Сейчас, видя Ханну вблизи, я обнаружил в ней черты более южные, может быть даже романские; да и глаза у нее были непатриотичными, темно‑карими, цвета влажного жженого сахара и с каким‑то густым блеском. Она сказала:
– Я умею хранить секреты. Когда хочу.
– Это хорошо. Дело в том, – сказал я, принимаясь врать напропалую, – дело в том, что меня очень интересует внутреннее убранство домов – их меблировка, общий рисунок. Вы ведь понимаете, почему мне не хочется, чтобы это стало известным. Увлечение не очень мужское.
– Нет, полагаю, не очень.
– Мраморные подоконники – это была ваша идея?
Замысел мой состоял в том, чтобы увлечь ее, заставить двигаться. И теперь Ханна Долль говорила, жестикулировала, переходила от окна к окну, а я получил возможность получше ее разглядеть. Да, эту женщину создавали с колоссальным размахом: в ней прочитывалась мощная гармония различных эстетических начал. А голова Ханны – с широким ртом, крепкими зубами и челюстями, гладкими (завершающая деталь) щеками – напоминала булаву, но соразмерную, расширявшуюся кверху. Я спросил:
– А застекленная веранда?
– Ну, либо такая, либо…
В незакрытую дверь вошла Гумилия с подносом, на котором стоял каменный кувшин и две тарелки с печеньями и пирожными.
– Спасибо, Гумилия, дорогая.
Когда мы снова остались одни, я мягко спросил:
– Ваша служанка, госпожа Долль. Она случайно не из Свидетелей?[4]
Ханна молчала, пока некие домашние звуки, мной не уловленные, не затихли, позволив ей ответить – не шепотом, но близко к тому:
– Из них. Я их не понимаю. У нее лицо благочестивой женщины, вы не находите?
– Да, и весьма. – Лицо Гумилии было нарочито неопределенным – и в отношении пола, и в отношении возраста (негармоничное сочетание мужского и женского начал, молодости и старости), и при этом немного ниже густой челки ее смахивавших на кресс‑салат волос светилась редкостная уверенность в своей правоте. – Тут все дело в очках без оправы.
– Сколько лет вы бы ей дали?
– Э‑э… тридцать пять?
– Пятьдесят. Я думаю, она выглядит так потому, что считает себя бессмертной.
– Ну что же, наверное, это сильно ее утешает.
– И ведь все так просто. – Ханна, склонясь над подносом, разлила лимонад, и мы присели – она на стеганую софу, я в деревенское деревянное кресло. – От нее требуется лишь подписать документ. И она получит свободу.
– Всего лишь «отречься», как они выражаются.
– Да, но знаете… Гумилия так предана моим девочкам. А ведь у нее и свой ребенок есть. Мальчик двенадцати лет. Взятый государством на попечение. Подписав стандартный формуляр, она могла бы поехать и забрать его. Но она этого не делает. Не хочет.
– Любопытно, не правда ли? Я слышал, что им полагается любить страдание. – Я вспомнил рассказ Бориса о Свидетеле у палочного столба[5], но решил, что потчевать им Ханну не стоит, – Свидетель просил, чтобы его били подольше. – Страдание подтверждает их веру.
– Представляю себе.
– Им это по душе.
Время шло к семи, озарявший гостиную розоватый свет внезапно потускнел… Я одержал немало удивительных, ошеломительных даже побед именно в этот час, когда сумерки, еще не разогнанные светом ламп или люстр, будто даруют нам некое неуловимое дозволение – напоминают о странных, словно причудившихся во сне возможностях. Получил бы я настоящий отпор, если бы мирно присоединился к ней на софе и, промурлыкав какие‑то комплименты, взял Ханну за руку, а после (тут все зависит от того, как дело пойдет) нежно провел губами по основанию ее шеи? Получил бы?
– Мой муж… – сказала она – и смолкла, словно прислушиваясь к чему‑то.
Слова эти повисли в воздухе, и на миг напоминание о муже покоробило меня – тем более что ее муж был Комендантом. Впрочем, я постарался сохранить вид и серьезный, и уважительный. Она продолжила:
– Муж считает, что мы можем многому у них научиться.
– У Свидетелей? Чему же?
– Ну, знаете, – равнодушно, почти сонно ответила она, – силе веры. Непоколебимой веры.
– Достойному рвению.
– Которым все мы должны обладать, не правда ли?
Я откинулся на спинку кресла и сказал:
– Понять, почему вашему мужу нравится их фанатизм, нетрудно. А как насчет их пацифизма?
– Вот это нет. Естественно. – И тем же оцепенелым голосом Ханна добавила: – Гумилия отказывается чистить его мундир. И сапоги. Ему это не нравится.
– Да уж. Не нравится, пари готов держать.
Я понял наконец, насколько вызванный ею дух Коменданта понизил тональность нашего весьма многообещающего и даже умеренно чарующего разговора. И потому, легко хлопнув ладонью о ладонь, сказал:
– Ваш сад, госпожа Долль. Не могли бы мы пройтись по нему? Боюсь, мне придется сделать еще одно постыдное признание. Я обожаю цветы.
* * *
Сад был разделен на два участка: справа возвышалась ива, частично заслоняющая низкие надворные постройки и небольшой лабиринт троп и обсаженных кустами дорожек, где дочери Ханны несомненно любили играть и прятаться; слева располагались роскошные клумбы, лужайка, белая ограда, за ней – стоящее на суглинистом возвышении здание Монополии[6], а за ним – первые розовые мазки заката.
– Рай. Какие великолепные тюльпаны.
– Это маки, – сказала Ханна.
– А вон там что за цветы?
После нескольких минут такого разговора госпожа Долль, ни разу еще мне не улыбнувшаяся, рассмеялась, благозвучно и удивленно, и сказала:
– Вы ничего не смыслите в цветах, верно? Вы даже не… Ничего не смыслите.
– Кое‑что я о цветах знаю, – ответил я, расхрабрившись и, быть может, рискованно. – То, чего не знают многие мужчины. Почему женщины так любят цветы?
– Ну‑ну, продолжайте.
– Продолжу. Цветы позволяют женщине почувствовать себя красавицей. Поднося женщине роскошный букет, я знаю, что он внушит ей мысль о ее красоте.
– Кто вам это сказал?
– Моя матушка. Да упокоит Господь ее душу.
– Что же, она была права. Начинаешь чувствовать себя кинозвездой. И это продолжается несколько дней.
И, осмелев до головокружения, я прибавил:
– Это воздает должное им обоим. Цветам и женственности.
И тут Ханна спросила у меня:
– А вы умеете хранить секреты?
– Будьте уверены.
– Тогда пойдемте.
Я верил в ту пору, что существует потаенный мир, который развивается и живет параллельно известному нам; он существует in potential, а чтобы попасть в него, нужно пройти сквозь пелену или завесу привычного, нужно действовать. Ханна Долль, быстро ступая, вела меня к оранжерее, свет еще не угас, и, в сущности, разве такими уж странными показались бы попытки уговорить ее зайти внутрь, где я смог бы потянуться к ней и, уронив руки, сжать пальцами белые складки ее платья? Странными? Здесь? Где все дозволено?
Она отворила дверь, наполовину стеклянную, и, еще не войдя, протянула руку и порылась в стоявшем на низкой полке цветочном горшке… Сказать по правде, пока я предавался любовным похождениям, в голову мою за семь или восемь лет не забредала ни одна благопристойная мысль. (Прежде я был своего рода романтиком, но изжил это свойство.) Вот и теперь, глядя, как изгибается тело наклонившейся Ханны, как напрягается ее зад, как покачивается вперед‑назад, помогая ей сохранить равновесие, одна ее сильная нога, я сказал себе: это будет большой поебон. Так и сказал: большой поебон.
Выпрямившись, она повернулась ко мне и раскрыла ладонь. И что я увидел? Мятую пачку «Давыдофф», на пять сигарет. Три еще оставались в ней.
– Хотите одну?
– Я не курю сигарет, – ответил я и достал из кармана дорогую зажигалку и привезенную из Швейцарии жестяную коробочку манильских сигар. Затем подступил к Ханне, крутнул колесико, ладонью прикрыл от ветерка пламя…
Сей маленький ритуал имел огромное социосексуальное значение, ибо мы, она и я, жили в стране, где он приравнивался к преступному сговору. В барах и ресторанах, в отелях, на железнодорожных вокзалах et cetera висели таблички «Женщин просят не курить», а на улицах мужчины определенного пошиба – все больше курильщики – считали своим долгом подвергать поношениям сбившихся с правого пути женщин и выдергивать сигареты из их пальцев, а то и губ. Ханна сказала:
– Я знаю, что это нехорошо.
– Не слушайте никого, госпожа Долль. Внемлите нашему поэту. «Воздержись, воздержись, воздержись. Вот она, вечная песнь».
– Я обнаружила, что это немного помогает, – сказала она. – От запаха.
Последнее слово еще слетало с кончика ее языка, когда мы услышали нечто, нечто принесенное ветром… Беспомощный, дрожащий аккорд, фуговое созвучие человеческого ужаса и смятения. Мы замерли, нам казалось, что глаза наши разбухают. Я чувствовал, как мое тело сжимается, готовясь к удару еще более сильному. Затем наступила пронзительная тишина, зудевшая в ушах, точно комар, а за ней, полминуты спустя, неуверенный, неровный всплеск скрипичной музыки.
Казалось, все слова на свете существовать перестали. Мы курили, беззвучно вдыхая дым.
Ханна засунула два окурка в пустой пакетик из‑под семян и спрятала его на дне лишенной крышки резиновой бочки.
– Ваше любимое сладкое?
– Э‑э, манная каша, – ответил я.
– Манная? Манная каша ужасна. А как насчет пропитанного вином бисквита со сливками?
– У него имеются свои достоинства.
– Что бы вы предпочли, слепоту или глухоту?
– Слепоту, Полетт, – сказал я.
– Слепоту? Слепота гораздо хуже. Глухоту!
– Слепоту, Сибил, – повторил я. – Слепых людей все жалеют. А глухих не переносят.
Должен сказать, с девочками я поладил совсем неплохо, и по двум причинам: подарил им несколько пакетиков французских конфет и, что более существенно, скрыл удивление, когда услышал от них, что они близнецы. Неидентичные – Сибил и Полетт были просто родившимися одновременно сестрами, не обладавшими даже отдаленным родственным сходством: Сибил пошла в мать, а Полетт, бывшая на несколько дюймов ниже, уже исполняла мрачное обещание, данное ее именем[7].
– Что это был за страшный звук, мама? – спросила Полетт.
– О, просто какие‑то люди валяли дурака. Притворились, что сейчас Вальпургиева ночь, и пытались напугать друг друга.
– Мам, а почему, если я не почищу зубы, папа всегда это знает? – спросила Сибил.
– Что?
– Он всегда прав. Я спросила у него почему, а он говорит: «Папа знает все». Но откуда он все знает?
– Он просто поддразнивал тебя. Гумилия, сегодня пятница, наполните для девочек ванну.
– Ой, мам. Можно мы поиграем с Богданом, Торкулем и Довом? Десять минут.
– Пять. Пожелайте господину Томсену спокойной ночи.
Богдан был поляком‑садовником (старым, высоким и, разумеется, очень худым), Торкуль – ручной черепахой, а Дов, сколько я понял, подростком, помогавшим Богдану. Скоро я увидел их под ветвями ивы – сидящих на корточках близнецов, Богдана, еще одну помощницу (местную девочку, Брониславу), Дова и крошечную Гумилию, Свидетельницу…
Мы смотрели на них, Ханна сказала:
– Он был профессором зоологии, Богдан. В Кракове. Подумать только. Жил там. А теперь он здесь.
– Мм. Госпожа Долль, часто ли вы бываете в Старом Городе?
– О, почти ежедневно. Время от времени Гумилия подменяет меня, но, как правило, я сама отвожу дочерей в школу и забираю оттуда.
– А я там живу. Пытаюсь привести мою квартиру в достойный вид, но у меня иссякли идеи. Возможно, мне просто нужны хорошие драпировки. Вот я и подумал, не могли бы вы как‑нибудь заглянуть ко мне и высказать ваше мнение?
Профилем к профилю. Не лицом к лицу.
Она скрестила руки и сказала:
– И как, по‑вашему, это можно устроить?
– Да тут и устраивать особенно нечего. Ваш муж ничего не узнает. – Я решился зайти так далеко, поскольку, проведя в ее обществе час, убедился, и полностью, что женщина, подобная ей, не может питать привязанность, хоть какую‑то, к мужчине вроде него. – Вы подумаете об этом?
Она довольно долго смотрела на меня молча – так долго, что улыбка моя начала скисать.
– Нет. Это очень безрассудное предложение, господин Томсен… Вы многого не понимаете. Даже если думаете, что понимаете все. – Она отступила на шаг: – Если хотите ждать дальше, пройдите в ту комнату. Ступайте. Вы сможете почитать там номер «Наблюдателя» за среду.
– Спасибо. Спасибо за гостеприимство, Ханна.
– Не за что, господин Томсен.
– Мы еще увидимся, не так ли, госпожа Долль, через неделю? Комендант был настолько добр, что пригласил меня.
– Раз так, то, полагаю, увидимся. До свидания.
– До свидания.
* * *
Пауль Долль нетерпеливо подрагивающей рукой наклонил графинчик над шаровидной коньячной рюмкой, проглотил налитое в нее, как истомленный жаждой человек, и налил новую порцию. И спросил через плечо:
– Не желаете?
– Если вы не против, майор, – ответил я. – О, большое спасибо.
– Стало быть, они приняли решение. Да или нет? Дайте‑ка я догадаюсь, – да.
– Почему вы в этом уверены?
Он подошел к кожаному креслу, рухнул в него и рывком расстегнул верхнюю пуговку кителя.
– Потому что так я получу новые затруднения. Это же их руководящий принцип. Давайте создадим для Пауля Долля новые затруднения.
– Вы, как и всегда, правы, мой господин. Я противился этому, однако оно случилось. Кат‑Зет III… – начал я.
* * *
На каминной доске в кабинете Долля стояла обрамленная фотография – большая, примерно в половину квадратного метра, глянцевая работа профессионального фотографа (снимал не Комендант, то была эпоха, предшествовавшая явлению Долля). Задний план резко делился надвое, смутное свечение с одной стороны, густая темень с другой. Свет обливал очень молодую Ханну, которая стояла в центре всей сцены (а то и была сцена – бала? маскарада? любительского спектакля?), одетая в перетянутое пояском вечернее платье. – В руках, закрытых по локти перчатками, она держала букет и источала смущение, вызванное непомерностью ее счастья. Прямой подол платья был подвернут и прицеплен к пояску, почти открывая все ее прелести…
Снимок был сделан лет тринадцать‑четырнадцать назад – сейчас она стала куда красивее.
Говорят, что одно из самых страшных явлений природы – взбесившийся в пору гона слон. Из каналов, которые завершаются на его висках, стекают к челюстям две струйки мерзко пахнущей жидкости. В такое время этот огромный зверь пронзает бивнями жирафов и гиппопотамов, ломает перепуганным носорогам хребты. Такова «течка» слоновьих самцов.
Но я не слон. Я просто должен, должен, должен был обладать Ханной.
* * *
На следующее утро (в субботу) я выскользнул из «Буна‑Верке» с тяжелым саквояжем, возвратился на Садовую и принялся просматривать еженедельный рапорт о ходе строительства. Естественно, он содержал множество расчетов, касавшихся нового бытового комплекса в Моновице.
В два ко мне пришла гостья, молодая женщина по имени Лоремэри Баллах, и я в течение сорока пяти минут развлекал ее. Это свидание было прощальным. Лоремэри, жене моего коллеги Петера Баллаха (добродушного и одаренного металлурга), здесь не нравилось, мужу ее тоже. В конце концов картель разрешил ему вернуться в Управление.
– Не пиши, – сказала она, одеваясь. – Во всяком случае, пока все это не кончится.
Я вновь обратился к работе. Столько‑то цемента, столько‑то леса, столько‑то колючей проволоки. Между делом я отмечал в себе облегчение, равно как и сожаление, вызванные тем, что Лоремэри со мной больше нет (придется искать замену). У донжуанов вроде меня имеется девиз: «Соврати жену и оболги мужа», и, ложась с Лоремэри в постель, я всегда с осадочком неловкости вспоминал Петера – его полные губы, захлебывающийся смех, криво застегнутый жилет.
Обладая Ханной Долль, я никаких сожалений испытывать не стал бы. То, что она замужем за Комендантом, не составляло веской причины для любви к ней – но составляло вескую причину для того, чтобы затащить ее в постель. Я работал, складывая, вычитая, деля и умножая, и жаждал услышать мотоцикл Бориса (с его гостеприимной коляской).
Около половины девятого я встал из‑за стола, чтобы извлечь из холодильника бутылку «Сансер».
Макс – Максик – неподвижно сидел на голых белых плитках пола, выпрямив спину и небрежно придерживая лапой маленькую и пыльную серую мышь. Жизнь еще теплилась в ней, мышь снизу вверх смотрела на Макса и словно бы улыбалась – улыбалась извиняющейся улыбкой, а затем жизнь выпорхнула из нее; Макс между тем продолжал смотреть в сторону. Убили ли ее кошачьи когти? Или смертельный страх? Как бы там ни было, Макс, не тратя зря времени, приступил к ужину.
* * *
Я вышел из дома и спустился в Старо Място. Пусто, как в комендантский час.
Что говорила мышь? Она говорила: чтобы смягчить мою участь, умиротворить тебя, я могу предложить лишь полноту и совершенство моей беззащитности.
А что говорил кот? Ничего он, естественно, не говорил. Лощеный, погруженный в мечты, царственный, принадлежащий к другому миру, другому порядку вещей.
Когда я вернулся в квартиру, Макс лежал, растянувшись на ковре в моем кабинете. Мышь исчезла, пожранная без следа, даже хвоста не осталось.
Той ночью небо над бескрайней евразийской равниной до очень позднего часа оставалось индигово‑фиолетовым – цвет кровоподтека под прищемленным ногтем.
Шел август 1942 года.
2. Долль: Селекция
– Если Берлин передумает, – сказал мой визитер, – я дам вам знать. Спокойной ночи, майор.
И удалился.
Как и следовало ожидать, после происшедшего на перроне кошмара моя голова раскалывалась от боли. Я проглотил 2 таблетки аспирина (650 мг; 20.43), а на ночь несомненно придется принять «фанодорм». От Ханны никакого участия, понятное дело, не дождешься. Она, разумеется, видела, что я потрясен до мозга костей, и просто отвернулась, слегка вздернув подбородок, – как будто ее невзгоды по всем статьям превосходят мои…
А в чем дело‑то, сладенькая моя? Может, тебе наши непослушные девочки не потрафили? Или Бронислава снова не оправдала твоих ожиданий? Или твои драгоценные маки расцветать не желают? Боже ты мой, какая трагедия, как ты еще жива‑то осталась? Впрочем, у меня есть предложение, киска моя. Попробуйте сделать что‑нибудь для вашей страны, мадам! Попробуйте сработаться с гнусными портачами наподобие Эйкеля и Прюфера! Попробуйте организовать предупредительное заключение 30, 40, 50 000 человек!
Попробуйте, барыня вы этакая, принять Зондерцуг 105[8]…
Ну не могу утверждать, что меня не предупреждали. Или могу? Верно, предупреждение я получил, но о возможности совершенно иной. Острая напряженность, затем чрезвычайное облегчение – а затем, снова‑здорово, кардинальное осложнение. И что ожидало меня по возвращении домой? Новые неприятности.
Концентрационный лагерь 3, это ж надо. Неудивительно, что у меня раскалывается башка!
Я получил 2 телеграммы. В официальном сообщении Берлина значилось:
25 ИЮНЯ
БУРЖЕ‑ДРАНСИ ОТПР 01.00 ПРИБ КОМПЬЕНЬ 03.40 ОТПР 04.40 ПРИБ ЛАН
06.45 ОТПР ‑7.‑5 ПРИБ РЕЙМС 08.07 ОТПР 08.38
ПРИБ НА ГРАНИЦУ 14.11
ОТПР 15.05
26 ИЮНЯ
ПРИБЫТИЕ КЦЛ(I) 19.03 КОНЕЦ
Прочитав это, любой имел бы все причины полагать, что придет «простой» транспорт, в котором эвакуанты проведут всего‑навсего 2 дня. Да, но за 1‑м посланием последовало 2‑е, из Парижа:
ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ ДОЛЛЬ ТЧК КАК СТАРЫЙ ДРУГ РЕКОМЕНДУЮ БЫТЬ КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫМ С СОСТАВОМ 105 ТЧК ОН СТАНЕТ ДЛА ВАС ИСПЫТАНИЕМ НА ПРОЧНОСТЬ ТЧК МУЖАЙТЕСЬ ТЧК ВАЛЬТЕР ПАБСТ ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС ИЗ САКРЕ КЁР КОНЕЦ
За годы работы я выработал правило «Не успел подготовиться? Готовься к неуспеху!». И потому принял соответствующие меры.
Времени было 18.57; мы ждали.
Никто не сказал бы, что на перроне я не выглядел импозантно: грудь колесом, крепкие кулаки прижаты к обтянутым галифе бедрам, ноги в высоких сапогах расставлены по меньшей мере на метр. А посмотрите, кто состоял у меня под началом: при мне был мой номер 2 Вольфрам Прюфер, 3 управляющих работами, 6 врачей и столько же дезинфекторов, мой верный зондеркоманденфюрер Шмуль и 12 его подчиненных (из них 3 говорили на французском), 8 капо плюс бригада брандспойтщиков, 96 штурмовиков во главе с капитаном Борисом Эльцем, усиленных отделением из 8 пулеметчиков с ленточным крупнокалиберным пулеметом на треноге и 2 огнеметчиками. Кроме того, я вызвал а) старшую надзирательницу Грезе и ее взвод (Грезе восхитительно тверда в обращении с норовистыми бабами) и б) наш нынешний «оркестр» – не обычное дерьмо с банджо, аккордеонами и дудками, но септет 1‑классных скрипачей из Инсбрука.
(Люблю числа. Они – свидетельства логичности, точности и экономности. Временами я не вполне уверен в «один» – обозначает ли это слово количество или используется как… определение? Впрочем, главное – быть последовательным. А я люблю числа. Номера, числительные, целые. Цифры!)
19.01 очень медленно обратилось в 19.02. Мы почувствовали, как гудят и подрагивают рельсы. А я ощутил прилив энергии и сил. Мгновение мы простояли совершенно неподвижно – люди, ожидающие в конце железнодорожной ветки, на дальнем краю полого поднимающейся, похожей в своей огромности на степь, равнины. Рельсы уходили на половину расстояния, отделявшего нас от горизонта, и наконец на них объявился беззвучный СОН 105.
Он приближался. Невозмутимый, я поднес к глазам мой мощный бинокль: высокоплечее тулово паровоза, 1‑глазого, с коренастой трубой. Поезд, приступая к подъему, повернулся к нам боком.
– Пассажирские вагоны, – сказал я. С запада такие приходят нередко. – Постойте‑ка. 3 класса…
Вагоны плыли, словно намереваясь нас обогнуть, желтые, терракотовые, Première, Deuxième, Troisième[9] – JEP, NORD, La Flèche d’Or[10]. Наш главный врач, профессор Зюльц, сухо заметил:
– 3 класса? Ну вы же знаете французов. Они все делают стильно.
– Ваша правда, профессор, – ответил я. – Даже в том, как они поднимают белый флаг, есть определенное… определенное je ne sais quoi[11]. Не так ли?
Добрый доктор тепло усмехнулся и сказал:
– Черт вас возьми, Пауль. Touché, мой Комендант.
О да, мы болтали и улыбались друг другу, как коллеги, но не заблуждайтесь: мы были готовы. Я махнул правой рукой капитану Эльцу, и солдаты, получившие приказ близко не подходить, заняли свои посты вдоль запасного пути. «Золотая стрела» подкатила к перрону, замедлила ход и с ожесточенным пневматическим вздохом остановилась.
Ну‑с, совершенно правы те, кто говорит, что 1000 человек на состав – это наивернейшее «эмпирическое правило» (и что до 90 % их будет отселектировано «налево»). Однако я уже подозревал, что от привычных норм проку мне нынче будет мало.
Первыми выгрузились не обычные торопливые военнослужащие или жандармы в штатском, но небольшая команда озадаченных на вид немолодых «проводников» (с белыми повязками на рукавах гражданских костюмов). Последовал еще 1 усталый вздох паровоза, и все погрузилось в безмолвие.
Распахнулась дверь 2‑го вагона. И кого мы увидели? Мальчика лет 8–9 в матроске и нелепых расклешенных брючках; затем престарелого господина в каракулевой шубе; затем согнувшуюся над перламутровой ручкой палки из черного дерева старую каргу – согнувшуюся настолько, что палка стала для нее высоковатой, и, чтобы держаться за поблескивающий набалдашник, карге пришлось поднять руку выше головы. Открывались другие двери, из них выходили другие пассажиры.
Что же, к этому времени я ухмылялся во весь рот, покачивал головой и втихаря костерил старого придурка Валли Пабста – его «предостерегающая» телеграмма оказалась не более чем розыгрышем!
1000‑я партия? Да тут и 100 не наберется. Что до селекции, всем им, за малым исключением, оказалось меньше 10 или больше 60; и даже молодые взрослые были отселектированы, так сказать, заблаговременно.
Вот посмотрите. Этот 30‑летний самец широк в груди, верно, но колченог. Эта дюжая девка несомненно пышет здоровьем, но она же беременна. А прочие – кто в ортопедическом корсете, кто с белой тростью слепца.
– Ну, профессор, принимайтесь за работу, – съязвил я. – Вашему прогностическому искусству брошен серьезный вызов.
Зюльц, разумеется, смотрел на меня приплясывающими глазами.
– Не беспокойтесь, – сказал он. – На помощь мне прилетят Асклепий и Панакея. Я сохраню в чистоте и святости и жизнь мою, и искусство. А советчиком мне будет Парацельс.
– Я вам вот что скажу. Возвращайтесь в лазарет, – предложил я, – и попрактикуйтесь в селекции. Или поужинайте пораньше. Сегодня подают утку.
– О, прекрасно, – сказал он и достал из кармана фляжку. – Давайте все же займемся делом. Не желаете глотнуть? Прекрасный сегодня вечер. Я составлю вам компанию, если смогу.
Подчиненных ему врачей он отпустил. Я тоже отдал капитану Эльцу пару приказов, оставив при себе только 12 солдат, 6 зондеров, 3 капо, 2 дезинфекторов (предосторожность, оказавшаяся, как выяснилось, разумной!), 7 скрипачей и старшего надзирателя Грезе.
Сразу после этого согбенная старуха отделилась от неуверенно переминавшихся с ноги на ногу новоприбывших и захромала к нам с приведшей нас в замешательство живостью – ни дать ни взять улепетывающий рак. Трясясь от неодолимого негодования, она спросила (на вполне приличном немецком):
– Это вы здесь главный?
– Я, мадам.
– Известно ли вам, – осведомилась она, подрагивая нижней челюстью, – известно ли вам, что в этом поезде не было вагона‑ресторана?
Встретиться взглядом с Зюльцем я не решился.
– Не было вагона‑ресторана? Какое варварство.
– И вообще никакого обслуживания. Даже в 1‑м классе!
– Даже в 1‑м классе? Безобразие.
– Мы питались одним мясным ассорти, которое прихватили из дома. И минеральная вода у нас почти кончилась!
– Чудовищно.
– Почему вы смеетесь? Вы же смеетесь. Почему?
– Вернитесь назад, мадам, если сможете, – рявкнул я. – Старший надзиратель Грезе!
Ну вот, пока багаж складывали рядом с ручными тележками, а приезжих строили в аккуратную колонну (мои зондеры расхаживали среди них, мурлыча: «Bienvenu, les enfants»[12], «Etes‑vous fatigué, Monsieur, après votre voyage?»[13]), я предавался ироническим воспоминаниям о Вальтере Пабсте. Мы с ним сражались в рядах Добровольческого корпуса Россбаха. Ах, сколько пота мы пролили, когда пороли, похрапывая, красных пидоров Мюнхена и Мекленбурга, Рура и Верхней Силезии, прибалтийских областей Латвии и Литвы! И как часто в долгие годы тюремной отсидки (после того как мы свели счеты с предателем Кадовым, который погубил в 23‑м Шлагетера[14]) мы допоздна сидели в нашей камере, обсуждая при мерцающих свечах, между партиями бесконечной игры в 2‑карточный покер, тонкости философии!
Я взял рупор и произнес речь:
– Приветствую, я и все прочие. Ну‑с, я не собираюсь водить вас за нос. Вы приехали сюда, чтобы набраться сил, а затем вас распределят по фермам, где вы будете честно трудиться, получая за это честное довольствие. Мы не станем требовать слишком многого вот от этого юноши в матроске или от вас, господин в прекрасной каракулевой шубе. От каждого и каждой по таланту и способностям. Согласны? Очень хорошо! 1‑м делом мы доставим вас в сауну, где вы примете – прежде чем разойтись по своим комнатам – теплый душ. Это потребует короткой прогулки по березовой роще. Чемоданы прошу оставить здесь. Их привезут в вашу гостиницу. Чай и бутерброды с сыром будут поданы сразу, несколько позже вы получите горячее тушеное мясо. Вперед!
В виде дополнительной любезности я отдал рупор капитану Эльцу, и тот повторил по‑французски суть всего мной сказанного. После чего мы, вполне естественно, тронулись в путь, – все, кроме вздорной старухи, разумеется, оставшейся на перроне дожидаться, когда старший надзиратель Грезе поступит с ней надлежащим образом.
А я думал: ну почему так получается не всегда? И ведь получалось бы, будь на то моя воля. Поездка с удобствами, затем достойный дружеский прием. Так ли уж нам нужны громыхающие двери товарных вагонов, слепящие дуговые прожектора, жуткие вопли («Наружу! Выходи! Быстро! Быстрее! БЫСТРЕЕ!»), собаки, дубинки, плети? И каким цивилизованным выглядит в сгущающихся сумерках КЦЛ, как роскошно поблескивают стволы берез! Присутствовал, следует сказать и об этом, некий специфический смрад (и кое‑кто из наших новоприбывших принюхивался к нему, вздергивая головы вверх), однако после ветреного дня с высоким давлением даже смрад не казался чем‑то из ряда вон…
Тут‑то он и появился – гнусный, анафемский грузовик величиной с мебельный фургон, но обличия решительно некультурного и даже хамского: рессоры его покрякивали, обросшая ржавчиной выхлопная труба вульгарно постреливала, хлопал зеленый брезент, водитель, которого мы видели в профиль, сидел за рулем, держа в зубах чинарик и свесив татуированную руку из окна кабины. Грузовик затормозил так резко, что его занесло, а затем стал перебираться через железнодорожные пути; его качало, покрышки, сцепляясь с рельсами, подвывали. Вот он тошнотворно накренился влево, ветер подбросил ближнее к нам бортовое полотнище вверх, и пожалуйста – на 2 или 3 неумолимые секунды мы увидели его груз.
Для меня это зрелище не менее привычно, чем весенний дождь или осенняя листва, – всего‑навсего натуральные дневные отходы КЦЛ 1, перевозимые в КЦЛ 2. Но разумеется, наши парижане визгливо завопили в голос. Зюльц рефлекторно поднял руки, словно пытаясь парировать их вопль, и даже капитан Эльц резко повернул лицо в мою сторону. Мы были на волосок от полной дезорганизации нашего транспорта…
Ну‑с, подвизаясь в сфере предупредительного заключения, без умения соображать на ходу и демонстрировать кое‑какое присутствие духа далеко не уйдешь. Многие из комендантов, смею сказать, позволили бы подобной ситуации выродиться во что‑нибудь решительно неприятное. Однако Пауль Долль – человек другой закваски. Я отдал приказ всего лишь 1 движением руки. И отдал не моим солдатам, нет, – моим музыкантам!
Должен признать, от краткого вступления скрипок особого толку не было, 1‑е звуки лишь повторили и усилили беспомощный, вибрирующий крик. Но затем в дело пошла мелодия, поганый грузовик с его хлопающим брезентом, кренясь, миновал переезд, взвыл, покатил по изгибающейся серпом дороге (и вскоре скрылся из глаз), а мы зашагали дальше.
Все произошло в соответствии с моими инстинктивными предчувствиями: наши гости оказались совершенно неспособны постичь увиденное ими. Несколько позже выяснилось, что до сей поры они проживали в 2 роскошных заведениях – доме престарелых и сиротском приюте (построенных на деньги самых вопиющих мошенников из всей их шатии, Ротшильдов). Наши парижане – что они знали о гетто, погромах, облавах? Что они знали о благородном народном гневе?
Все мы шли едва ли не на цыпочках – едва ли не на цыпочках шли березовой рощей, мимо серовато‑седых стволов…
Отстающая березовая кора, Коричневый домик с его штакетником, с цветущей в горшках геранью и ноготками, раздевалка, камера. Как только Прюфер подал сигнал и двери закрылись, а дверные винты были затянуты, я эффектно развернулся на каблуках.
Вот так‑то лучше. 2‑я порция аспирина (650 мг; 22.43) делает свое дело, успокоительное, очистительное. Это и вправду вошедшее в поговорку «чудо‑лекарство» – и я слышал, что ни одно патентованное средство не обходится дешевле. Да благословит Господь «ИГ Фарбен»![15] (Напоминание: заказать на воскресенье, 6‑го, какого‑нибудь хорошего шампанского, дабы ублажить фрау Беркль и Зидиг – и фрау Уль и Зюльц, не говоря уж о бедной малышке Алисе Зайссер. Пришлось нам пригласить и Ангелюса Томсена, не стоит забывать, кто он есть.) Я обнаружил также, что коньяк «Мартель», употребляемый в изрядных, но не безрассудных количествах, имеет целительное воздействие. Более того, крепкое спиртное успокаивает мои безумно зудящие десны.
Я, конечно, понимаю шутки не хуже других, однако ясно, что мне придется сказать Вальтеру Пабсту несколько очень серьезных слов. С финансовой точки зрения СОН 105 был своего рода бедствием. Как я оправдаю мобилизацию всего отряда штурмовиков (да еще и огнеметчиков)? Как обосную дорогостоящее использование Коричневого домика, ведь обычно при поступлении столь малой партии мы прибегаем к методе, которую старший надзиратель Грезе применила к старухе с тростью из черного дерева? Старина Валли, несомненно, заявит: «Око за око», он все еще помнит ту мою шутку с мясным пирогом и ночным горшком, которую я сыграл с ним в эрфуртских казармах.
Конечно, считать, как мы, каждый грош – это мука мученическая. Возьмите те же поезда. Если б не деньги, все эвакуанты приезжали бы сюда, будь моя воля, в спальных вагонах. Это избавило бы нас от разного рода ухищрений – или, если угодно, от наших ruse de guerre[16] (потому как это и есть война, тут и говорить не о чем). Очаровательно, разумеется, что наши французские друзья увидели нечто такое, что они оказались совершенно неспособными постичь: это напоминание о поразительном радикализме КЦЛ – и дань восхищения оным. Жаль, однако ж, что мы не можем «ополоуметь» и начать сорить деньгами так, точно они «на деревьях растут».
(NB. Бензин мы не расходовали, и это следует считать экономией, пусть и малой. Обычно те, кто селектирован «направо», отправляются в КЦЛ 1 на своих двоих, а отселектированных «налево» везут в КЦЛ 2 на машинах Красного Креста и «скорой помощи». Но как бы я заманил этих парижан в машину после увиденного ими проклятого грузовика? Да, согласен, экономия очень малая, однако у нас всякая мелочь в счет идет. Разве нет?)
– Войдите! – крикнул я.
Это была Библейская Пчелка. В руках поднос с витым орнаментом, на нем бокал бургундского и, представьте себе, бутерброд с ветчиной.
Я сказал:
– Но мне хотелось чего‑то горячего.
– Простите, господин, сейчас ничего другого нет.
– Я, знаете ли, работаю как вол…
Гумилия начинает суетливо расчищать место на низком столике у камина. Должен признаться, для меня загадка – как может женщина столь неказистая любить своего Творца. Опять‑таки, нечего и говорить, что лучшая спутница бутерброда с ветчиной – это высокая кружка пенистого пива. А нас, всех до единого, топят в этой французской жиже, когда нам требуется лишь добрый кувшин «Кроненбурга» или «Гролша».
– Бутерброд вы приготовили или фрау Долль?
– Фрау Долль час назад легла, господин.
– Спит, значит. Еще бутылку «Мартеля». И это все.
А вдобавок ко всему прочему я предвижу бесконечные сложности и траты, связанные с предполагаемым строительством КЦЛ 3. Где материалы? Выделит ли Доблер необходимые фонды? Затруднения мои никого не интересуют и объективные условия тоже. Расписание транспортов, которые меня просят принять в следующем месяце, необъяснимо. И, как будто у меня и без того дел не выше крыши, кто позвонил мне в полночь из Берлина, как не Хорст Блобель? Пока он туманно излагал свои инструкции, меня бросало то в жар, то в холод. Хорошо ли я расслышал его? Я же не смогу выполнить такой приказ, пока здесь, в КЦЛ, находится Ханна. Это будет полный кошмар.
– Хорошая девочка, – сказал я Сибил. – Зубы почистила.
– Как ты узнаешь? По запаху?
Мне нравится ее милое смущение и недоумение!
– Папочка все знает, Сибил. Ты еще и причесаться пыталась. Я не сержусь! Приятно, когда кто‑то старается следить за своей внешностью. А не слоняется весь день по дому в грязном халате.
– Я могу идти, папочка?
– Так ты сегодня розовые трусики надела?
– Вот и нет. Голубые!
Тонкая тактика – время от времени следует ошибаться.
– Докажи, – сказал я. – Ага! Ошибся.
Ну‑с, существует распространенное заблуждение, каковое я намерен выбить из ваших голов без дальнейших проволочек: дескать, Schutzstaffel, Преторианская гвардия Рейха, состоит сплошь из одних пролетариев и Kleinburgertum[17]. Конечно, в ранние годы это могло быть справедливым в отношении СА, но никогда – в отношении СС. Перечень ее членов читается как выписка из «Готского альманаха». О, яволь[18]: эрцгерцог Мекленбургский; князь Вальдек, фон Хассен, фон Гогенцоллерн‑Эмден; графы Бассевиц‑Бер, Стахвиц и фон Родден. Да что говорить, здесь, в «Зоне интересов», у нас недолгое время имелся даже свой собственный барон!
Люди голубой крови, но и интеллигенты, профессора, юристы, предприниматели.
Я просто хотел выбить эту дурь из ваших голов и больше к ней не возвращаться.
– Подъем в 3, – сказал Свитберт Зидиг, – а до «Буны» 90 минут ходу. Они выдохнутся еще до начала работы. Заканчивают они в 6, назад возвращаются в 8. Неся на себе пострадавших. Ну и скажите, майор, как мы сможем добиться от них высокой производительности труда?
– Да, да, – сказал я. В моем большом, хорошо обставленном кабинете Главного административного здания (ГАЗ) присутствовали также Фритурик Беркль и Ангелюс Томсен. – Но, позвольте осведомиться, кто за это будет платить?
– «Фарбен», – ответил Беркль. – Совет директоров согласен.
Тут я отчасти воспрянул духом.
Зидиг сказал:
– Вы, мой Комендант, просили предоставить вам лишь заключенных и охранников. Вопросы общей безопасности остаются, разумеется, в вашем ведении. «Фабер» оплатит строительство и эксплуатационные расходы.
– Ну и ну, – сказал я. – Всемирно известный концерн содержит собственный концентрационный лагерь. Неслыханно!
Беркль заявил:
– Мы также обеспечим питание – независимо от вас. Перемещения заключенных в КЦЛ 1 и обратно не будет. А значит, не будет и тифа. Мы на это очень рассчитываем.
– А, тиф. Это наш камень преткновения, нет?
Впрочем, основательная селекция, проведенная 29 августа, облегчила, сколько я понимаю, наше положение.
– Они все еще умирают, – сообщил Зидиг, – около 1000 в неделю.
– Мм. Послушайте‑ка. Вы планируете увеличение рациона?
Зидиг и Беркль быстро переглянулись. Я понял, что по этому поводу согласия у них нет. Беркль, поерзав в кресле, сказал:
– Да, я сторонник умеренного увеличения. Скажем, на 20 процентов.
– На 20 процентов!
– Да, мой господин, на 20 процентов. Это прибавит им сил и позволит протянуть немного дольше. Очевидно же.
Теперь рот открыл Томсен:
– При всем моем уважении, господин Беркль, ваша сфера – коммерция, а доктора Зидига – химическая технология. Комендант и я не можем позволить себе ограничиваться вопросами чисто практическими. Мы обязаны не упускать из виду нашу дополнительную цель. Политическую.
– Я тоже так думаю, – сказал я. – И кстати. На этот счет мы, Рейхсфюрер СС и я, держимся 1 мнения. – Я ударил ладонью по столу: – Нечего их закармливать!
– Аминь, мой Комендант, – сказал Томсен. – У нас здесь не санаторий.
– И цацкаться с ними нечего! Они думают – здесь что? Дом отдыха?
И что же я нахожу в умывалке Офицерского клуба? Разумеется, номер «Штурмовика»[19]. Надо сказать, что некоторое время это издание было в КЦЛ запрещено – по моему приказу. Я считаю, что «Штурмовик» с его отвратительным, истерическим выпячиванием плотской алчности еврейского самца причинил серьезному антисемитизму немало вреда. Людям следует предъявлять таблицы, графики, статистические данные и научные доказательства, а не занимающую целую страницу карикатуру, на которой Шейлок (к примеру) пускает слюни при виде Рапунцель. И этого мнения держусь не я 1. Такую политику отстаивает само Reichssicherheitshauptamt[20].
В Дахау, где начался мой стремительный взлет в иерархии лагерной системы, застекленный стенд с номером «Штурмовика» стоял в столовой заключенных. На уголовный элемент он действовал гальванизирующе, что часто приводило к вспышкам насилия. Наши еврейские братья уворачивались от неприятностей типичным для них способом – давали взятки, денег‑то у них куры не клюют. Да кроме того, допекали их все больше свои же единоверцы, в особенности Эшен, старшина еврейского блока.
Разумеется, евреи сознавали, что в конечном счете этот грязный листок скорее способствует их делу, чем препятствует ему. В качестве дополнительной информации: хорошо известно, что издатель «Штурмовика» и сам еврей, а именно он пишет наихудшие из тамошних подстрекательских статей. И больше мне сказать нечего.
Ханна, представьте себе, курит. О да. Какая мерзость. Я нашел пустую пачку «Давыдофф» в ящике комода, где она держит свое белье. Если прислуга будет болтать, вскоре все узнают, что я не способен вымуштровать собственную жену. Странный, кстати сказать, фрукт этот Ангелюс Томсен. Он достаточно тверд, однако в его повадках есть что‑то наглое, смущающее меня. Я гадаю, уж не гомосексуалист ли он (пусть и основательно загнанный внутрь)? Имеется ли у него хотя бы почетное звание или все держится на связях? Это было бы курьезно, поскольку нет у нас человека, которого ненавидели бы столь многие и настолько заслуженно, как ненавидят «коричневого кардинала». (Напоминание: грузовику надлежит отныне следовать объездным путем, к северу от Летних домиков.) Коньяк успокаивает и снимает зуд в деснах, однако он может похвастаться и 3‑м свойством: способностью усиливать половое чувство.
Ладно, нет у Ханны таких недостатков и немочей, от которых ее не смогли бы избавить добрые старые 15 сантиметров. И когда я, приняв последний стаканчик «Мартеля» – или 2, – направлю стопы в спальню, ей придется с должной быстротой исполнить супружеский долг. А если она дурить надумает, я просто напомню ей волшебное имя: Дитер Крюгер!
Ибо я – нормальный мужчина с нормальными потребностями.
…Я уже направился было к двери, когда меня поразила неприятная мысль. Та к получилось, что балансовый отчет по Составу особого назначения 105 я не просмотрел. И Коричневый домик покинул сегодня вечером, не сказав Вольфраму Прюферу, чтобы он зарыл останки на Весеннем лугу. А вдруг ему хватило ума использовать для избавления от горстки щенков и старикашек 3‑камерное изделие «Топфа и сыновей»?[21] Нет, конечно. Нет. Нет. Верх должны были взять люди поумнее. И Прюфер наверняка прислушался бы к 1‑му же из бывалых людей. Например, к Шмулю.
Господи, нашел, право, о чем волноваться. Если Хорст Блобель говорил серьезно, вся эта чертова орава так или иначе обратится в дым.
Я понимаю, что должен как следует все обдумать. Лягу спать в гардеробной, как обычно, а Ханной займусь поутру. Нет ничего лучше, как подбираться к ним, когда они еще тепленькие, сонные, прижиматься и облегчаться в них. И никаких уверток я не потерплю. А после мы в превосходном расположении духа станем готовиться к приему гостей – здесь, на нашей вилле.
Ибо я нормальный мужчина с нормальными потребностями. Совершенно нормальный. Хотя, похоже, никто этого не понимает.
Пауль Долль совершенно нормален.
3. Шмуль: Зондер
Ihr seit achzen johr, – шепчем мы, – und ihr hott a fach.
Когда‑то давным‑давно жил на свете король, который велел своему любимому чародею изготовить волшебное зеркало. Это зеркало не показывало человеку его отражение. Оно показывало душу – показывало, кто он на самом деле.
Чародей не мог взглянуть в него и не отвернуться. И король не мог. И придворные. Целый сундук, наполненный сокровищами, предлагался первому же из жителей той мирной страны, который сумел бы проглядеть в зеркало шестьдесят секунд не отвернувшись. Не сумел ни один.
Я нахожу, что концлагерь и есть такое зеркало. Такое же, но с одной разницей. От него не отвернешься.
Мы состоим в ЗК, зондеркоманде, специальном отряде, и мы – самые печальные в лагере люди. На самом деле – самые печальные в истории человечества. А я – самый печальный из этих печальных людей. И это очевидная и даже измеримая истина. Я один из самых первых членов команды и ношу самый маленький номер – самый старый.
Мы не только печальнейшие из когда‑либо живших на свете людей, мы и самые омерзительные. И все‑таки положение наше парадоксально.
Трудно понять, как можем мы быть такими омерзительными, какие мы бесспорно и есть, никому не причиняя вреда.
Если взвесить все обстоятельства, мы, быть может, даже творим немного добра. И тем не менее мы бесконечно мерзки и бесконечно печальны.
Почти вся наша работа совершается среди мертвецов, а орудия ее – большие ножницы, клещи и киянки, ведра с бросовым бензином, черпаки, дробилки.
Но ходим мы и среди живых. И говорим: «Viens donc, petit marin. Accroches ton costume. Rappelles‑toi le numéro. Tu as quatre‑vingt‑trois!»[22] И говорим: «Faites un noeud avec les lacets, Monsieur. Je vais essayer de trouver un cintre pour votre manteau. Astrakhan! C’est toison d’agneau, n’est‑ce pas?»[23]
После большой Акции мы получаем обычно бутыль водки или шнапса, пять сигарет и сто грамм колбасы, изготовленной из копченой грудинки, телятины и околопочечного свиного жира. Мы хоть и не всегда трезвы, но никогда не голодны и никогда не мерзнем, по крайней мере днем. Спим мы в комнате над не используемым больше крематорием (рядом со зданием Монополии), в той, куда сносят мешки с волосами.
Мой философический друг Адам, когда он еще был с нами, любил повторять: «Мы лишены даже комфорта неведенья». Я не соглашался с ним и теперь не согласен. Я все еще не признаю себя виновным.
«Герой», тот, конечно, совершил бы «побег» и обо всем «поведал миру». Но у меня такое ощущение, что мир и сам все знает – и довольно давно. Как он может не знать, при нашем‑то размахе?
Существуют три причины, или оправдания, которые позволяют нам жить и дальше. Во‑первых, мы можем свидетельствовать, а во‑вторых, отомстить – безжалостно. Свидетельствовать я готов, однако волшебное зеркало не показывает во мне убийцу. Пока.
Третья причина, и самая важная, в том, что мы спасаем (или продлеваем) жизни – по одной на транспорт. Иногда ни одной, иногда две – в среднем одну. А 0,01 процента – это не 0,00. И спасенными всегда оказываются молодые мужчины.
Делать это следует, когда они сходят с поезда; после построения на селекцию становится уже поздно.
Ihr seit achzen johr alt, шепчем мы, und ihr hott a fach.
Sie sind achtzehn Jahre alt, und Sie haben einen Handel.
Vous avez dix‑huit ans, et vous avez un commerce[24].
Тебе восемнадцать лет, и у тебя есть дело.
Часть II
К делу
1. Томсен: Защитники
Борис Эльц собирался рассказать мне о Составе особого назначения 105, и я хотел услышать его историю, но сначала спросил:
– Как твои нынешние успехи? Напомни.
– Ну, есть та повариха из «Буны» и буфетчица в Катовице. Кроме того, я надеюсь добиться кое‑чего от Алисы Зайссер. Вдовы штабсфельдфебеля. Он погиб всего неделю назад, однако она, похоже, весьма не прочь. – И Борис добавил кой‑какие подробности. – Беда в том, что она через день‑другой возвращается в Гамбург. Я уже задавал тебе этот вопрос, Голо. Женщины мне нравятся самые разные, но почему меня тянет только к простушкам?
– Не знаю, брат. Черта не такая уж и непривлекательная. А теперь, прошу тебя. Сто пятый состав.
Он сцепил на затылке ладони.
– Смешные они, эти французы, верно? Тебе так не кажется, Голо? Никак не могу отделаться от мысли, что они стоят в мире на первом месте. По утонченности, по учтивости. Нация признанных трусов и лизоблюдов – но по‑прежнему предполагается, что они лучше всех прочих. Лучше нас, грубых германцев. Даже лучше англичан. И какая‑то часть тебя соглашается с этим. Даже сейчас, когда они полностью раздавлены и корчатся под нашей пятой, ты все равно ничего не можешь с этим поделать.
Борис покачал головой, искренне дивясь странностям человеческой натуры – и в целом, и ее «искривленного дерева»[25].
– Такие штуки въедаются в сознание очень глубоко, – сказал я. – Продолжай же, Борис, будь добр.
– Ну, я испытал облегчение – нет, счастье и гордость, – обнаружив перрон в наилучшем его виде. Выметенным и политым из шланга. Особо пьяных среди нас не наблюдалось: время было еще раннее. Красивый закат. Даже запах ослаб. Подошел пассажирский поезд – загляденье. Такой мог прийти из Канн или из Биаррица. Люди вышли сами, без посторонней помощи. Ни плетей, ни дубинок. Никаких вагонов для скота, залитых бог знает чем. Старый Пропойца произнес речь, я перевел, и мы тронулись в путь. Вот тут и появился этот сраный грузовик. И провалил все дело.
– А почему? Что он вез?
– Трупы. Дневной урожай трупов. Доставка из Шталага[26] на Весенний луг.
По его словам, около дюжины трупов наполовину свисало сзади, и в воображении Бориса нарисовалась картина: экипаж призраков блюет, привалившись к борту корабля.
– Руки‑ноги болтались. И это были не просто трупы стариков. Изможденные трупы. В дерьме, в грязи, в отрепьях, покрытые ранами, запекшейся кровью и нарывами. Сорокакилограммовые трупы забитых до смерти людей.
– Хм. Как некстати.
– Зрелище не из самых изысканных, – сказал Борис.
– Тогда‑то они и завыли? Мы слышали вой.
– Да, там было на что посмотреть.
– И было что… э‑э… истолковать. – Я имел в виду не только это представление, но и его изложение: история получалась основательной. – Над чем задуматься.
– Дрого Уль считает, что они ничего не поняли. А я думаю, им стало стыдно за нас – смертельно стыдно. За наше… cochonneries[27]. Грузовик, набитый трупами изможденных людей. Все это так бестактно и провинциально, тебе не кажется?
– Возможно. Хоть и спорно.
– Так второсортно. И решительно ничего нам не дает.
Обманчиво низкорослый и обманчиво худощавый, Борис был оберфюрером войск СС – хорошо вооруженных, сражающихся, боевых частей СС. Войска СС считались в меньшей степени скованными иерархическими соображениями – более донкихотскими и непринужденными, чем Вермахт; во всей их цепочке подчиненности допускались живые расхождения во мнениях, направленные и сверху вниз, и снизу вверх. Одно из расхождений Бориса с его начальством коснулось вопросов тактики (дело было под Воронежем) и привело к кулачной драке, в которой молодой генерал‑майор лишился зуба. По этой причине Борис и оказался здесь – «среди австрийцев», как он выражался (да еще и пониженным в звании до капитана). Ему оставалось прослужить в лагере девять месяцев.
– А что насчет селекции? – спросил я.
– Селекции не было. Все они годились только для газовой камеры.
– Я вот думаю. Чего же мы с ними не делаем? Полагаю, не насилуем.
– По большей части. Зато делаем кое‑что похуже. Тебе следует проникнуться определенным уважением к твоим новым коллегам, Голо. Много, много худшее. Мы отбираем самых хорошеньких и ставим на них медицинские опыты. На их детородных органах. Превращаем их в маленьких старушек. А после голод превращает их в маленьких старичков.
Я спросил:
– Ты согласен, что обходиться с ними хуже мы уже не можем?
– Ой, брось. Мы их все‑таки не едим.
На мгновение я задумался.
– Да, но против этого они не возражали бы. Лишь бы мы не ели их живьем.
– Верно, однако то, что мы делаем, заставляет их есть друг друга. А против этого они возражают… Кто же в Германии не думает, Голо, что с евреев следует сбить спесь? Но происходящее сейчас смехотворно, и только. И знаешь, что в этом самое плохое? Какой из этих кусков не лезет мне в горло?
– Полагаю, что знаю, Борис.
– Да. Сколько дивизий мы связываем по рукам и ногам? У нас же тысячи лагерей. Тысячи. Мы расходуем человеческий труд, гоняем поезда, перегружаем работой полицию, пережигаем топливо. И убиваем нашу же рабочую силу! А ведь идет война!
– Вот именно. Идет война.
– И какое все это имеет отношение к ней?.. О, ты посмотри на нее, Голо. Вон там, в углу, с короткими темными волосами. Это Эстер. Видел ты в своей жизни что‑нибудь хоть на одну десятую столь же милое?
Разговаривали мы в маленьком кабинете Бориса на первом этаже, из окон его открывался пространный вид на «Калифорнию»[28]. Эта самая Эстер принадлежала к Aufräumungskommando, команде расчистки, в которую входило двести‑триста женщин (состав ее то и дело менялся), работавших в заполненном навесами Дворе – размером с футбольное поле.
Борис встал, потянулся.
– Я ее спас. Она била камень в Мановице. Потом кузина тайком протащила ее сюда. Конечно, Эстер разоблачили, она же была обрита наголо. И определили на чистку сортиров. Но я за нее заступился. Не так уж это и трудно. Отдаешь одну, получаешь другую.
– И за это она тебя ненавидит.
– Ненавидит. – Он горестно покивал. – Мы таки снабдили ее кое‑какими поводами для ненависти ко мне.
Борис стал постукивать вечным пером по оконному стеклу и постукивал, пока Эстер не подняла на него взгляд. Она сильно округлила глаза и вернулась к своей работе (занятие у нее было странное – выдавливание зубной пасты из тюбиков в треснувший кувшин). Борис подошел к двери кабинета, открыл ее и поманил девушку к себе:
– Госпожа Кубис. Будьте любезны, идите сюда и возьмите почтовую открытку.
Пятнадцатилетняя, из сефардов, я полагаю (левантийский окрас), хорошо, крепко сложенная, атлетичная, она каким‑то образом ухитрялась приволакивать, входя в кабинет, ноги; грузность ее поступи казалась почти саркастической.
Борис сказал:
– Садитесь, пожалуйста. Мне нужен ваш чешский и ваш девичий почерк. – И, улыбнувшись, прибавил: – Эстер, почему я вам так противен?
Она подергала рукав своей робы.
– Мой мундир? – Он протянул ей остро заточенный карандаш: – Готовы? «Дорогая мама, запятая, это пишет за меня моя подруга Эстер… запятая, потому что я поранила руку, запятая». С твоего разрешения, я подиктую, Голо. «Когда собирала розы, точка». Как поживает Валькирия?
– Я увижу ее нынче вечером. Во всяком случае, надеюсь на это. Старый Пропойца дает обед для сотрудников «Фарбен».
– Знаешь, я слышал, она горазда на увертки. А если ее не будет, ты помрешь со скуки. «Как описать жизнь на сельскохозяйственной станции, знак вопроса». Хотя пока что вид у тебя довольный.
– О да. Я полон трепетных предвкушений. Я даже решился подъехать к ней, на словах, сообщил мой адрес. И теперь жалею об этом, потому что все время думаю: а вдруг она сейчас постучит в мою дверь? Не скажу, чтобы она так уж ухватилась за эту идею, однако меня выслушала.
– «Работа требует много сил, запятая». Тебе нельзя приводить ее к себе, особенно при той пронырливой суке, что живет на первом этаже. «Но мне так нравится жить за городом, запятая, на свежем воздухе, точка».
– Ну, что получится, то и получится. Она великолепна.
– Да, великолепна, но уж больно ее много. «Условия здесь и вправду очень достойные, запятая». Мне нравятся те, что поменьше. Они сильнее стараются. «Спальни у нас простые, запятая, но удобные, открыть скобку». К тому же их можно гонять по всей квартире. «А в октябре нам выдадут…» Знаешь, ты сумасшедший.
– С чего это вдруг?
– С него. «А в октябре нам выдадут великолепные пуховые одеяла, запятая, чтобы укрываться холодными ночами, закрыть скобку, точка с запятой». С него. Со Старого Пропойцы.
– Он ничтожество. – И я прибегаю к выражению на идиш, произнося его достаточно точно для того, чтобы карандаш госпожи Кубис на миг замер в воздухе. – Он grubbe tuchus. Толстожопик. Слабак.
– «Еда здесь, запятая, правда, запятая, простая, запятая, но полезная, запятая, и ее много, точка с запятой». Старый толстожопик злобен, Голо. «И все содержится в безупречной чистоте, точка». И коварен. Коварством слабака. «Огромные», подчеркните это, пожалуйста, «огромные купальни фермы, запятая… по которым расставлены очень большие ванны, точка. Чистота, запятая, чистота, тире, ты ведь знаешь немцев, восклицательный знак». – Борис вздохнул и попросил с нетерпеливостью подростка и даже ребенка: – Госпожа Кубис. Прошу вас, время от времени поднимайте на меня взгляд, чтобы я мог, по крайней мере, видеть ваше лицо!
Куря сигариллы и попивая из конических бокалов кир[29], мы озирали «Калифорнию», которая походила одновременно на огромную арену, опорожняемый универсальный магазин длиной в целый квартал, благотворительный базар с распродажей всякого старья, аукционный зал, торговую ярмарку, рынок, агору, сук – камеру забытых вещей всепланетного вокзала.
Утрамбованная груда рюкзаков, ранцев, вещевых мешков, чемоданов и сундуков (последние пестрели манящими путевыми наклейками, от которых веяло пограничными заставами, мглистыми городами) походила на огромный костер, ожидавший, когда к нему поднесут факел. Стопка одеял высотой с трехэтажный дом: никакая принцесса, как бы нежна она ни была, не смогла бы почувствовать горошину под их двадцатью, если не тридцатью тысячами. И повсюду вокруг широкие отвалы кастрюль и сковородок, щеток для волос, рубашек, пиджаков, платьев, носовых платков – это не считая часов, очков, всякого рода протезов, париков, искусственных зубов, слуховых аппаратов, ортопедических ботинок, корсетов. За ними взгляд утыкался в курган из детской обуви, в раскидистую гору колясок – одни были просто деревянными корытцами на колесах, другие затейливо изогнутыми экипажами для маленьких герцогов и герцогинь. Я спросил:
– Чем она тут занимается, твоя Эстер? Какое‑то негерманское у нее дело, нет? Кому нужен кувшин с зубной пастой?
– Она ищет драгоценные камни… Знаешь, как она завоевала мое сердце, Голо? Ее заставили танцевать для меня. Она походила на струйку воды, я чуть не заплакал. Был мой день рождения, и она танцевала передо мной.
– Ах да. С днем рождения, Борис.
– Спасибо. Лучше поздно, чем никогда.
– И как себя чувствует тридцатидвухлетний мужчина?
– Нормально, я полагаю. Пока что. Скоро выяснишь сам. – Он провел языком по губам. – Ты знаешь, что они сами оплачивают проезд? Оплачивают билеты сюда, Голо. Не знаю, как было с теми парижанами, но таково правило… – Он наклонился, чтобы смахнуть вызванную едким дымом слезу. – Правило требует оплаты проезда третьим классом. В один конец. С детей не старше двенадцати берут половину. В один конец – Борис выпрямился. – Неплохо, не правда ли?
– Можно сказать и так.
– Надменных евреев следовало спустить на землю. Что и было проделано в тридцать четвертом. Но это – это охеренная нелепость.
* * *
Да, там были Свитберт и Ромгильда Зидиг, там были Фритурик и Амаласанда Беркль, были Ули – Дрого и Норберта, еще были Болдемар и Трудель Зюльц… Я… я, разумеется, пришел без пары, однако меня таковой снабдили – молодой вдовой Алисой Зайссер (штурмшарфюрер Орбарт Зайссер совсем недавно покинул наш мир с превеликим неистовством и бесчестьем – здесь, в Кат‑Зет).
Да, еще там были Пауль и Ханна Долль.
Дверь мне открыл майор. Отступив на шаг, он сказал:
– Смотрите‑ка, да он при полном параде! И у него имеется офицерское звание, ни больше ни меньше…
– Номинальное, мой господин. – Я вытирал ноги о коврик. – Да и звание‑то ниже некуда, не так ли?
– Звание не есть бесспорная мера значимости, оберштурмфюрер. Главное – объем компетенции. Возьмите хоть Фрица Мебиуса. Звание у него еще и ниже вашего, а положение блестящее. Все дело в объеме компетенции. Ну, проходите, молодой человек. А на это внимания не обращайте. Несчастный случай в саду. Я получил сильный удар по переносице.
От которого глазницы Пауля Долля в миг почернели.
– Пустяки. Я знаю, что такое настоящие раны. Видели бы вы, во что я обратился в восемнадцатом на Иракском фронте. Меня там по кускам собирали. И об этих тоже не беспокойтесь.
Он подразумевал своих дочерей. Полетт и Сибил сидели вверху лестницы в ночных рубашках, держались за руки и неутомимо плакали. Долль сказал:
– Господи боже. Вечно они нюнят из‑за сущей безделицы. Ну‑с, а где же моя госпожа супруга?
Я решил не смотреть на нее. И потому Ханна – огромная, покрытая свежим загаром богиня в вечернем платье из янтарного шелка – была почти сразу отправлена в пустые просторы моего периферийного зрения… Я знал, что меня ожидает долгий, насыщенный лицемерием вечер, и все же надеялся достичь скромного, но успеха. План у меня был такой: завести разговор на определенную тему, привлечь к ней всеобщее внимание и, быть может, воспользоваться ее притягательностью. Притягательностью, увы, достойной сожаления, но почти неизменно приносящей плоды.
Высокий худощавый Зидиг и дородный низенький Беркль явились на вечер в деловых костюмах, прочие мужчины – в парадной форме. Долль, надевший свои регалии (Железный крест, «Шеврон старого бойца», перстень «Мертвая голова»), стоял спиной к дровяному камину, до нелепости широко расставив ноги, покачиваясь на каблуках и, да, время от времени поднимая руку к глазам и оставляя ее подрагивать у жутких припухлостей под бровями. Алиса Зайссер была в трауре, а Норберта Уль, Ромгильда Зидиг, Амаласанда Беркль и Трудель Зюльц блистали бархатом и тафтой, точно игральные карты – дамы бубен, дамы треф. Долль сказал:
– Угощайтесь, Томсен. Давайте, давайте.
На буфете в изобилии располагались тарелки с бутербродиками (копченая семга, салями, селедка), рядом полный бар плюс четыре‑пять наполовину опустошенных бутылок шампанского. Я направился к буфету вместе с Улями – Дрого, средних лет капитаном с телосложением портового рабочего и сизым от щетины раздвоенным подбородком, и Норбертой, завитым суетливым существом в серьгах размером с кегли и в золотой диадеме. Словами мы обменялись немногими, но все же я совершил два умеренно удивительных открытия: Норберта и Дрого терпеть друг дружку не могут, и оба уже пьяны.
Я подошел к Фритурику Берклю, и мы минут двадцать проговорили о делах; затем из двойных дверей вышла Гумилия и, сделав робкий книксен, известила нас, что кушать подано.
Ханна спросила у нее:
– Как девочки? Получше?
– Все еще очень плохо, мадам. Никак не могу их успокоить. Они безутешны.
Гумилия отступила в сторону, Ханна быстро прошла мимо нее, Комендант, досадливо улыбаясь, проводил супругу взглядом.
– Ну‑с, вы вот здесь. А вы там.
Борис сумрачно предупредил меня, что женщин усадят en bloc[30], а то и вовсе на кухне (возможно, вместе с отправленными туда пораньше детьми). Но нет – обедали мы на стандартный двуполый манер. За круглым столом нас сидело двенадцать человек, и если считать, что я оказался на шестичасовой отметке, то Долль занял одиннадцати‑, а Ханна двухчасовую (технически мы с ней могли бы переплести наши ноги, но, предприми я такую попытку, контакт с креслом сохранил бы лишь мой затылок). По одну руку от меня восседала Норберта Уль, по другую – Алиса Зайссер. Повязавшие головы белыми платочками служанка Бронислава и еще одна, добавочная, Альбинка, длинными святочными спичками зажгли свечи. Я сказал:
– Добрый вечер, дамы. Добрый вечер, госпожа Уль. Добрый вечер, госпожа Зайссер.
– Спасибо, мой господин. Конечно, мой господин, – ответила Алиса.
За супом в этих краях было принято беседовать с женщинами; потом, когда заводился общий разговор, предполагалось, что они будут все больше помалкивать (обратившись в своего рода набивочный материал, в амортизаторы). Норберта Уль, низко склонив над скатертью красноватое, разочарованное лицо, хрипло посмеивалась каким‑то своим мыслям. И я, не взглянув в сторону двух часов, повернулся от семи к пяти и завел беседу с вдовой:
– Я очень огорчился, госпожа Зайссер, узнав о вашей утрате.
– Да, мой господин, благодарю вас, мой господин.
Лет ей было уже под тридцать; интересная бледность, множество родинок (когда она села и подняла узловатую черную вуаль, у меня возникло ощущение цельности ее натуры). Борис был многоречивым поклонником округлого, малорослого тела Алисы (чьи движения казались этим вечером плавными и живыми, даром что передвигалась она погребальной какой‑то поступью). Она поведала мне, в низменных подробностях, о последних часах штабсфельдфебеля.
– Такая глупая смерть, – закончила свой рассказ Алиса.
– Что же, сейчас время великих жертв и…
– Это верно, мой господин. Благодарю вас, мой господин.
Алису Зайссер пригласили сюда не как друга или коллегу, но как почтенную вдову скромного штурмшарфюрера, и она конфузилась, явственно и мучительно. Мне захотелось как‑то успокоить ее. И некоторое время я пытался отыскать нечто положительное, какую‑то искупительную черту – да, серебристый подбой черной грозовой тучи, какой выглядела кончина Орбарта. Я решил начать со слов о том, что, по крайности, штурмшарфюрер находился во время случившегося с ним несчастья под воздействием сильного обезболивающего – большой, пусть и принятой единственно для подкрепления сил, дозы морфия.
– Он не очень хорошо себя чувствовал в тот день, – сказала Алиса, показав свои кошачьи зубки (белые и тонкие, как бумага). – Вернее, совсем не хорошо.
– Мм. Его работа требовала немалой траты сил.
– Он сказал мне: знаешь, старушка, я не в лучшей форме. Совсем раскис.
Прежде чем отправиться в Кранкенбау[31] за лекарством, штурмшарфюрер Зайссер зашел в «Калифорнию», дабы уворовать там необходимые для его оплаты деньги. А покончив с тем и с другим, вернулся к своему посту на южном краю женского лагеря. Когда он подходил к картофельному складу (в надежде, быть может, передохнуть в тишине и покое), две заключенные покинули строй и побежали к ограде лагеря (форма самоубийства, на удивление редкая), и Зайссер, наведя на них автомат, отважно открыл огонь.
– Печальное стечение обстоятельств, – заметил я.
Поскольку отдача оружия застала Орбарта врасплох (как, несомненно, и сила принятого им наркотика), он, пошатываясь, отступил на пару шагов и, все еще поливая заключенных пулями, повалился на ограду, находившуюся под высоким напряжением.
– Трагедия, – сказала Алиса.
– Остается лишь надеяться, госпожа Зайссер, что с ходом времени…
– Да. Время лечит любые раны, мой господин. Во всяком случае, так говорят.
Наконец чаши с супом убрали и принесли главное блюдо – густую, бордовую тушеную говядину.
Ханна вернулась за стол, как раз когда Долль добрался до середины анекдота, связанного с состоявшимся семью неделями раньше (в середине июля) посещением лагеря Рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером.
– Я отвез нашего высокопоставленного гостя на кроличью селекционную станцию в Дворах. Настоятельно советую вам заглянуть туда, фрау Зидиг. Роскошные ангорские кролики, белые и пушистые до того, что дальше и некуда. Мы их, знаете ли, сотнями разводим. Ради их меха, не так ли? Который согревает наши летные экипажи во время выполнения заданий! Там был один особенный экземпляр по кличке Снежок, – физиономия Долля начала расплываться в плотоядной ухмылке, – красавец совершеннейший. А доктор из заключенных – впрочем, что это я? – ветеринар из заключенных обучил его всяким кунштюкам. – Долль нахмурился (и поморщился, и болезненно улыбнулся). – Вернее, кунштюк был всего один. Но какой! Снежок садился на задние лапки, а передние выставлял, знаете, вот так и просил подаяние, – его научили просить подаяние!
– Полагаю, наш высокопоставленный гость был должным образом очарован? – осведомился Зюльц. (Почетный полковник СС Зюльц обладал, что вообще не редкость у медиков определенного склада, словно бы неподвластной времени физиономией.) – Его это развеселило?
– О, Рейхсфюрер пришел в совершенный восторг. Разулыбался от уха до уха – и захлопал в ладоши! И свита его, знаете ли, тоже захлопала. А все благодаря Снежку. Тот, судя по всему, испугался, но попрошайничать не перестал!
Разумеется, в присутствии дам мы, как истинные джентльмены, старались не упоминать о военных усилиях (и о здешней их составляющей – строительстве «Буна‑Верке»). За все это время я ни разу не встретился с Ханной глазами, однако взгляды, которыми я обводил сидящих за столом, время от времени проскальзывали по ее освещенному свечами лицу (а ее взгляды – по моему)… Обсудив искусство правильного ведения сельского хозяйства, мы перешли к иным темам – целительным травам, скрещиванию овощных культур, менделизму, спорному учению советского агронома Трофима Лысенко.
– Жаль, что лишь немногие знают, – сказал профессор Зюльц, – о выдающихся достижениях Рейхсфюрера в области этнологии. Я говорю о его работе в Аненербе.
– Безусловно, – согласился Долль. – Он собрал там целые команды антропологов и археологов.
– Рунологов, геральдистов и кого угодно.
– Экспедиции в Месопотамию, Анды, Тибет.
– Компетентность, – сказал Зюльц. – Высокая мыслительная способность. Они‑то и сделали нас хозяевами Европы. Прикладная логика – вся соль в ней. Никакой мистики тут нет. Знаете, я все гадаю, существовали когда‑нибудь руководители государства, да, собственно, и все, кто состоит в управленческой цепочке, столь же интеллектуально развитые, как наши?
– Коэффициент интеллекта, – согласился Долль. – Умственные способности. Здесь тоже нет никакой мистики.
– Вчера утром я наводил порядок на моем столе, – продолжал Зюльц, – и наткнулся на два соединенных скрепкой меморандума. Вот послушайте. Из двадцати пяти командиров айнзацгрупп[32], которые работают в Польше и России, – а работа у них тяжелая, уверяю вас, – пятнадцать обладают докторской степенью. А теперь возьмите январскую конференцию государственных попечителей. Пятнадцать присутствующих, так? Восемь докторов.
– Что это была за конференция? – спросил Свитберт Зидиг.
– Она состоялась в Берлине, – ответил капитан Уль. – В Ванзее. Цель – утверждение…
– Утверждение окончательного плана эвакуации, – сказал Долль, задирая подбородок и складывая губы трубочкой, – освобожденных восточных территорий.
– «За Бугом», – сказал Дрого Уль и коротко всхрапнул.
– Восемь докторов, – повторил профессор Зюльц. – Ну хорошо, конференцию созвал и председательствовал на ней Гейдрих, мир праху его. Но помимо Гейдриха в ней участвовали должностные лица второго и даже третьего ранга. И тем не менее. Восемь докторов. Какая мощная команда. Вот так и вырабатываются оптимальные решения.
– Кто там присутствовал? – осведомился Долль, коротко взглянув на свои ногти. – Гейдрих. А кто еще? Ланг. Мюллер из Гестапо. Эйхман – знаменитый начальник вокзала. С его вечным пюпитром и свистком.
– О чем я и говорю, Пауль. Команда, обладающая интеллектуальной мощью. Первоклассные решения на всех уровнях власти.
– Дорогой мой Болдемар, в Ванзее никто ничего не «решал». Там всего лишь механически утвердили решение, принятое несколькими месяцами раньше. И принятое на самом высоком уровне.
Настало время подкинуть им мою тему, приковать к ней внимание. При сложившейся у нас политической системе каждый быстро понимает, что там, где начинается секретность, там начинается и власть. Ну а власть развращает, и это отнюдь не метафора. Однако, по счастью (для меня), власть притягивает – и это тоже не метафора. Моя приближенность к власти давала мне массу сексуальных преимуществ. В военное время женщины с особой силой чувствуют ее гравитационное притяжение; они нуждаются во всех своих друзьях и поклонниках, во всех защитниках. И я сказал, немного насмешливо:
– Майор, могу я рассказать о паре моментов, не получивших широкой огласки?
Долль слегка подпрыгнул в кресле и сказал:
– О да, прошу вас.
– Спасибо. Эта конференция была своего рода экспериментом, пробным шаром. И председательствующий предвидел серьезные затруднения. Однако все свелось к успеху, настолько большому и неожиданному, что Гейдрих, Рейхспротектор Рейнхард Гейдрих, потребовал сигару и бокал бренди. В середине дня. Гейдрих, который обычно пил в одиночестве. Получив бренди, он уселся у камина. А маленький билетный компостер Эйхман свернулся в клубочек у его ног.
– Вы там были?
Я вяло пожал плечами. А также наклонился вперед и в виде опыта засунул ладонь между колен Алисы Зайссер; и колени ее сжались, а рука легла на мою, что позволило мне сделать еще одно открытие: в добавление к прочим ее горестям Алиса была до смерти перепугана. Все ее тело дрожало.
Долль сказал:
– Вы были там? Или это слишком низкий для вас уровень? – Он дожевал что‑то, проглотил. – Вы, несомненно, услышали все от вашего дяди Мартина.
Взгляд его черных глаз пробежался по сидящим за столом.
– От Бормана, – звучно сообщил он. – Рейхсляйтера… Я знавал вашего дядю Мартина, Томсен. В пору борьбы, когда мы были пылкими фанатиками.
Для меня это оказалось новостью, тем не менее я сказал:
– Да, мой господин. Он часто вспоминает вас и дружбу, которая доставляла вам обоим такую радость.
– Передайте ему мои наилучшие пожелания. И, э‑э, прошу вас, продолжайте.
– На чем я остановился? Ах да. Гейдриху хотелось закинуть удочку. Посмотреть…
– Это вы об озере Ванзее? Так оно же замерзло к чертовой матери.
– Свитберт, прошу вас, – сказал Долль. – Герр Томсен.
– Закинуть удочку, посмотреть, не воспротивится ли государственный аппарат тому, что может показаться затеей несколько амбициозной, – распространению нашей окончательной расовой стратегии на всю Европу.
– И?
– Как я уже сказал, все прошло неожиданно гладко. Не воспротивился никто. Ни один человек.
Зюльц спросил:
– Что же в этом неожиданного?
– А вы вспомните о масштабах, профессор. Испания, Англия, Португалия, Ирландия. И о цифрах. Десять миллионов. Возможно, двенадцать.
Сидевшая, развалившись, слева от меня Норберта Уль уронила вилку на тарелку и пролепетала:
– Они же всего‑навсего евреи.
Теперь стали слышны причмокивания и глотки двух штатских (Беркль методично выхлебывал из ложки соус, Зидиг прополаскивал рот «Нюи‑Сен‑Жорж»). Все остальные жевать перестали, и я почувствовал, что не только мое внимание приковано к Дрого Улю, который, приоткрыв рот, описал головой восьмерку. А описав, оскалил верхние зубы и сказал Зюльцу:
– Нет‑нет, не будем заводиться, верно? Будем снисходительны. Эта женщина ничего не понимает. Всего‑навсего евреи?
– «Всего‑навсего евреи», – печально согласился с ним Долль (он с мудрым видом складывал салфетку). – Замечание несколько загадочное, не так ли, профессор, если учесть, что в Рейхе их пришлось полностью обезвреживать?
– Вы правы, весьма загадочное.
– Мы никогда не считали это легким делом, мадам. И понимаем, полагаю я, что стоит на кону.
Зюльц сказал:
– Да. Видите ли, госпожа Уль, они особенно опасны тем, что давным‑давно поняли коренной биологический принцип. Расовая чистота равна расовому могуществу.
– Их вы на межрасовом скрещивании не поймаете, – добавил Долль. – О нет. Они уяснили его недопустимость задолго до нас.
– Что и делает их столь опасным врагом, – сказал Уль. – И жестоким. Мой Бог. Прошу прощения, дамы, вам этого лучше не слышать, однако…
– Они сдирают кожу с наших раненых.
– Бомбят наши госпиталя.
– Торпедируют наши спасательные шлюпки.
– Они…
Я посмотрел на Ханну. Сжав губы, она хмуро вглядывалась в свои лежащие на скатерти ладони – длинные пальцы ее медленно сцеплялись, сплетались и расплетались, как будто она промывала их под краном.
– И такое веками происходило по всей планете, – сказал Долль. – У нас имеются доказательства. Имеются их официальные документы!
– «Протоколы сионских мудрецов», – мрачно сообщил Уль.
Я сказал:
– Но право же, Комендант. Сколько я знаю, есть люди, у которых «Протоколы» вызывают сомнения.
– О да, есть, – ответил Долль. – Таких я отсылаю к «Моей Борьбе» с ее блестящим доводом. Слово в слово я это место не припомню, но суть такова. Э‑э… Лондонская «Таймс» снова и снова называет этот документ фальшивкой. И одно лишь это доказывает его подлинность… Потрясающе, нет? Абсолютно неопровержимо.
– Да. Каждому следует зарубить это себе на носу! – согласился Зюльц.
– Они кровопийцы, – сказала супруга Зюльца, Трудель. – Совсем как клопы.
Ханна спросила:
– Можно я скажу?
Долль уставился на нее глазами разбойника с большой дороги.
– Об основном их свойстве, – сказала она. – Отрицать его невозможно. Я говорю о таланте по части жульничества. И жадности. Их даже малый ребенок видит. – Ханна мерно вдыхала и выдыхала. – Они обещают вам златые горы, улыбаются, водят вас за нос. А потом отнимают все, что у вас есть.
Не причудилось ли мне? Вроде бы обычные для образцовой супруги офицера СС слова, но в свете свечей они почему‑то показались двусмысленными.
– Все это неоспоримо, Ханна, – сказал явно озадаченный Зюльц. Затем лицо его прояснилось. – Впрочем, теперь нам удалось попотчевать еврея его же зельем.
– Теперь перевес на нашей стороне, – согласился Уль.
– Теперь мы платим еврею его же монетой, – сказал Долль. – И ему уже не до смеха – у него слез не хватает. Нет, госпожа Уль. Мы никогда не считали это легким делом, мадам. И понимаем, полагаю я, что стоит на кону.
Когда по столу расставили салаты, сыр, фрукты, пирожные, кофе, портвейн и шнапс, Ханна отправилась наверх с третьим визитом.
– Они уже валятся, точно кегли, – говорил тем временем Долль. – Фронтовики едва ли не стыдятся принимать денежное довольствие, так легко они продвигаются. – Он поднял похожий на большую луковицу кулак и начал разгибать пальцы: – Севастополь. Воронеж. Харьков. Ростов.
– Да, – сказал Уль, – а то ли еще будет, когда мы прорвемся за Волгу. Сталинград мы разбомбили дотла. И взять его будет проще простого.
– Вы, друзья мои, – Долль обратился ко мне, Зидигу и Берклю, – можете спокойно собрать вещички и разъехаться по домам. Ладно, ваша резина нам все еще нужна. Но не ваше топливо. К чему оно, если мы получаем нефтяные промыслы Кавказа? Ну что? Отшлепала ты их наконец?
Вопрос был обращен к Ханне, которая, пригнувшись, чтобы не зацепить макушкой притолоку, выступила из сумрака за дверью в шаткий свет свечей. Усевшись, она сказала:
– Девочки спят.
– Хвала Господу и всем ангелам его! Они уже допекли меня этой чертовой чушью. – Долль снова повернулся к нам и сказал: – К концу года жидо‑большевизм будет разгромлен. И придет черед американцев.
– Их вооруженные силы безнадежны, – сообщил Уль. – Шестнадцать дивизий. Примерно как у Болгарии. А сколько бомбардировщиков B‑17? Девятнадцать. Анекдот, да и только.
– Во время маневров, – сказал Зюльц, – они гоняют грузовики с надписью «танк» на бортах.
– Америка никакой погоды не делает, – заявил Уль. – Это пустое место. От нее ничто не зависит.
Фритурик Беркль, по большей части молчавший, негромко произнес:
– Все это сильно отличается от опыта, приобретенного нами во время Великой войны. Прежде всего, наша экономика работает в полную силу…
Я сказал:
– О, кстати. Вам это известно, майор? В тот же январский день в Берлине состоялась еще одна конференция. Под председательством Фрица Тодта. Тема: вооружение. Реорганизация экономики. Подготовка к дальним перевозкам.
– Пораженческие настроения! – усмехнулся Долль. – Попытка подорвать нашу оборонную мощь.
– Ничего подобного, мой господин, – усмехнулся в ответ я. – Армия Германии. Армия Германии подобна природной стихии – она необорима. Однако ее необходимо оснащать и снабжать. И тут главная помеха – недостаток рабочей силы.
– Поскольку заводы пустеют, – сказал Беркль, – а на рабочих надевают солдатскую форму. – Он сложил на груди короткие толстые руки и перекрестил ноги. – Во всех кампаниях сорокового мы потеряли сто тысяч солдат. Сейчас теряем в Остланде по тридцать тысяч в месяц.
Я сказал:
– По шестьдесят. Тридцать – это официальная цифра. На деле шестьдесят. Следует быть реалистом. Основа национал‑социализма – прикладная логика. Как вы сказали, никакой мистики в нем нет. И потому, мой Комендант, нельзя ли мне внести спорное предложение?
– Хорошо. Мы слушаем.
– У нас имеется неиспользованный источник рабочей силы – двадцать миллионов человек. Здесь, в Рейхе.
– Где же?
– По обе стороны от вас, мой господин. Женщины. Работницы.
– Невозможно, – самодовольно заявил Долль. – Женщины и война? Это бросает вызов самым дорогим нашему сердцу убеждениям.
Зюльц, Уль и Зидиг что‑то забормотали, соглашаясь.
Я ответил:
– Знаю. Но все остальные используют их. Англосаксы. Русские.
– Тем больше у нас причин не делать этого, – заявил Долль. – Не собираетесь же вы обратить мою жену в какую‑нибудь роющую траншеи потную Ольгу.
– Они способны на большее, чем рытье траншей, майор. Батареи, зенитные батареи, которые удерживали танки Хубе к северу от Сталинграда и стояли там насмерть, были женскими. Студентки, девушки… – Я потискал напоследок бедро Алисы, поднял перед собой руки и, усмехнувшись, сказал: – Я чересчур опрометчив. И слишком болтлив. Прошу вас всех простить меня. Мой дорогой дядя Мартин – большой любитель поговорить по телефону, и под конец дня у меня эти разговоры уже из ушей лезут. Или изо рта. Но все же, как вы относитесь к этому, дамы?
– К чему? – спросил Долль.
– К военной службе.
Долль встал:
– Не отвечайте. Пора разлучить его с вами. Нельзя позволить, чтобы этот «интеллектуал» совращал наших женщин! Ну‑с. В моем доме мужчины после обеда уединяются. Не в гостиной, но в моем любимом кабинете. Там нас ожидают сигары, коньяк и серьезный разговор о войне. Господа – если вы не возражаете.
* * *
Снаружи в ночи ощущалось то, о чем я был наслышан, но чего покамест не испытал, – силезское умение устраивать зимы. А ведь было всего только третье сентября. Я стоял, застегивая шинель, на крыльце, под фонарем, словно заимствованным из каретного сарая.
В тесном кабинете Долля все, кроме меня и Беркля, громогласно рассуждали о чудесах, сотворенных японцами на Тихом океане (о победах в Малайе, Бирме, Британском Борнео, Гонконге, Сингапуре, Маниле, на полуострове Батаан, Соломоновых островах, Суматре, в Корее и Западном Китае), и нахваливали военное искусство генералов Сёдзиро Иида, Масахару Хомма, Хитоси Имамура, Сэйсиро Итагаки. Был и антракт потише, во время которого я спокойно согласился с тем, что склеротическим империям и нерешительным демократиям невозможно тягаться с набирающими силу расовыми аристократиями Оси. Затем все опять зашумели, обсуждая предстоящие вторжения в Турцию, Персию, Индию, Австралию и (ни больше ни меньше) Бразилию…
В какой‑то момент я ощутил на себе взгляд Долля. Все неожиданно смолкли, и Долль сказал:
– А он немного смахивает на Гейдриха, нет? Сходство присутствует.
– Вы не первый, кто отмечает его, мой господин.
Помимо Геринга, который мог быть и бюргером из «Будденброков»[33], и Риббентропа, бывшего торговца шампанским, изображающего аристократа (в Лондоне, когда он состоял там в послах, но появлялся не часто, его прозвали Летучим Арийцем), Рейнхард Гейдрих был единственным видным нацистом, способным сойти за чистого тевтона, все прочие несли в себе обычную балтийско‑альпийско‑дунайскую закваску.
– Гейдрих не вылезал из судов, в которых отстаивал древность своего рода, – сказал я. – Однако все эти слухи о нем, гауптштурмфюрер, совершенно безосновательны.
Долль улыбнулся:
– Будем надеяться, наш Томсен избежит ранней смерти, которая постигла Протектора[34]. – А затем, возвысив голос, продолжил: – Уинстон Черчилль вот‑вот уйдет в отставку. У него нет выбора. Его сменит Иден, который хотя бы меньше лебезит перед евреями. Вам известно, что когда солдаты Вермахта вернутся с Волги и из того, что останется от Москвы и Ленинграда, то на границе страны их разоружат войска СС? И после этого мы станем…
Зазвонил телефон. Ему и следовало зазвонить в одиннадцать: я заранее договорился об этом с Берлином, с одной из секретарш Секретаря[35] (девушкой услужливой, бывшей когда‑то давно моей любовницей). Пока я говорил и слушал, все молчали.
– Спасибо, госпожа Дельмот. Передайте Рейхсляйтеру, что я все понял. – Я положил трубку. – Прошу прощения, господа. Вам придется извинить меня. В мою квартиру в Старом Городе вот‑вот нагрянет курьер. Я должен принять его.
– Нет покоя нечестивым[36], – сказал Долль.
– Никакого, – согласился я и откланялся.
В гостиной лежала на софе, точно упавшее пугало, Норберта Уль, рядом с ней расположилась Амаласанда Беркль. Алиса Зайссер сидела, глядя перед собой, на низкой деревянной скамье в компании Трудель Зюльц и Ромгильды Зидиг. Ханна Долль только что поднялась наверх и уже не вернется. Я сообщил, ни к кому в частности не обращаясь, что вынужден уйти, и ушел, задержавшись на минуту‑другую в коридоре, у изножья лестницы. Далекий рокот наполняемой ванны; шаги чуть‑чуть прилипавших к полу босых ступней; покрякиванье скандализированных половиц.
Выйдя в сад перед домом, я обернулся и посмотрел вверх. Я надеялся увидеть в окне второго этажа голую или полуголую Ханну, глядящую на меня, приоткрыв рот (или с силой затягиваясь «Давыдофф»), однако надежда моя оказалась обманутой. Только задернутые шторы из какого‑то меха или шкуры и прямоугольник света на них. И я пошел восвояси.
Мимо меня проплывали разделенные стометровыми интервалами дуговые лампы. Огромные черные мухи покрывали, как мех, их сетчатые колпаки. Да, и летучая мышь проносилась поперек кремовой линзы луны. Из Офицерского клуба – полагаю, оттуда – долетали благодаря хитрой акустике Кат‑Зет звуки популярной песенки «Прощаясь, тихо скажи “пока”». А кроме того, я услышал шаги за своей спиной – и оглянулся.
Почти ежечасно ты чувствуешь здесь, что живешь посреди огромного, но переполненного сумасшедшего дома. Ребенок неразличимого пола, одетый в ночную рубашку до земли, быстро приближался ко мне – да, быстро, слишком быстро, все они передвигаются слишком быстро.
Маленькая фигурка вступила в поток света. Гумилия.
– Вот, – сказала она и протянула мне голубой конверт. – От мадам.
А потом развернулась и торопливо ушла.
Я столько страдала… Мне больше не по силам… Ныне я должна… Порою женщина… Мои груди начинают болеть, когда я… Ждите меня в… Я приду в вашу…
Перебирая эти мечтания, я вышагивал еще двадцать минут – вдоль внешней ограды «Зоны интересов», затем по пустынным улочкам Старого Города – и наконец достиг площади с серой статуей и чугунной скамейкой под гнутым фонарным столбом. Там я присел и прочитал.
* * *
– Ну и угадай, что она сделала, – сказал капитан Эльц. – Эстер.
Борис вошел в мою квартиру, открыв дверь собственным ключом, и теперь расхаживал по гостиной с сигаретой в одной руке, но без полного стакана спиртного в другой. Он был трезв, встревожен, сосредоточен.
– Помнишь открытку? С ума она, что ли, сошла?
– Погоди. Что случилось?
– Вся та чушь о хорошей еде, чистоте и ваннах. Она не написала о них ни слова. – И с негодованием (вызванным размерами и решительностью поступка Эстер) Борис продолжил: – Она написала, что мы – свора лживых убийц! Да еще и уточнила. Орава вороватых крыс, ведьм и козлов. Вампиров и кладбищенских мародеров.
– И все это пошло в Службу почтовой цензуры?
– Конечно, пошло. В конверте с двумя именами на нем – моим и ее. Что она себе думала? Что я просто опущу его в почтовый ящик?
– А теперь она снова лопатит дерьмо растворной доской?
– Нет, Голо. Это преступление, да еще и политическое. Саботаж. – Борис наклонился вперед: – Попав к Кат‑Зет, Эстер дала себе обещание. Она поведала мне о нем. Сказала себе: «Мне здесь не нравится, я не собираюсь здесь умирать…» Потому она так себя и ведет.
– Так где же она сейчас?
– Ее бросили в одиннадцатый бункер. Первым делом я подумал: надо доставить ей туда немного воды и еды. Этой ночью. Но теперь полагаю, что это пойдет ей на пользу. Пусть посидит пару дней. Получит хороший урок.
– Выпей, Борис.
– Выпью.
– Шнапса? Что там делают с заключенными, в одиннадцатом бункере?
– Спасибо. Ничего. В том‑то весь и фокус. Мебиус говорит так: мы просто предоставляем природе делать свое дело. А кто решился бы путаться под ногами у природы, мм? В среднем они протягивают там две недели, если молоды. – Он вгляделся в мое лицо: – У тебя подавленный вид, Голо. Ханна отказала тебе?
– Нет‑нет. Продолжай. Эстер. Как нам вытащить ее оттуда?
И я сделал над собой необходимое усилие, попытался проникнуться должным интересом к вопросу жизни и смерти.
2. Долль: Проект
Если говорить совсем уж честно, мои подбитые глаза меня раздражают.
Можно и не упоминать о том, что против настоящих ранений я ничего не имею. Тут, смею сказать, мой послужной список говорит сам за себя, свидетельствует о моей телесной выносливости. На иракском фронте последней войны (где я, 17‑летний, самый молодой старшина во всей Имперской армии, отдавал лающие приказы людям, которые были вдвое старше меня) я сражался целый день, ночь и, да, еще 1 день с развороченной левой коленной чашечкой и изуродованными шрапнелью головой и лицом, и к вечеру 2‑го дня мне еще хватило сил, чтобы вонзать штык в кишки английских и индийских солдат, замешкавшихся в доте, который мы все‑таки взяли.
Именно там, в госпитале Вильгельмы (немецкого поселения при дороге, которая соединяет Иерусалим с Яффой), оправляясь от 3 пулевых ранений, полученных мной во 2‑й битве за Иордан, я изведал «волшебное обаяние» эротических шалостей, кои разделяла со мной пациентка того же госпиталя, худощавая и гибкая Вальтраут Ее лечили от разного рода психологических недугов, главным образом от депрессии; и мне приятно думать, что наши с ней залихватские спряжения помогли затянуться разрывам в ее сознании, как помогли они зарубцеваться пробоинам в моей пояснице. Ныне воспоминания о той поре сводятся у меня главным образом к набору звуков. И какой же контраст они составляют – кряканье и рвотные хрипы рукопашной, с 1 стороны, и воркование, нежные шепоты юной любви (нередко сопровождавшиеся настоящим пением птиц в роще или в саду) – с другой. Я романтичен. Мне подавай романтику – и все тут.
Ну‑с, подбитые глаза нехороши уже тем, что они серьезнейшим образом разжижают присущую мне ауру непререкаемой властности. И не только в командном центре, или на перроне, или в бараках. В день, когда случилось это несчастье, я устроил здесь, на моей красивой вилле, блестящий прием для сотрудников «Буны», и в течение немалого времени мне едва‑едва удавалось сохранять самообладание – я чувствовал себя каким‑то пиратом или клоуном из пантомимы, или коалой, или енотом. Еще до приема меня совершенно загипнотизировало мое отражение в супнице: диагональный розовый мазок и 2 подрагивавшие зрелые сливы под бровями. Я уверен, что Зюльц и Уль обменивались дурацкими ухмылками и даже Ромгильда Зидиг едва подавила смешок. Впрочем, с началом общего разговора я ожил, возглавил его с обычной моей уверенностью (и без обиняков поставил на место господина Ангелюса Томсена).
Так вот – если дело шло подобным образом в моем собственном доме, среди коллег, знакомых и их супружниц, то как прикажете мне вести себя в обществе людей и вправду значительных? Что, если сюда прибудет группенфюрер Блобель? Или заявится с внезапной инспекцией оберфюрер Бенцлер из Главного управления имперской безопасности? А что, если, Боже оборони, Рейхсфюрер СС нанесет нам еще один визит? Да я не уверен, что смогу высоко держать голову даже в обществе нашего маленького билетного контролера оберштурмбаннфюрера Эйхмана…
А виноват во всем проклятый старый дурень, мой садовник. Вообразите, если желаете, воскресное утро и безупречную погоду. Я сижу за столом красивой комнаты, в которой у нас принято завтракать, настроение у меня великолепное – после деятельного, пусть и не совсем успешного «сеанса» с моей лучшей половиной. Уплетаю завтрак, любовно приготовленный Гумилией (удалившейся к этому времени в некий обветшалый храм Старого Города). Разделавшись с моими 5 сосисками (и осушив столько же чашек превосходного кофе), я встал и направился к французскому окну, намереваясь задумчиво прогуляться по саду и покурить.
Богдан с лопатой на плече стоял посреди дорожки спиной ко мне, тупо таращась на черепашку, которая поедала черешок латука. И едва я сошел с травы на гравий, старик с какой‑то судорожной внезапностью повернулся, толстый клинок лопаты описал быстрый полукруг и врезал мне по переносице.
Ханна, когда она наконец спустилась сверху, омыла ушибленное место холодной водой и своими теплыми пальчиками приложила в моему челу кусок сырого мяса…
Но и сейчас, спустя целую неделю, мои подглазья отливают цветом больной лягушки – желто‑зеленой жутью.
– Невозможно, – заявил (весьма типично для него) Прюфер.
Я, вздохнув, сказал:
– Приказ исходит от группенфюрера Блобеля, то есть от Рейхсфюрера СС. Вы понимаете, гауптштурмфюрер?
– Но это невозможно, штурмбаннфюрер. Мы не сможем это сделать.
Прюфер, как сие ни смешно, состоит при мне лагерфюрером, таким образом он – мой номер 2. Вольфрам Прюфер, молодой (едва за 30), неинтересно красивый (с круглым бесстрастным лицом), напрочь лишенный инициативности и, вообще говоря, бездельник каких мало. Кое‑кто уверяет, что «Зона интересов» есть свалка 2‑сортных недоумков. И я бы, пожалуй, согласился с ними (если бы это не говорило дурно и обо мне самом). Я сказал:
– Прошу простить, но я не понимаю значения слова «невозможно», Прюфер. Его нет в лексиконе СС. Нам надлежит стоять выше объективных условий.
– Но какой в этом смысл, мой Комендант?
– Смысл? Это политика, Прюфер. Мы заметаем следы. Нам еще и прах придется размалывать. В костедробилках, нет?
– Извините, мой господин, но я спрошу снова. Какой смысл? Если бы мы терпели поражение, тогда понятно, но мы же его не терпим. Когда мы победим в войне, а мы победим, все остальное станет совершенно не важным.
Должен признать, это соображение и мне приходило в голову.
– И когда мы победим, это все равно останется важным, отчасти, – возразил я. – Мы должны быть предусмотрительными, Прюфер. Какие‑нибудь опасные типы могут начать задавать вопросы, вынюхивать да выведывать.
– Я все равно не понимаю, Комендант. Ведь когда мы победим, нам придется проделывать то же самое, но в куда больших масштабах, разве нет? С цыганами, славянами и так далее.
– Я тоже так думаю.
– Так чего же мы сейчас нюни распускаем? – Прюфер почесал в затылке. – Сколько там объектов, Комендант? Вам хотя бы примерно известно?
– Нет. Но их много. – Я встал, прошелся по кабинету. – Вы знаете, за очистку всей территории отвечает Блобель. Ах как он пилит меня по поводу зондеров. И как спешит разделаться с ними. Я спросил: «Почему непременно нужно избавляться от всех зондеров после каждой Акции? Они же никуда не денутся?» Но разве он меня слушает? – Я вернулся в кресло. – Ладно, гауптштурмфюрер. Попробуйте‑ка вот это.
– А что это?
– А на что оно похоже? Вода. Вы здесь воду пьете?
– Боюсь, что нет, штурмбаннфюрер. Только ту, что в бутылках.
– Я тоже. Попробуйте. Мне попробовать пришлось. Давайте… Это приказ, гауптштурмфюрер. Отхлебните. Глотать не обязательно.
Прюфер отхлебнул немного воды, и она тут же потекла из его рта наружу. Я сказал:
– Походит на падаль, нет? Вдохните поглубже. – Я протянул ему мою фляжку: – Примите немного. Вчера, Прюфер, меня сердечно пригласили в администрацию Старого Города. На встречу с депутацией здешних шишек. Они сказали, что сколько эту воду ни кипяти, пить ее все равно невозможно. Наши объекты забродили, гауптштурмфюрер. И заразили грунтовые воды. Выбора у нас нет. Только вот запах будет немыслимый.
– Будет, мой Комендант? Вам не кажется, что он уже немыслим?
– Перестаньте вы жаловаться, Прюфер. Жалобы нас никуда не приведут. А вы только и знаете, что жаловаться. Остановиться не можете. Жалобы, жалобы, жалобы и жалобы.
Тут я сообразил, что повторяю слова Блобеля, сказанные им, когда я поначалу тоже пытался отвертеться от этого задания. А Блобель в его нападках, несомненно, повторял схожий нагоняй, полученный от Гиммлера. И Прюфер, вне всяких сомнений, произнесет нечто подобное, когда услышит возражения Эркеля и Струпа. Ну и так далее. Что мы имеем в наших охранных отрядах, так это иерархию жалоб. Эхокамеру жалоб… Разговаривали мы с Прюфером в ГАЗ, в моем кабинете. В мрачноватой (и несколько загроможденной) комнате с низким потолком. Зато письменный стол у меня был устрашающих размеров.
– Итак, дело это неотложное, – продолжал я. – Действительно неотложное, Прюфер. Надеюсь, вам понятно.
Стукнула в дверь и вошла моя секретарша, малышка Минна. И с неподдельным удивлением сообщила:
– Вас ожидает снаружи персона, назвавшаяся Шмулем, Комендант. Пришла, чтобы увидеться с вами, так она, во всяком случае, говорит.
– Велите ему стоять на месте, Минна, и ждать.
– Да, Комендант.
– Есть у нас кофе? Настоящий?
– Нет, Комендант.
– Шмуль? – Прюфер сглотнул, вскочил на ноги и снова сглотнул. – Шмуль? Зондеркоманденфюрер? Что он здесь делает, штурмбаннфюрер?
– Разговор окончен, гауптштурмфюрер, – ответил я. – Осмотрите захоронение, запаситесь бросовым бензином и метанолом, если таковой найдется, и поговорите с инженером Йенсеном о физике погребальных костров.
– Слушаюсь, мой Комендант.
Пока я сидел, размышляя, снова явилась Минна с охапкой телетайпов и телеграмм, меморандумов и коммюнике. Она – представительная и компетентная молодая женщина, пусть и несколько плоскогрудая (хотя жопа у нее в полном порядке, а задрав ее узкую юбку, вы… Не совсем понимаю, почему я это пишу. Решительно не мой стиль). В любом случае, я думал о жене. Ханна (пытался представить я) – здесь, во время нынешней Акции? Нет. Да и девочки, коли на то пошло, тоже. Пожалуй, им стоит ненадолго уехать в Розенхайм. Сибил и Полетт смогут поякшаться с теми 2 приемлемо безвредными клоунами, их дедушкой и бабушкой с маминой стороны, живущими в Лесном аббатстве – почерневшие балки, куры, «раскладные» рисунки Карла, анархическая стряпня Гудрун. Да, и природа Розенхайма. Сельский воздух всем им пойдет на пользу. А кроме того, Ханна при ее нынешнем «расположении духа»…
Ах, если б моя супруга была так же сговорчива, как томная Вальтраут! Где ты сейчас – Вальтраут?
– И это человеческое существо, – сказал я, выйдя во двор. – Отвратительно выглядишь, зондеркоманденфюрер.
Мои глаза? В сравнении с глазами зондеркоманденфюрера Шмуля мои – очи Златовласки. У него, почитай, и глаз‑то нет, они умерли, упокоились, потухли. Таковы глаза зондера.
– Видел бы ты свои зенки, милейший.
Шмуль пожал плечами и скосился на краюху хлеба, которую уронил на землю при моем появлении.
– После меня, – сказал я и поймал себя на том, что начинаю заговариваться. – Знаешь, в ближайшие дни твоя группа увеличится в 10 раз. Ты станешь самой важной персоной во всем КЦЛ. После меня, естественно. Пошли.
Пока мы ехали в грузовике на северо‑восток, я без всякой приязни размышлял об оберштурмфюрере Томсене. Несмотря на его бесполые манеры, он, как уверяют многие, большой ходок по женской части. И хорошо в таковом качестве известен, по‑видимому. При этом ни с чьими интересами он считаться не склонен, да и в средствах не стесняется. По‑видимому, именно он обрюхатил 1 из дочерей фон Фрика (дело было уже после скандала с катамитом); кроме того, я слышал из 2 отдельных источников, что он поимел даже Оду Мюллер! Еще 1 его победа – Кристина Ланг. Поговаривают, что Томсен сводничал для своего дяди Мартина – помогал Рейхсляйтеру вступить в связь с актрисой М. Ходят слухи и о том, что не все было чисто между ним и его тетушкой Гердой. (Или тем, что от нее осталось после рождения детей, – сколько их там, 8, 9?) Здесь, в КЦЛ, Томсен, как всем известно, оказался в своей стихии и перепробовал едва ли не целый взвод девиц из вспомогательного состава. Его друг, этот козел отпущения Борис Эльц, по всему судя, ничем не лучше. Да, но Эльц – потрясающий воин, а подобные люди (это стало более‑менее официальной политикой) вправе пользоваться в любви такой же свободой, какую дает им война. Но чем может оправдать свое поведение Томсен?
В Палестине худенькая Вальтраут дала мне пример, которому я следовал всю жизнь: совокупление, совершаемое без подлинного чувства, есть дело – будем смотреть правде в лицо – во всех смыслах противное. Согласен, в этом отношении я солдат не типичный; я никогда не позволяю себе неуважительных разговоров о женщине, а вульгарный язык мне претит. Поэтому я всегда обходил стороной мир борделей с его невообразимой грязью и слизью, да и «утонченное» распутство – туфля‑лодочка, втиснутая под столом между кожаными сапогами, задранная на кухне юбка, девка, идущая по городской улице вразвалочку, вихляя крупом, подмалеванные глаза, бритые подмышки, прозрачные трусики, черные чулки, пристегнутые к черному поясу, который обрамляет белую, выбритую верхушку бедер… такие штуки, спасибо большое, представляют для вашего покорного слуги Пауля Долля интерес весьма малый.
Нисколько не удивлюсь, если Томсен попытается подъехать к Алисе Зайссер. Картина вполне разительная: светловолосая каланча услаждается фигуристой булочкой с корицей. На моем обеде она выглядела весьма аппетитно. Что ж, ему лучше поторопиться, поскольку через 1–2 недели она вернется в Гамбург. Сейчас она доступна, приходит в себя после утраты штурмшарфюрера – утраты Орбарта, отдавшего жизнь, чтобы предотвратить побег из женского лагеря. Этот факт придает благородство всему облику его вдовы. Да и черный цвет ей к лицу. Когда мы пировали на моей вилле, траурное платье Алисы (с его тугим лифом) словно серебрилось в отблесках германской жертвенности. Ну вот видите. Романтика: я не могу без романтики.
Интересно, как долго Ханна намерена предаваться своему капризу?
Попомните мои слова: бросового бензина окажется недостаточно, и мне придется снова тащиться в Катовице.
– Остановите здесь, унтершарфюрер. Здесь.
– Да, мой Комендант.
Ну‑с, в Секторе 4III(b)i я не был с июля, когда сопровождал Рейхсфюрера СС во время проводившегося им двухдневного «беглого осмотра». Я вылез из кабины грузовика (а Шмуль выпрыгнул из кузова) и с тяжелым чувством обнаружил, что, вообще‑то говоря, могу слышать Весенний луг. Луг начинался примерно метрах в 10 от насыпи, на которой стояли, прижав к лицам ладони, Прюфер, Струп и Эркель, – тем не менее его было слышно и отсюда. Запах, само собой, но теперь еще и звук. Хлопки, шипение, бульканье. Я присоединился к коллегам и окинул огромное поле взглядом.
Без тени ложной чувствительности окинул взглядом огромное поле. Стоит повторить, что я нормальный мужчина с нормальными чувствами. Однако, когда на меня нападает искушение поддаться человеческой слабости, я просто думаю о Германии и о вере, внушаемой мне ее Избавителем, чью дальновидность, идеалы и надежды я неукоснительно разделяю. Доброта к еврею есть жестокость к германцу. «Правое» и «неправое», «доброе» и «дурное» – эти концепции свое отжили, их более не существует. При новом порядке одни действия приводят к положительным результатам, другие – к отрицательным. Вот и все.
– Комендант, – произнес Прюфер с 1‑й из его напыщенных гримас, – в Куленгофе Блобель попробовал все это взорвать.
Я повернулся, посмотрел на него и сказал сквозь носовой платок (мы все прижимали к носам носовые платки):
– Взорвать и чего тем добиться?
– Ну, избавиться от них таким способом. Не получилось, Комендант.
– Что же, я мог бы сказать ему это еще до того, как он попробовал. С каких это пор взрыв уничтожает что‑либо дотла?
– Я тоже так подумал. Все это добро просто разлетелось повсюду. Куски свисали с деревьев.
– И что вы сделали? – спросил Эркель.
– Собрали те, до каких смогли дотянуться. С нижних ветвей.
– А те, что были на верхних? – спросил Струп.
– Их мы просто оставили висеть, – ответил Прюфер.
Я снова оглядел огромное пространство, волнообразно колебавшееся, точно лагуна во время прилива, поверхность его обильно покрывали маленькие гейзеры, они рыгали и плевались; время от времени в воздух взлетали, вертясь, ошметки торфа. Я закричал, призывая Шмуля.
Этим вечером в мой кабинет неожиданно заявилась Полетт. Я с сигарой и стаканчиком бренди отдыхал в покойном кресле.
– Где Богдан?
– И ты туда же. Какое на тебе некрасивое платье.
Она сглотнула и спросила:
– И где Торкуль?
Торкуль была черепашкой (это не описка – «была»). Девочки любили ее: в отличие от ласки, ящерицы или кролика, черепашка сбежать не могла.
…Несколько позже я на цыпочках подкрался сзади к Сибил, которая делала за кухонным столом уроки, – и перепугал ее до смерти! А после обнял, смеясь, и поцеловал, и мне показалось, что она меня оттолкнула.
– Ты отталкиваешь меня, Сибил.
– Нет, – сказала она. – Просто мне скоро 13, папа. А для меня это серьезная веха. И потом, ты не…
– Что «не»? Ну. Продолжай.
– Ты нехорошо пахнешь, – сказала она и поморщилась.
Тут уж кровь моя начала закипать по‑настоящему.
– Тебе ведь известно значение слова «патриотизм», Сибил?
Она отвернула лицо в сторону и сказала:
– Мне нравится обнимать и целовать тебя, папа, но у меня сейчас другое на уме.
Я помолчал, а затем сказал:
– В таком случае ты очень жестокая девочка.
А что же о Шмуле, о зондерах? Ах, мне так трудно писать о них. Знаете, я никогда не переставал дивиться бездне нравственного убожества, в которую всегда готовы упасть некоторые человеческие существа…
Зондеры, они исполняют свою страшную работу с наитупейшим равнодушием. С помощью толстых кожаных ремней они волокут объекты из душевой в мертвецкую, а там, вооружась плоскогубцами и долотами, извлекают из зубов золотые пломбы или, щелкая ножницами, состригают с женщин волосы; или выдирают из ушей серьги, срывают с пальцев обручальные кольца, а затем нагружают тележки (6–7 на 1 партию) и поднимают их к зияющим горнилам печей. И наконец, дробят кости, и грузовик увозит получившийся порошок и ссыпает его в Вислу. Все это, как уже было сказано, они проделывают с тупой бесчувственностью. Кажется, для них совершенно не важно, что люди, которых они обрабатывают, – это их товарищи по расе, их кровная родня.
И все же случается ли этим стервятникам крематория выказывать хотя бы малейшее оживление? О да. Это происходит, когда они встречают на перроне эвакуантов и отводят их в раздевалку. Иными словами, они оживают, лишь получив возможность предать и обмануть своих соплеменников. «Назовите вашу профессию, – просят они. – О, инженер? Великолепно. Нам всегда нужны инженеры». Или что‑нибудь вроде: «Эрнст Кан – из Утрехта? Да, он и его… О да, Кан, его жена и дети пробыли здесь месяц или 2, а потом решили отправиться на сельскохозяйственную станцию. На 1‑ю, в Станиславе». Если же возникают затруднения, зондеры с готовностью прибегают к насилию – заламывают смутьяну руки и тащат его лицом вниз к ближайшему сержанту, и тот надлежащим образом разрешает ситуацию.
Видите ли, Шмуль и прочие заинтересованы в том, чтобы все шло гладко и быстро, потому как им не терпится порыться в карманах сброшенной одежды, выудить оттуда выпивку или курево. Или что‑нибудь съедобное. Они же все время жуют – все время жуют, эти зондеры – какие‑то объедки, украденные в раздевалке (даром что пайки им положены относительно щедрые). Они могут сидеть на груде объектов и хлебать из миски суп; могут бродить по зловонному лугу по колено в его жиже и жевать куски ветчины…
Меня поражает их стремление уцелеть, протянуть подобным манером еще немного, а они полны этой решимости. Лишь некоторые (далеко не многие) отвечают нам категорическими отказами, несмотря на очевидные последствия: ведь и они тоже стали теперь Geheimnisträger’ми, носителями государственной тайны. И никто же из них не может надеяться продлить свое трусливое существование более чем на 2 или 3 месяца. На сей счет мы ведем себя открыто и откровенно: как‑никак 1‑я работа, какую получают зондеры, – это устранение тел их предшественников, да так оно продолжаться и будет. Шмуль обладает сомнительного достоинства отличием: он – похоронщик, дольше всех проработавший в КЦЛ, собственно, я не удивлюсь, если окажется, что и во всей концентрационной системе. В сущности, он человек «выдающийся» (даже охрана проявляет к нему малое, но уважение). Шмуль продолжает трудиться. Однако и он отлично знает, чем заканчивают все они – носители государственной тайны.
Для меня честь не является вопросом жизни или смерти: она гораздо важнее такого вопроса. Зондеры, совершенно очевидно, держатся иных взглядов. Чести они лишены и, подобно любому животному и даже минералу, стремятся лишь продлить свое существование. Существование есть привычка, с которой они не могут расстаться. Ах, если бы они были настоящими мужчинами, – да я бы на их месте… Но погоди. Ты никогда не был и не будешь ни на чьем месте. И то, что говорят здесь, в КЦЛ, правда: никто себя не знает. Кто ты? Не знаешь. Ну так приходи в «Зону интересов», и она тебя просветит.
Я подождал, когда девочек уложат, и вышел в сад. У пикникового стола стояла, скрестив руки, Ханна с белой шалью на плечах. Пила из бокала красное вино и курила «Давыдофф». За нею – оранжевый закат и несущиеся, клубясь, облака. Я небрежным тоном сказал:
– Ханна, я думаю, что вам следует на неделю или 2 уехать к твоей матери.
– Где Богдан?
– Боже милостивый. В 10‑й раз: его перевели. – И ко мне это никакого отношения не имело, хоть я и не испытал неудовольствия, когда в последний раз увидел его спину. – В Штуттгоф. Его и 200 других.
– Где Торкуль?
– Опять же в 10‑й раз: Торкуль мертва. Ее убил Богдан. Лопатой, Ханна, ты забыла?
– Ты говоришь, Богдан убил Торкуль.
– Да! Со злости, я полагаю. И с перепугу. В другом лагере ему придется начинать все сначала. Его могут ожидать трудности.
– Какие?
– Садовником он в Штуттгофе не станет. Там другой режим. – Я решил не говорить Ханне, что всякий, кто попадает в Штуттгоф, в 1‑ю же минуту получает 25 ударов плетью. – Прибираться в саду пришлось мне. Торкуль. Уверяю тебя, зрелище было не из приятных.
– Почему мы должны ехать к маме?
Я немного помычал и помямлил, заверяя ее, что это хорошая мысль. Ханна сказала:
– Ладно, ладно, в чем настоящая причина?
– Ну хорошо. Берлин распорядился о незамедлительном выполнении некоторого Проекта. На какое‑то время жизнь здесь станет неприятной. Всего на пару недель.
Ханна саркастически осведомилась:
– Неприятной? Да что ты говоришь? Серьезная перемена. Неприятной в каком смысле?
– Я не имею права разглашать. Это военное дело. И оно пагубным образом скажется на состоянии воздуха. Ну‑ка, давай я тебе долью.
Минуту спустя я вернулся с вином для Ханны и здоровенным стаканом джина для себя.
– Я все обдумал. Уверен, ты согласишься, что так будет лучше. Мм, красивое небо. Наступают холода. Это нам поможет.
– Как?
Я покашлял и сказал:
– Ты ведь помнишь, что завтра мы идем в театр.
Мерцающий кончик ее сигареты походил в сумерках на светляка – взлетающего.
– Да, – продолжал я, – праздничное представление пьесы «И вечно пение лесов». – Я улыбнулся. – Ты хмуришься, кошечка моя. Перестань, мы должны делать вид, что ничего не случилось! Боже, Боже. Кто же у нас теперь надувшаяся девочка, а? Я напомнил бы тебе о Дитере Крюгере. Но ты ясно показала мне, что его судьба тебя больше не волнует.
– О, волнует, конечно. Разве ты не говорил, что Дитера отправили в Штуттгоф? И что при поступлении туда каждый получает 25 ударов плетью?
– Я так говорил? Ну, это касается лишь самых подозрительных заключенных. Богдан их не получит… «И вечно пение лесов» – это рассказ о сельской жизни, Ханна. – Я отхлебнул побольше резкого джина, основательно прополоскал им рот. – О стремлении создать образцовую общину. Органическую общину, Ханна.
То была объединенная годовщина, мы отмечали 1) наш убедительный успех на выборах 14 сентября 1930 и 2) принятие исторических Нюрнбергских расовых законов 15 сентября 1935. То есть причин для празднования было 2.
После нескольких коктейлей, выпитых нами в театральном буфете, мы с Ханной (центр всеобщего внимания) направились к нашим местам в 1‑м ряду. Свет в зале померк, занавес, покрякивая, поднялся – и перед нами предстала дородная доярка, горюющая посреди пустой продуктовой кладовки.
«И вечно пение лесов» рассказывало о жизни крестьянской семьи в суровую зиму, которая последовала за Версальским диктатом. «Мороз уничтожил клубни, Отто» – такова была 1‑я реплика и «Ну что ты уткнулся в эту книжку своим чванливым носом?» – другая. Все остальное полностью миновало мое сознание. И не то чтобы голова у меня совсем опустела – напротив. Как ни странно, я провел все 2½ часа, кропотливо оценивая время, которое потребовалось бы газу (с учетом влажности и высоты потолка), чтобы разделаться с наполнявшей зал публикой; прикидывая, какую часть ее одежды можно будет в дальнейшем использовать; высчитывая, сколько денег удастся выручить за ее волосы и золотые пломбы…
После спектакля, уже во время приема, 2 таблетки «фанодорма», запитые несколькими рюмками коньяка, быстро привели меня в норму. Я оставил Ханну в обществе Норберты Уль, Ангелюса Томсена и Олбрихта и Сюзи Эркель, а сам обменялся несколькими словами с Алисой Зайссер. В конце недели бедняжка отбывает в Гамбург. 1‑я ее задача – выправить пенсию. По какой‑то причине Алиса была белой от страха.
– Двигаться будем с запада на восток. Получишь под начало 800 человек.
Шмуль пожал плечами и вытащил из кармана брюк – вы не поверите – пригоршню маслин.
– Может быть, 900. А скажи мне, зондеркоманденфюрер. Ты женат?
Он ответил, глядя в землю:
– Да, господин.
– Как ее зовут?
– Суламифь, господин.
– И где она сейчас, твоя Суламифь, зондеркоманденфюрер?
Нельзя со всей честностью утверждать, что воронью мертвецкой недоступны никакие человеческие чувства. Довольно часто, выполняя свою работу, они сталкиваются с кем‑то, кого хорошо знают. Зондеры видят, как их соседи, друзья, родственники входят в камеру, или «выходят» из нее, или и то и другое. Заместителю Шмуля случилось как‑то умерять в душевой страхи своего 1‑яйцевого близнеца. А не так давно среди зондеров был некий Тадеуш, хороший работник, который, взглянув в мертвецкой на конец своего ремня (они, видите ли, отволакивают объекты с помощью ремней), увидел собственную жену и упал в обморок. Впрочем, ему выдали немного шнапса и палку салями, и через 10 минут он вернулся к работе и бодро оттаскивал других.
– Ну так где же она?
– Не знаю, господин.
– Все еще в Лицманштадте?[37]
– Я не знаю, господин. Прошу прощения, господин, об экскаваторе они позаботились?
– Про экскаватор забудь. Это рухлядь.
– Да, господин.
– И еще: их необходимо тщательно пересчитать. Понятно? По черепам.
– Черепа не годятся, господин. – Он отвернулся в сторону, выплюнул косточку последней маслины. – Есть более надежный метод.
– Вот как? Ладно, сколько времени все займет?
– Зависит от дождей, господин. Это всего лишь предположение, но я думаю – месяца 2 или 3.
– 2 или 3 месяца?
Шмуль повернулся ко мне, и я вдруг сообразил, чем необычно его лицо. Не глазами (они были обычными глазами зондера), но ртом. И я понял – там, на верхушке насыпи, – что сразу после успешного завершения нынешнего мероприятия со Шмулем придется расстаться, прибегнув к соответственной процедуре.
Мне удалось собрать кое‑какую дополнительную информацию о нашем сладеньком герре Томсене (несмотря на его репутацию, я все же думаю, что он «1 из этих»). Мать Томсена, старшая (и намного) единокровная сестра Бормана, вышла замуж с немалой для себя выгодой, нет? Ее муж владел торговым банком, а также коллекционировал современное искусство самого дегенеративного пошиба. Что‑то знакомое – капиталы, современное искусство, мм? Не был ли «Томсен» некогда чем‑то вроде «Томзена»? – гадаю я. Так или иначе, в 1929‑м оба родителя погибли в Нью‑Йорке при падении лифта (мораль: переступи порог этого Еврейского Содома – и ты получишь то, что столь «капитально» заслужил!). После чего их единственного сына, этого княжонка, неофициально усыновил его дядя Мартин – человек, который распоряжается ныне ежедневником Избавителя.
Ну‑с, это нам приходится ишачить и обливаться кровавым потом – я едва сам себя не угробил, добиваясь моего нынешнего положения. А некоторые – некоторые рождаются с серебряной… Да, вот это смешно. Я намеревался использовать расхожую фразу, однако моя голова родила намного лучшую. И в совершенстве для него подходящую. Да. Ангелюс Томсен родился с серебряным хером во рту!
Нихт вар?[38]
Склонившись над моим домашним столом, я предавался глубоким, хоть и усталым размышлениям и внезапно услышал звук шагов; они приблизились и замерли. Это была не Ханна.
А размышлял я о том, что попал меж 2 огней. С 1 стороны, Главное экономическое управление вечно требует, чтобы я делал все возможное для увеличения численности рабочей силы (в военной промышленности), с другой – Главное управление имперской безопасности давит на меня, требуя устранить как можно больше эвакуантов, – и по очевидной причине (евреи образуют 5‑ю колонну нестерпимых размеров). Я провел пальцами по лбу, словно рефлекторно отдал честь. Теперь же я вижу вдобавок (передо мной лежит телетайп), что этот идиот, Герхард Стадент из ГЭУ, разродился блестящей идеей: все трудоспособные матери должны работать, пока с ног не попадают, на обувной фабрике Хелмека. «Прекрасно, – скажу я ему. – Приходите на перрон и попробуйте разлучить их с детьми». Эти люди – они просто не умеют думать. Я громко сказал:
– Кто бы там ни стоял, войдите.
Наконец раздался стук, и в кабинет вползла – с видом весьма покаянным и горестным – Гумилия.
– Вы пришли, чтобы постоять здесь и подрожать, – проворчал я (настроение у меня было самое паршивое), – или у вас есть что сказать?
– Меня мучает совесть, господин.
– Да что вы? Это нам ни к чему. Совершенно никуда не годится. Итак?
– Я выполнила приказ госпожи Ханны, который мне выполнять не следовало.
Я совершенно спокойно поправил ее:
– Которое мне выполнять не следовало, господин.
Огонь, видите ли, все дело в огне.
Как заставить их гореть, голые‑то тела, как добиться, чтобы их охватило пламя?
Начали мы со средств самых простых, с обычных досок, и почти ничего не добились, но затем Шмуль… Знаете, я начинаю понимать, почему зондеркоманденфюрер живет себе так, точно он неуязвим. Это он внес ряд предложений, которые оказались ключевыми. Записываю их для будущих справок:
1) Костер должен быть только 1.
2) Костер должен гореть непрерывно, 24 часа в сутки.
3) Огонь следует подпитывать топленым человеческим жиром. Шмуль организовал рытье отводных канав и создал подразделения черпальщиков, что, помимо прочего, привело к значительной экономии бензина. (Напоминание: доложить о нашей рачительности Блобелю и Бенцлеру.)
На этом этапе мы периодически сталкиваемся только с 1 техническим затруднением. Костер настолько жарок, что к нему невозможно приблизиться, нет?
И вот тут я вас спрашиваю… нет, это и вправду бесценно, вот это, оно действительно превосходит все прочее. Вдруг начинает трезвонить, чуть с крючка не срывается, телефон: Лотар Фей из Управления противовоздушной обороны гневно жалуется, представьте себе, на нашу ночную иллюминацию! Стоит ли удивляться, что я понемногу съезжаю с ума?
Гумилия хоть и сочла нужным поведать мне, что моя жена написала и даже отправила личного свойства послание хорошо известному распутнику, но просветить меня насчет содержания оного не смогла – или не пожелала. Конечно, вся история может быть совершенно невинной. Невинной? Это каким же образом? У меня нет никаких иллюзий относительно истерической чувственности, на которую показала себя способной Ханна, а кроме того, известно, что, едва ослабив священные путы скромности, женщина быстро скатывается к самому фантастическому разврату, к готовности становиться на четвереньки, вываливаться в грязи, обжиматься, извиваться, корчиться…
Ханна коротко стукнула в дверь, вошла и сказала:
– Ты хотел меня видеть.
– Да. – Я решил дождаться более удачного случая и потому сказал лишь: – Знаешь, необходимость ехать в Лесное аббатство отпала. Осуществление Проекта займет несколько месяцев, тебе придется свыкнуться с ним.
– Да я и так уезжать не собиралась.
– О? Это почему же? У тебя случайно не появился ли собственный Проект?
– Может быть, – ответила она и развернулась на каблуках.
…Я поднял руки, протер глаза. Это машинальное действие, подобное коему может непроизвольно совершать любой усталый, засидевшийся над уроками школьник, оказалось вполне безболезненным – впервые не знаю уж за сколь долгое время. Я спустился вниз, зашел в туалет, посмотрелся в зеркало. Да, мои измученные глаза были еще слегка налиты кровью, вялы, припухлы – так много дыма, так мало сна (не думайте, что составы приходить перестали). Но синяки сошли.
Конец ознакомительного фрагмента – скачать книгу легально
[1] Перевод А. Радловой.
[2] Сокращение от Konzentrationslager – концентрационный лагерь (нем.). – Здесь и далее примеч. перев.
[3] Танцевальные вечера (фр.). – Здесь и далее перевод с фр. Елены Полецкой.
[4] Подразумеваются Свидетели Иеговы.
[5] По прибытии в концентрационный лагерь каждый Свидетель Иеговы получал 25 ударов палкой.
[6] Подразумевается Польская табачная монополия.
[7] Полетт означает «скромная, маленькая».
[8] Состав 105.
[9] Первый класс, второй, третий (фр.).
[10] NORD – исторический пассажирский поезд «Норд‑экспресс», в начале XX века курсировавший между Францией и Россией; во время Второй мировой войны это был один из основных поездов, пересекавших Германию. La Flèche d’Or – французский состав «Золотая стрела», которым переплывшие Ламанш англичане добирались до Парижа.
[11] Не знаю что (фр.).
[12] Добро пожаловать, дети (фр.).
[13] Устали с дороги, мсье? (фр.).
[14] Вместе с Рудольфом Францем Хёссом, будущим комендантом Аушвица, Борман участвовал в убийстве Вальтера Кадова, бывшего своего учителя в начальной школе, ложно обвиненного в том, что во время оккупации Рура он выдал французским властям Альберта Лео Шлагетера, позднее возведенного нацистской пропагандой в ранг «мученика».
[15] ИГ Фарбен – консорциум крупнейших немецких химических корпораций, образованный в 1925 году. В его состав входил и «Байер», фармацевтический гигант.
[16] Военная хитрость (фр.).
[17] Мещанство, мелкая буржуазия (нем.).
[18] Jawohl – так точно (нем).
[19] Der Stürmer – еженедельник, издававшийся в Нюрнберге с 1923 по 1945 год.
[20] Главное управление имперской безопасности.
[21] Немецкая компания, занимавшаяся изготовлением печей для лагерных крематориев.
[22] Заходи, морячок. Повесь костюмчик вот сюда. Запомни номер. Твой восемьдесят третий! (фр.)
[23] Свяжите тесемки узлом, мсье. А я пока поищу плечики для вашего манто. Каракуль! Это же шкурка ягненка, верно? (фр.)
[24] Тебе восемнадцать лет, и у тебя есть дело (идиш, нем., фр.). Под «делом» здесь понимается нечто коммерческое – магазин, лавка.
[25] Выражение И. Канта из «Лекции о педагогике».
[26] Лагерь военнопленных.
[27] Свинство (фр.).
[28] На самом деле место это в Аушвице называлось «Канада».
[29] Коктейль из сухого вина и черносмородинового ликера.
[30] Гуртом (фр.).
[31] Haftlinge Krankenbau – лазарет лагеря Аушвиц I.
[32] Военизированные эскадроны смерти, осуществлявшие массовые убийства гражданских лиц на оккупированных Германией территориях.
[33] Роман Томаса Манна.
[34] Рейнхард Гейдрих по прозвищу Пражский палач, «изобретатель» Холокоста, был назначен протектором Богемии и Моравии, умер в результате ранения, которое получил во время операции «Антропоид», осуществленной в Праге двумя офицерами Чехословацкой армии.
[35] С 12 апреля 1942‑го Борман состоял личным секретарем фюрера.
[36] Парафраз библейской цитаты «Нечестивым же нет мира» (Исаия, 48:22).
[37] Так в 1940–1944‑х назывался оккупированный немцами город Лодзь.
[38] Nicht wahr? – Не правда ли? (нем.)
Библиотека электронных книг "Семь Книг" - admin@7books.ru