
Записки любителя городской природы (Олег Базунов)
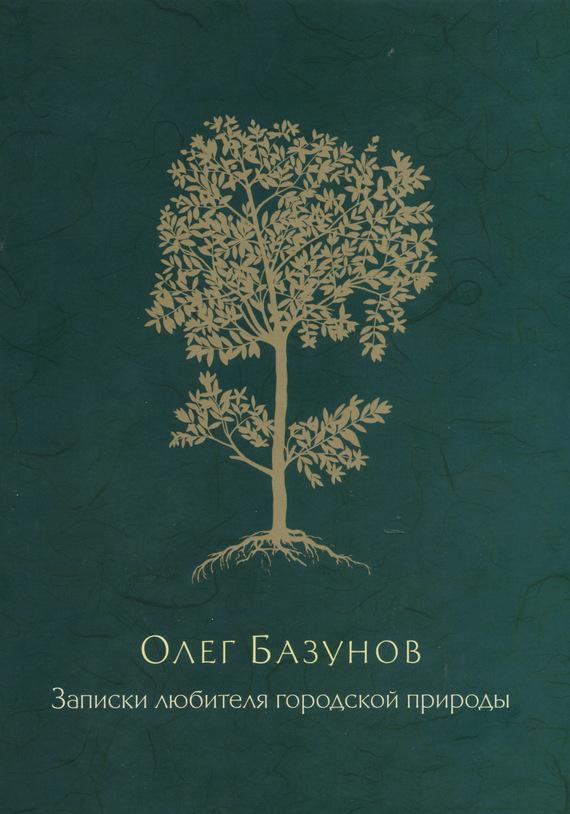
Олег Викторович Базунов
Записки любителя городской природы
Составитель благодарит депутата Законодательного собрания Т Я. Захаренкову и С. И. Князева за помощь в издании этой книги
Тополь за окном
Эскизы к портрету Олега Базунова
Как складываются писательские судьбы? Почему одних писателей современники и признают, и понимают сразу, а другим, чтобы удостоиться такой чести, не хватает и целой жизни? Бесспорное условие всякого признания, разумеется, – талант, яркий и властный. Но не только. Лидия Яковлевна Гинзбург в статье «Литературные современники и потомки» (1946) объясняла: «Судьба писателя во многом зависит от соотношения его творческого временного ритма с ритмом исторического сознания читателей. Настоящий писатель всегда современен, но он может быть современен в очень разных ритмических категориях. Он бывает злободневным, бывает сезонным, он может уловить общественное настроение протяженностью в два?три года, может выразить поколение и может поднять проблематику века». Предшественники почти никогда не верят в то, что перед ними действительно новый настоящий писатель, для них «он остается „молодым человеком“, их мироощущение он изменить не может», сверстники «расходятся с ним в тот момент, когда он начинает мужать, а они начинают консервироваться», младшие же современники его зачастую попросту не замечают: «Авангард молодого поколения <…> убежден в том, что его проблематика начисто сняла все предыдущие».
И все?таки, вопреки всему, настоящий писатель, пусть и пребывая в пугающем одиночестве, остается жить в литературе.
Семейный альбом
Старые фотографии. Конец XIX?середина XX века. Семейный альбом писателя, мало кем понятого при жизни и почти совсем забытого сегодня, спустя двадцать лет после его смерти.
Вот его любимая бабушка Мария Павловна, в девичестве Базунова, из рода известных петербургских книгоиздателей. Рано оставшись сиротой, она воспитывалась крестными родителями; в шестнадцать, по окончании гимназии, ее выдали замуж за Дмитрия Ивановича Конецкого, служившего бухгалтером на железной дороге. Дмитрий Иванович родился в Тихвине в 1830 году, был намного старше Марии Павловны, и на фотографии, сделанной на Вознесенском проспекте, он рядом с молодой женой выглядит осанисто и солидно: широкий высокий лоб, волосы на прямой пробор, густая борода, напряженный взгляд… В преклонном возрасте Дмитрий Иванович тяжело болел, был парализован и скончался в августе 1908 года.
Вот их дочери: Матрона, Ольга, Зинаида и младшая Любочка. Матрону дома звали Матюней, после театрального училища (1883) она танцевала в кордебалете Мариинки без малого два десятка лет. Там же почти три десятка лет пела в хоре окончившая консерваторию Зинаида, Зика. И младшая Любочка не миновала сцены: она была принята в миманс труппы Дягилева и вместе с Матроной побывала на гастролях в Париже, Лондоне, Берлине и Праге. Перед тем, в 1912 году, она окончила частный французский пансион Люси Ревиль (на Ново?Исаакиевской улице, 14) и отлично владела французским языком.
Писатель, о котором дальше пойдет речь, – Олег Базунов; а Любовь Дмитриевна Конецкая – его родная матушка. Именно матушкой предпочитал он ее величать, рассказывая в книгах о своем детстве. И еще вот какое обстоятельство: у Любови Дмитриевны было два сына, и оба стали писателями. В известности младшего, Виктора Конецкого, сомневаться не приходится, особенно он почитаем на флоте, его имя носит океанский танкер; издано восьмитомное собрание его сочинений, а телевидение регулярно демонстрирует популярный «Полосатый рейс», снятый по сценарию Конецкого более полувека назад.
Любовь Дмитриевна в апреле 1917 года, как сообщает Т. В. Акулова[1], вышла замуж за университетского студента?юриста Виктора Андреевича Штейнберга, сына дантиста, имевшего свою вывеску на Садовой улице. Невесте «было 23 года, жениху – 24. Венчались молодые в Эстонской Исидоровской православной церкви. На венчании Любовь Дмитриевна уронила кольцо – плохая примета…». Их брак, по словам Т. В. Акуловой, «поначалу был счастливым. Веселый, быстро располагающий к себе Виктор Андреевич был и собой хорош – одни усы чего стоили. За усы и поклонение женской красоте в семействе был он прозван Мопассаном». В августе 1916?го Виктора Андреевича призвали в армию и направили санитаром в военно?полевой госпиталь. На одной из фотографий он в военной форме, невысокий, сухощавый, с цепким взглядом из?под фуражки с кокардой, и усики у него еще вовсе не «мопассановские».
После революции Виктор Андреевич работал в технической комиссии народного банка, потом служил следователем в районной прокуратуре. У них с Любовью Дмитриевной долго не было детей, и только в 1927?м родился Олег, а в 1929?м – Виктор. Казалось, ничто не мешало их счастью, но через два года брак распался. Женившись вторично, Виктор Андреевич не переставал бывать в доме на канале Круштейна (прежде и сегодня – Адмиралтейский) и заботился о детях.
Необъяснимая для совсем еще несмышленых братьев семейная драма, сумятица родительской распри («Бедный и любимый отец… Пожалуй, он был еще несчастней Любочки Конецкой…», – сокрушался впоследствии Виктор) оставила жесткий рубец в детском сознании. На фотографиях тех лет Олег и Виктор всегда вместе: гуляя на Конногвардейском бульваре, на дачной веранде, голышом на озере, в домашнем кресле в обнимку с матерью. «Ни разу на протяжении своей долгой жизни Любовь Дмитриевна, – по словам Т. В. Акуловой, – не рассказывала сыновьям о том, что пережила в те годы».
В июле 1933?го умерла Мария Павловна, любимая бабушка Олега. На одной из последних ее фотографий он уютно устроился у нее на коленях и внимательно смотрит в объектив.
А в середине 1930?х несчастья настигли и дочь Марии Павловны Ольгу, родившуюся в 1878?м и в 1896 году вышедшую замуж за Сергея Петровича Васильева, дворянина, полковника в Первую мировую войну. В 1920?е годы он работал корректором в Академии наук, в 1929?м его арестовали, но по счастливому стечению обстоятельств отпустили, в 1935?м арестовали вновь, выслали в Саратов и в 1937?м расстреляли. Тогда же осудили на десять лет лагерей Ольгу Дмитриевну, а их старшая дочь Кира, выпускница Ленинградской консерватории, добровольно поехавшая с родителями в ссылку, в заключении ослепла, сошла с ума и умерла в саратовской тюремной больнице в 1939 году
Виктор Андреевич меж тем уверенно шагал по карьерной лестнице. С 1937 года он уже помощник прокурора Октябрьской железной дороги по надзору за следствием. В заметках «Из семейной хроники» Виктор Конецкий писал: «Увы, биография отца настолько темное дело, что мне ее уже не распутать… Молчать отец умел замечательно, даже сильно выпивши <…>. Был он революционным романтиком, а все романтики – в чем?то наивные и хорошие люди». В книгах Олега об отце не сказано, кажется, ни слова.
Растить и воспитывать в одиночку двух своевольных мальчишек Любови Дмитриевне было непросто – при ее мизерной зарплате соцслужащей да еще после коварной болезни, которая время от времени давала о себе знать. Виктор Андреевич детям помогал, навещал «когда мог и хотел», однако его визиты для Любови Дмитриевны обычно заканчивались серьезной нервной встряской. Братья тоже никак не сулили ей покоя и нередко бунтовали. Мать, вспоминал Виктор, наперекор бедности одевала их на свой вкус – в коротенькие штанишки, бархатные курточки и беретики, за что он в школе получал немало тумаков и удостоился клички Гогочка. Учебу братья, мягко говоря, не жаловали, надолго сохранив неприязнь к «школьной каторге».
Однако при очевидной бедности Любовь Дмитриевна умудрялась летом отправляться с детьми на пригородную дачу, а то и на юг. «Где?то в сороковом, – вспоминал Виктор, – мать повезла в Крым. Мисхор. Алупка. Запах нагретых солнцем незнакомых трав, колючих зарослей. Полное безразличие к морю и любовь к козам, которые бодаются и делают это довольно свирепо. Юной девушкой мать была там когда?то счастливой и влюбленной. Потому, верно, и повезла нас в такую дорогую даль. Да, через отца – ему был положен бесплатный проезд, отец работал в транспортной прокуратуре…»
И когда в июне 1941?го внезапно грянула война, они тоже были на юге, на Украине, недалеко от гоголевской Диканьки. «Около четырех часов, – вспоминал Виктор, – мать разбудила меня и брата, и мы вышли во двор, где справа были клетки со спокойно пока жующими кроликами, слева хлев со спокойно пока жующими коровами, а с запада, из?за реки Ворсклы… из?за кукурузных полей, по чуть светлеющему небу, очень низко, пригибая все торжествующим ревом, шли на Харьков или Киев эскадрильи тяжелых бомбардировщиков, и мы отчетливо видели черные кресты на их крыльях…»
Так в первые же часы войны повеяло на братьев той непередаваемой смертной тревогой, которая не исчезла и когда они с матерью в толпе беженцев тащились на восток, и в случайно подвернувшемся эшелоне с детьми, следовавшем в Ленинград, и когда попали под бомбежку на полустанке Валя. В подробностях обо всем этом рассказывал потом Виктор. И о том – как ранило Олега: две маленькие бомбы взорвались метрах в двадцати, «его приподняло взрывной волной, пронесло довольно далеко – и замедленно, как в замедленном кино, швырнуло на землю». Когда Виктор с матерью к нему подбежали, «глаза у него были открыты, но шок оказался глубоким. Он был ранен осколком бомбы в левую руку между плечом и локтем. Более другого, – признался Виктор, – меня поразил чистейшей белизны кусочек кости, который отлично был виден в окружении разорванных мышц…»
Они кое?как добрались до Ленинграда. А к городу уже приближалась блокада.
Ни о войне, ни о блокаде Олег Базунов в своих книгах не вспоминал. О том, что они тогда пережили, скупо и неохотно рассказывал Виктор.
В их квартиру на канале Круштейна вместо эвакуировавшегося скрипача Мариинского театра вселили рабочего Кировского завода, он перебрался с улицы, где уже пролегла линия фронта. В семействе рабочего было десять детей. «Они быстро умирали. Их трупики старшие складывали в коридоре квартиры…» Властям о смерти детей не сообщали, чтобы использовать на какой?то срок хлебные карточки умерших. «На рубеже сорок первого и сорок второго годов, – вспоминал Виктор, – за хлебом в булочную надо было отправляться рано утром до открытия… Света в коридоре и передней не было. На вход и выход мы пробирались, ощупывая в темноте трупы, сложенные вдоль стены. Несмотря на уличный мороз в квартире, запах разложения был и страх перед трупами сохранялся, но тусклый страх, монотонный… страх перед мразью тления…»
Царившая в городе смерть бесцеремонно вторгалась в отношения самых близких людей. Одного эпизода достаточно, чтобы почувствовать, перед каким выбором родные люди зачастую оказывались: «Декабрьские и январские морозы были ужасными, – вспоминал Конецкий. – И у брата началось воспаление легких. В тот вечер пришла Матюня. Окоченевшая, скрюченная. Тащилась откуда?то и забрела обогреться. Ей предстояло идти до улицы Декабристов, где они жили вместе с Зикой…» Мать варила какую?то кашу из чечевицы и, «понимая, что если Матюня задержится, то ей придется отдать хоть ложку варева, ее выпроводила, грубо, как?то с раздражением на то, что сама Матюня не понимает, что ей надо уходить…» Уходить от огня буржуйки, от запаха пищи. «И Матюня – этот семейный центр любви и помощи всем – ушла. Она глубоко верила в Бога, так, как нынче уже никто в современном мире не верит…» Вспоминая ужас перед тем, что делает мать, и крик брата: «Пусть Матюня останется!» – Конецкий пишет: «Но у матери были свои предположения на наш счет. Она лучше знала, сколько в каждом осталось жизни или сколько в каждом уже было смерти».
Матюня и Зика умерли через несколько дней, и описание их смерти – одна из самых пронзительных страниц в прозе Конецкого.
Любовь Дмитриевна с детьми была вывезена из блокадного Ленинграда по льду Ладожского озера 8 апреля 1942 года. В эвакуации они сперва жили во Фрунзе, потом в Омске. Во Фрунзе, как сообщает Т. В. Акулова, Олег «работал помощником чабана, в Омске – на 208?м военном заводе электриком, получал рабочую карточку. Там его ударило током, и рабочие закопали его в землю, чтобы спасти. В эвакуации закончил восьмилетку».
Что было дальше?
Осенью 1944 года семья вернулась домой, на канал Круштейна.
В феврале 1945?го Олега призвали в армию, и он, окончив шоферские курсы, попал в 20?й фронтовой запасной автополк – вывозили военную технику из Кенигсберга на немецких грузовиках и перегоняли ее в Ленинград. На фотографии той поры стриженный под ноль рядовой Базунов в застиранной гимнастерке уж никак не похож на бравого воина.
Осенью 1945?го, с началом учебного года, одновременно с братом Олег был зачислен в Ленинградское военно?морское подготовительное училище, расположенное сравнительно недалеко от канала Круштейна, в Приютском переулке, 3. «Один блат в моей жизни был, – признавался как?то Конецкий, – отец был знаком с начальником училища Николаем Юльевичем Авраамовым и замолвил за нас с братом слово. За войну мы отупели и экзамены как положено выдержать не могли… Днем учились, а по ночам ремонтировали училище, вытаскивали бревна из Обводного канала, разгружали вагоны на железнодорожных вокзалах, готовились к парадам, ночью же ходили в баню…»
Училище, в просторечии «подгот», считалось строгим флотским заведением, имело фундаментальную библиотеку, там давали серьезное специальное образование, но неписаные законы поведения меж курсантами, по словам Конецкого, были под?стать «законам бурсы». После двух лет «подгота» Олега, как и полагалось, направили в Высшее военно?морское училище имени Фрунзе (на набережной Лейтенанта Шмидта), – с третьего курса гидрографического факультета он демобилизовался. То ли по состоянию здоровья, то ли по каким?то иным причинам.
С этого момента пути Виктора, посвятившего флоту всю свою жизнь, и Олега, расставшегося с флотом добровольно, разминулись. Но и короткий опыт пребывания во флотской среде был неоценим: в этой среде существуют свои, овеянные традицией, представления о чести и долге. «Точно замечено, – утверждал Конецкий, – что флот всегда отличался тем, что, будучи невыносим для людей определенного вида, выталкивая их из себя, успевает, однако, дать им нечто такое, что потом помогает людям стать заметными на другом поприще, как бы оно далеко от флота ни отстояло».
В семейном альбоме есть фотография, на которой братья в форме морских курсантов сняты вместе с отцом; он в кителе, при офицерских погонах военюриста. Все трое пристально и как?то недоверчиво смотрят куда?то в сторону, в одну точку, словно ждут ответа на какой?то объединяющий их молчаливый вопрос, не подозревая – каким будет ответ.
Уроки академии художеств
В 1950 году Олег поступил на искусствоведческий факультет Института имени И. Е. Репина, в Академию художеств. Поворот от курсантского класса к вольной студенческой аудитории был резким, контрастным. Само присутствие в стенах старинной академии вселяло чувство причастности к великому искусству и ко многому обязывало.
Каким увидели Олега сокурсники?
О первом впечатлении от их знакомства в день собеседования с абитуриентами вспоминал Вил Невский, будущий реставратор: «Прислонившись к дверному косяку, спокойно стоит парень в синей фланелевой блузе навыпуск и расклешенных брюках, чувствуется, что это спокойствие ему дается нелегко. Помню отчетливую мысль: „Если нас не отвергнут, с этим парнем мы будем друзьями“. Нас взяли». И они действительно стали друзьями на всю жизнь. Сдав экзамены за первый курс, вместе со всей учебной группой поехали в Херсонес на археологическую практику, прошли пешком от Байдарских ворот до Симеиза; и в Крыму, и многократно в узкой длинной комнате с окном на Новую Голландию велись нескончаемые разговоры?споры обо всем на свете, и в этих разговорах скоро и откровенно проявилась беспокойная, нервическая натура Базунова. «Во внешнем облике Олега, в поведении, в отношении к людям, – вспоминал Вил Невский, – был не сословный, а какой?то особый, петербургский аристократизм. При нем нельзя было задать не то что нескромный, а чуть сомнительный вопрос, нельзя было дурно отозваться о другом человеке. От невзначай оброненного пошлого слова он бледнел и надолго останавливал на оплошавшем внимательный взгляд; от неуважительного отношения к женщине на скулах его вздувались желваки, и это было знаком того, что провинившемуся лучше уйти. Безупречная честность, часто мучительная для него самого, и абсолютная искренность, бывшая порой неудобной для иных, не лишали его облика теплоты и обаяния».
Вилу Невскому вторит Галина Звейник, рассказывая об их разношерстном курсе. Олег был старше других и взял под опеку вчерашних легкомысленных школьников, не очень?то представлявших свое будущее в профессии: «С ним было интересно говорить, спорить; слушая его, хотелось думать… В его внешности отсутствовала фактура, но сквозящие в глазах прозорливый ум и всполохи эмоционального настроя притягивали к нему. Обаяние его личности дополняли трогательная, я бы сказала, даже трепетная, доброта и удивительная деликатность, смягчающая порой резкие по сути своей суждения… Он взвивался, сталкиваясь с несправедливостью или непорядочностью, а с подлостью готов был вступать в рукопашную. Он был сложным, ранимым и противоречивым».
Учеба в академии требовала максимального напряжения. Брату Виктору Олег писал: «Личной жизни у меня уже давно нет. Я живу собраниями разными, обсуждениями выставок и тому подобными занятиями. Пишу все семинар по Сурикову. Ничего не получается (не совсем, но трудно)… Внутренне расту, это чувствую иногда очень ясно…» И в другом письме: «…у меня в последнее время были серьезные зачеты, один за другим. Готовился добросовестно. Эстетика, истор<ический> материализм, история философии, политэкономия, скоро экзамен по западному искусству. Законспектировал много литературы.
Могу похвастаться – на двух экзаменах зачеты поставили не спрашивая».
Обязательной учебной программой дело не ограничивалось. Базунов пробовал, как говориться, выходить со своими размышлениями на люди, в сферу научную. Лев Мочалов вспоминал его выступление с докладом на какой?то конференции: «Я уже заканчивал аспирантуру, он еще был студентом. Доклад посягал на решение всеобъемлющих вопросов теории искусства и отличался – по тогдашним меркам – чрезмерной самостоятельностью суждений. Аудитории он показался слишком усложненным, хранители (очевидно, необходимой в природе!) „вечной мерзлоты“ художественного космоса, стены академии не приняли прочитанного…»
Олег Базунов хорошо понимал, зачем он поступил в Академию художеств. «Моя задача в области ученья и вообще работы, – сообщал он Виктору, – это организоваться. Вторая задача более творческая и потому менее скучная. Суметь свое часто яркое и живое внутреннее индивидуальное восприятие жизни свести к возможности использования в творческой работе (не важно какой, но направленной не для себя, а для какой?то общей цели). Это трудная штука. Нужно делать так, чтобы не дать задушить свое „я“ требованиями момента…»
Частенько в переписке братьев проскальзывали и мысли о писательстве.
«Читаю сейчас „Войну и мир“, – делился Олег с Виктором. – Огромное наслаждение испытываю. Просто трудно передать. То кажется, что написано так просто, что можно сесть и сразу так же писать, то ощущаешь, какой огромный труд и какая гениальность в этой простоте заложены… Я пробовал понять, КАК он пишет. По?моему, он пользовался самыми простыми словами, понятиями. Он ими как бы лепит плотные литературные предметы и живые чувства. он мыслил не воздушными образами, а материальными, плотными, ощутительными».
Постепенно вырисовывались эстетические предпочтения – с оглядкой на великие примеры, появлялась готовность к кропотливой работе над словом. Олег рассказывал Виктору, как у него с одним их общим знакомым вышел незначительный конфликт на почве «копания в душе». «Мне этот вид спорта нравится, – признавался Олег, – ему нет. Я пытался доказать, что все великие писатели (истинно великие) были самокопателями, что хотя это до некоторой степени и отравляет жизнь человеку, но нельзя, не будучи самокопателем, быть хорошим психологом».
Какой бы консервативной ни была Академия художеств в первой половине 1950?х годов, как бы ни были горьки упреки кое?кого из выпускников той поры в том, что «профессии нас не учили и не умели учить», – для других, кто провел там с очевидной пользой пять лет, кому читали лекции не только марксисты?ортодоксы, а и Левинсон?Лессинг, Доброклонский, Дьяконов, другие замечательные преподаватели, для тех, кто умел взять от академии по максимуму, кто в общении с одаренными студентами?художниками вживе почувствовал, как бьется пульс истинного вдохновения, и кто внутренне рос, – для них пребывание в стенах академии явно не прошло даром.
Олег Базунов, озабоченный тем, чтобы его творческая работа была в итоге направлена «не для себя, а для какой?то общей цели», изучал мировое искусство кроме всего прочего и затем, чтобы разгадать секреты нравственного воздействия произведений искусства на любого человека, в том числе и на самого себя. Для будущего писателя в этом содержался существенный урок его пребывания в академии. Из академии Олег вынес благоговейное отношение к людям истинно талантливым, уже тогда ощутив, какой душевной мукой достигаются не только шедевры, а и любые честно исполненные творения – и картины, и книги, и музыка.
Олег Базунов окончил академию в 1955 году. Он уже был женат на Ирине Пестряковой, аспирантке института имени И. Е. Репина, где она потом преподавала на факультете теории и истории искусства. В 1953 году у них родилась дочь Марианна.
И тут Олег совершил поступок, похожий на вызов судьбе, – он завербовался в Жигулевск на строительство Куйбышевской ГЭС, где несколько месяцев проработал электромонтажником. Он, разумеется, не забыл о происшествии на омском военном заводе, когда после удара током его закапывали в землю. И снова – электричество? Зачем? Если, забегая вперед, вспомнить его рассказ о волжских монтажниках?высотниках «Рабочий день», написанный по возвращении в Ленинград, что?то, пожалуй, и прояснится…
В 1956 году Олег сменил отцовскую фамилию на фамилию любимой бабушки, чтобы, по его словам, «не пользоваться литературным псевдонимом».
Вернувшись в Ленинград, он, как сообщает Т. В. Акулова, «поступил в Русский музей научным сотрудником и оформителем, принимал участие в организации экспозиции советской живописи и выставок советских художников (Дейнеки, Машкова, Фаворского, Кардашева, Фрих?Хара, Чернышева), был хранителем постоянной экспозиции советского искусства. Работал над составлением научного каталога собрания советской живописи, над словарными статьями для тома „Ленинград“ БСЭ о ленинградских живописцах».
Потом музей покинул – из?за конфликта с начальством. Конфликта спонтанного и настолько бурного, что Олега, как рассказывает с его слов Ирина Рожанковская, «отправили в психушку, где к нему применили грубое и неадекватное лечение, о котором он не мог вспоминать без ужаса: какой?то ввели сильнодействующий препарат. Олег был убежден, что в этом лечебном учреждении (на Пряжке. – И. К.) его мозгу нанесли непоправимую травму».
Искусствоведческая карьера оборвалась навсегда. О чем, по?моему, Олег и не жалел, безоглядно отдавшись писательству
Что бы ни случилось в жизни, повторял он И. Рожанковской, «художник обязан любой ценой выполнить свое задание: любой ценой».
В 1957 году с рассказом «Рабочий день» Олег появился в Литературном объединении при издательстве «Советский писатель», где делали свои первые шаги Александр Володин и Виктор Курочкин, повоевавшие на фронте, и соловецкий юнга Валентин Пикуль, уже издавший свой пухлый роман «Океанский патруль», и его однокашник по «подготу» Виктор Конецкий, и Виктор Голявкин, оригинальный прозаик и живописец, еще студент Академии художеств, и вернувшийся после лагерей и ссылки Сергей Тхоржевский, и появившиеся там вслед за Олегом Андрей Битов и Валерий Попов – все они начинали печататься в альманахе «Молодой Ленинград», который составляла М. С. Довлатова, а руководили объединением почтенные «старики» Л. Н. Рахманов и М. Л. Слонимский. В гости сюда приглашали К. Г. Паустовского и Б. М. Эйхенбаума, пристально следила за молодыми дарованиями В. Ф. Панова. Словом, по своему творческому уровню объединение нисколько не уступало семинарам прозы московского Литературного института.
«Рабочий день» – крепкий по фразе, эмоционально свежий рассказ был принят придирчивыми «коллегами» благосклонно. Отмечалось, что автор – человек искренний, изощренно наблюдательный, дорожит точными деталями; и пейзаж, и работа монтажников, и неуютная бытовая обстановка выписаны им со знанием дела, «густо и плотно»; и состояние главного героя передано психологически правдиво, без непременного в подобных сюжетах излишнего пафоса. Помнится, обратили внимание и на то, что автору как бы тесно в границах его повествования, рамки сюжета сдерживают его устремленность в безбрежный мир, раскинувшийся за этими рамками и границами. «В ту пору, – вспоминала член объединения Г. М. Цурикова, – как, впрочем, и многие десятилетия после, читателя увлекал поиск разоблачающей правды?истины, уже довольно часто проглядывающий сквозь матовое стекло условного реализма. Ничего такого в книгах О. Базунова ни тогда, ни позднее не наблюдалось. Его увлекало совсем другое».
Действительно, Олег Базунов мог бы прилично, не хуже остальных писать вещи в меру правдивые и злободневные, выражая общественные настроения своего поколения, но такая позиция его никак не устраивала, его «творческий временной ритм» (вспомним Л. Я. Гинзбург) с самого начала его литературного пути не совпадал с чаяниями его поколения. Не противоречил этим чаяниям, но и не совпадал с ними.
Что же «совсем другое» его увлекало?
В 1962 году Базунов написал повесть «Холмы, освещенные солнцем». О студенте Академии художеств Борисе: он едет на лето в археологическую экспедицию куда?то вглубь Молдавии, ему двадцать лет, он жадно смотрит в окно поезда – он на юге впервые, – и предстающая перед ним картина «порождает в его душе радостное предчувствие открытия чего?то». В экспедиции Борис знакомится с москвичкой Инной, коллектором их отряда, с начальником отряда Григорием и молодым археологом Иваном; взаимоотношения этих героев – основа нехитрой сюжетной интриги; но не развитию этой интриги, в общем?то довольно банальной, подчинен главный авторский интерес. Интерес этот всецело связан с мироощущением Бориса, очарованного прекрасной древней землей Молдавии, с тем самым «предчувствием открытия», которое его не обмануло.
Если прибегнуть к привычным меркам, «Холмы, освещенные солнцем» не лишены пресловутых «недостатков». Юрий Казаков – ему Олег по дружбе давал читать рукопись первого варианта – сетовал, скажем, на то, что с героями повести не жалко расставаться, а нужно, чтобы было жалко: «…побольше мяса на Иване, Григории, Инне. И еще: хорошо бы было, если бы Борис не просто приехал в Молдавию на практику, а приехал бы туда после какой?нибудь мучительной полосы жизни. Диалектическая линия в характерах всегда должна идти вверх или вниз, или как угодно. У тебя же она идет ровно… Впрочем, м<ожет> б<ыть>, я не прав. В „Холмах“, – радовался Казаков, – много прелестного – ощущение жара и влаги, облака и земля, гроза, дороги, вода, все это написано вкусно. Люди же тронуты мало, и хотелось бы, чтобы и они были такие, как земля у тебя…»
«Люди тронуты мало», «побольше мяса» у героев – на этом будут настаивать впоследствии издательские рецензенты базуновских книг, но, не споря с ними, автор не сочтет нужным удовлетворить их претензии, полагая центральным своим персонажем рассказчика, душевную жизнь которого он будет препарировать в мельчайших и тончайших подробностях. Казакову же нужно отдать должное: с его исключительным чутьем он сразу уловил, что в «Холмах» прелестно «ощущение жара и влаги, облака и земля, гроза, дороги, вода», нащупав драгоценный нерв базуновской художественной ткани.
Смущал Казакова и дневник Бориса, занимавший в первом варианте повести непомерно большое место; пространные «теоретические рассуждения» заметно нарушали ритм и цельность повествования. Однако в этих рассуждениях Бориса (в окончательном варианте значительно сокращенных) было выражено то, к чему должен был стремиться как художник именно он, альтер эго автора. Исходной мыслью дневника было убеждение: художник на холсте должен сливаться с природой в единое целое, открывая людям «присущую природе внутреннюю правду и жизненную силу». Мысль эта ветвилась, перепроверялась, иллюстрировалась классическими примерами. Не случайно упоминались здесь и Сезанн, и Иванов («Явление Христа народу»), и композитор Сергей Прокофьев – каждого из них особенно любил и ценил герой повести за «характерную угловатость, терпкость», проявлявшуюся в цвете, в форме, в «вязке пространства». Так устами своего героя, еще не вполне профессионала, Базунов – в поисках собственной индивидуальной манеры – пытался сформулировать и утвердить для себя программу дальнейшей своей работы.
В дневнике фигурируют два типа художников, к писателям это относится тоже. Одни приносят изображение в жертву своей индивидуальности, показывая мир таким, «каким он представляется в свете их эмоций, переживаний, горестей и радостей. Изображение человека, пейзажа или натюрморта они используют как повод для создания своего лирического портрета». Другие художники, напротив, жертвуют своей индивидуальностью ради изображаемого на холсте, у них индивидуальность проявляется «в степени проникновения в глубины окружающего мира, в силе выражения этого проникновения». Такие художники «не стремятся к иллюзорной независимости от мира; растворяясь в нем, они достигают победы над ним».
Есть в искусстве (в литературе тоже) и два метода «постижения натуры». Один предполагает «проникновение в суть изображаемого как бы снаружи, через видимую оболочку вещи, отсюда необходимость точного изображения этой внешней оболочки». Другой метод предполагает «постижение пластической сущности объекта»; и зрительное, и осязательное, и мысленное, оно совершается «как бы изнутри объекта, от познанной в нем сущности», не скатываясь к «видимой упрощенной правде».
Себя студент Борис (и вместе с ним автор повести) относил ко второму типу художников и приверженцам второго метода «постижения натуры».
Заключительные страницы дневника звучали категорично и торжественно и были адресованы всякому настоящему художнику независимо от характера его индивидуальности: «Главное – это прорваться к вершинам человеческого духа. Главное – это, зная реальный мир и крепко стоя в нем, постоянно ощущать себя на самой грани познанного и непознанного, знать, носить в себе необъятность, бесконечность вселенной, бесконечную возможность познания каждого ее атома. Главное – это переплавить в своем существе, как в тигле, все познанное, продуманное, прочувствованное, угаданное, все разрозненные элементы жизни и вылить это в формы своего творчества. Главное – это глазами, умом, чувством сегодняшнего человека стремиться постичь и выразить вечную красоту, целостность и грандиозность мироздания».
В свое время Г. М. Цурикова, приводя слова из этого дневника: «Когда изображаешь мир, нужно чувствовать, как он живет, как он движется в пространстве и во времени. Но чтобы почувствовать пульс жизни мира, жизни природы, нужно быть предельно честным и самоотверженным», – не сомневалась: «Так не столько герой размышляет, сколько сам автор. И это не просто художественный – это нравственный посыл». Недаром герой повести думал, как важно, писала она, «уметь находить радость во всем – всей душой любить то, что изображаешь. И сегодняшний мир, и тот – исчезнувший; и людей как нынешних, так и прошедших уже по земле; только любовь дает силы развить в себе неустанное стремление к истине».
Без этого посыла программа, заданная Базуновым самому себе, потеряла бы всякий смысл.
Невымышленный рассказчик
Программа эта проглянула зримо в триптихе «Собаки, петухи, лошади» (1965–1966), первоначально – «Курья суть».
Триптих? Форма, свойственная более иконописи, чем литературе. Однако Д. С. Лихачев не зря предупреждал, что прозу Базунова «не включишь ни в один из известных прозаических жанров – это не рассказы, не очерки, не повести, не романы». Специфическую внежанровость своих произведений Базунов демонстрировал и в дальнейшем, о чем речь впереди, здесь же его тяготение к такого рода вольным художественным конструкциям проявилось впервые.
И что не менее, а, пожалуй, еще более существенно – в триптихе возникает фигура рассказчика. Как бы посчитав пробой пера и монтажника Николая из «Рабочего дня», и студента?художника Бориса из «Холмов…», героев в той или иной степени автобиографических, в триптихе Базунов препоручил бразды правления рассказчику, и это во многом обусловило сам характер повествования.
Рассказчик явно озадачен тем, что он наблюдает. Свои впечатления он склонен излагать преимущественно в форме вопросов, на которые не ждет прямых ответов. Предположения, основанные на догадках, недосказанность, неуверенность, скрывающая под собой твердую в чем?то убежденность, вычурная мелодика фразы, наконец, тщательная выверенность буквально каждого слова – все это отличает многослойную художественную ткань. Многослойную еще и потому, что наряду с невымышленным рассказчиком в триптихе периодически дает о себе знать и автор?повествователь. Грань между повествователем и рассказчиком едва уловима, и все же она есть. Рассказчик вспоминает о том, что имело место какое?то время тому назад, а повествователь, выдержав «паузу времени», комментирует случившееся. Невымышленный рассказчик – не клон автора и не копия, а скорее одна из его ипостасей: персонаж, исполняющий в произведении самостоятельную роль, неспешно тянущий сюжетную нить. Повествователь же раз от разу прерывает рассказчика, как бы «мешает» ему, отвлекает лирическими пассажами, истолкованием увиденного, спорит, обращаясь к читателю, настроенному скептически. И получается, что писатель ведет диалог с самим собой – в стремлении к какой?то лишь ему ведомой цели.
Но кто же он, рассказчик в триптихе?
Поначалу сведения о нем довольно скупы. Четко сказано лишь – он горожанин: в одном случае (первая створка триптиха) проводящий «летнюю пору» на берегу большого северного озера, в другом (центральная часть триптиха) – обретавшийся в октябре «в некотором дачном месте, в шестидесяти километрах от города». Иными словами, он некий заезжий дачник. Таких людей, уставших за год от городской суеты и сутолоки и устремляющихся летом отдохнуть на лоне природы, как говорится, пруд пруди. Чем они занимаются в городе – неважно, в статусе «дачника» они как бы лишены социальных и профессиональных примет, наедине с природой они все равны и могут предаваться любым чудачествам, каждый по?своему
Базуновский рассказчик внешне – один из этих безымянных. Только вот – он любит одиночество, и в тот долгий октябрь для него «самым сильным было наслаждение, испытываемое от этого самого одиночества, тишины и поздней осени». Он и тут, правда, не оригинален, а вот следующая деталь: «Строго говоря, я жил не один, со мной жили кошка и одиннадцать кур…» – может слегка насторожить, и, словно предвидя это, рассказчик уточняет: «О внешней канве моей жизни за этот месяц рассказывать нечего, если же обратиться к внутренней моей жизни, то, как и многим, наверное, мне кажется, что о ней, о внутренней моей жизни, нельзя ни в сказке сказать, ни пером нельзя ее описать. Здесь же я хочу рассказать, собственно говоря, не о своей внешней или внутренней жизни за этот месяц, а о жизни кур, которая неприхотливо текла буквально перед моим носом и спокойная естественность которой нарушалась лишь встречным ко мне любопытством».
О жизни кур… Так, может быть, он натуралист?орнитолог, наблюдающий за повадками домашних птиц? Вовсе нет. Пусть не покажется странным, но его больше всего интригует вот это встречное к нему «куриное любопытство», его обнадеживает попытка молчаливого взаимного общения с курами, когда он вдруг начинает чувствовать себя не таким уж и одиноким… Совершается нечто для рассказчика непонятное, а читателю постепенно приоткрывается та его сакраментальная внутренняя жизнь, о которой он (явно лукавя!) хотел умолчать. Этот сложный процесс таинственного общения с курами (и не только с ними) и есть предмет художественного показа в триптихе «Собаки, петухи, лошади».
Приняв, согласно своей программе, путь изображения «как бы изнутри объекта, от познанной в нем сущности», Базунов последовательно движется к постижению «курьей сути». В ежедневном общении с курами рассказчик узнает, что они не такие глупые, как принято думать, к новому человеку они привыкают быстро, они наивны, суетливы, доверчивы, а «некоторые из них так просто умны и благородны», как восхитивший рассказчика «огненный», «каленый?перекаленый» петух по кличке Генерал, наделенный мужественным и великодушным характером. И к людям куры относятся так, как мы относились бы «к какому?нибудь много выше нас организованному и вдруг появившемуся среди нас существу».
«Куры провожали меня на почтительном расстоянии в любой угол двора, до любой двери или калитки, куда бы мне не заблагорассудилось направить свои стопы, – повествует рассказчик. – Они, например, провожали меня до калитки, когда я, позванивая ведрами, отправлялся на речку за водой, они сопровождали меня и толклись в непосредственной близости, когда я просто так бессмысленно бродил по участку, они с крайним удивлением и любопытством вытягивали шеи, чтобы лучше видеть меня своим птичьим боковым зрением, то вправо, то влево вертя своими головами, только для виду, из деликатности только наклоняясь, чтобы клюнуть там что?то пару раз, щипнуть одну?другую травинку или гребануть лапой по листьям. И вид у них бывал такой удивленный, а глаза такие недоуменнорасширенные, в бедных куриных мозгах происходила, видимо, такая работа, какая могла происходить у нас в головах, когда к нам прилетело бы какое?нибудь неземное создание…»
Столь пространная цитата, думаю, извинительна. Она – пример обостренной наблюдательности рассказчика. И вместе с тем уже этот коротенький отрезок текста дает наглядное представление о неторопливом темпе изложения, о характерных даже в пределах одного абзаца повторах, инверсиях, о задумчивой интонации, превалирующей в эмоционально насыщенном базуновском тексте.
Так вот, сопровождая рассказчика по участку, куры хотели, как он решил, приобщиться к его «сути». Превосходство в уме относительно, а вот тяготение живого к живому (к общей сути) абсолютно. Ситуация требовала развития. Своим вниманием и поведением, полагаясь на врожденную интуицию, рассказчик завоевал у кур доверие, ловил их и брал на руки, разговаривал с ними, давая понять, что не нанесет им никакого вреда и тоже хочет «как можно полнее приобщиться к их сути». Словом, и куры и рассказчик были взаимозависимы в их едином стремлении к общению.
Между тем незадолго до того, как рассказчик наладил с курами контакт, его вытеснял в тексте повествователь, который предлагал читателю вместе с ним немного пофантазировать: «Небольшая доза фантазии в этом моем повествовании, – разъяснял он, – вполне допустима хотя бы уже потому, что все остальное, в нем рассмотренное, – это подлинные события и голые факты, я говорю это серьезно и хочу избежать малейших сомнений и кривотолков на этот счет». Фантазирует же повествователь о том, что в душе читателя, как и, наверное, в душах неопределенного числа других людей, имеются свой рай и свой ад; рай, подобно сказкам, населен добрыми существами и «человекообразными зверями», ад – «звероподобными людьми и чудовищами»; когда человек спускается в свой ад, он «бывает терзаем ими и, конечно, самим собой звероподобным». Фантазия, прямо скажем, зловещая. При погружении в личную преисподнюю, добавляет повествователь, сталкиваются, как два вихря, как два океанских течения, давление творческое и давление, образующееся от резкого и неожиданного спуска?погружения в эту самую личную преисподнюю. Любой человек (и сам автор тоже) в такой момент неминуемо теряет покой под гнетом зависающих над ним роковых вопросов, и ему, как ничто другое, благотворны тогда спасительные свидания с природой, даже вот и свидания с дачными курами.
Повествователь полностью солидаризируется с рассказчиком, и грань между ними в этих рассуждениях готова исчезнуть, но автор?повествователь об этой грани забывать не намерен и спешит восстановить статус?кво. «Здесь меня могут заподозрить в том, что вся эта фантазия… взята, так сказать, с натуры», – оговаривается он и, признавая, что и ему приходилось испытывать иногда «кое?какие приливы и перепады разных давлений» и на его душе имеются «кое?какие царапины», не замечает, что тем самым невольно противоречит самому себе, настаивая: с его душой «не происходило таких странных вещей, о каких вместе с вами мы позволили себе так чисто художественно пофантазировать». А если «кое?какой жизненный ветерок раздувал и во мне кое?какие наследственные недуги и изъяны», не может все?таки не признаться повествователь, то все эти фантазии он расписал для красного словца, «лишь для того, чтобы вернее доказать прекрасные целебные свойства чистой куриной сути».
Эта мысль важнейшая, принципиальная. Под этот тезис подпадают ситуации разной степени сложности. Целительные свойства «куриной сути» не были чем?то исключительным. В долгие вечерние и ночные часы того октября главным лекарством от душевных переживаний служила для рассказчика «суть кошачья». И его взаимоотношения с кошкой имели уже другой эффект, нежели с курами. В кошке не ощущалось никакого подобострастия, она, в отличие от кур, вела себя как существо с человеком равноправное, а порой и чувствовала свое превосходство над недогадливым рассказчиком. Кошка в общении с ним хранила свое достоинство еще и потому, что ждала котят. Уютно и блаженно улегшись на одеяло у рассказчика в ногах, кошка посапывала, вздрагивала во сне, и, когда рассказчик неосторожно сталкивал ее либо с извинениями подвигал в сторону, она обижалась и «величественно гордо» перебиралась на пустовавшую рядом койку Мудрая кошка охотно делилась с неприкаянным рассказчиком своим теплом и материнским блаженством и обижалась, кажется, не только оттого, что ее вынуждали покидать уютную постель, но еще и оттого, что глупый рассказчик не ценил ее бескорыстного дара.
Встреченные рассказчиком «иные сути» – будь то благодушные куры, или ревнивая кошка, или «до странности умный» пес (в первой части триптиха) – намекали и по?своему втолковывали ему: за его человеческое превосходство природа дорого заплатила, о чем ему не следует забывать. Во взгляде того пса недаром читалась «скорбь немого укора»: «…смотри, ты сидишь за столом, перед тарелкой, а меня как поставило когда?то на четыре лапы, так и не дает разогнуться и никогда уже не даст… разве я виноват, что, пробираясь по лабиринту, случайно свернул в ложный ход и попал в тупик, из которого нельзя вернуться… на столбовую дорогу; и, заметь, ведь ты так же случайно попал на правильный путь и нашел выход, случайно или нет вышел к свету, но я тебя уважаю за это… я весь тянусь к тебе, стремлюсь понять и полюбить тебя». Рассказчик признается, что всю эту «речь», уместившуюся в одном единственном собачьем взгляде, все, что им записано, «какую?то непроясненную глубину» он «внял не только от этого пса и не сразу… а на протяжении каких?то сроков, и только осветилось все это в один момент под впечатлением взгляда и выражения на песьей морде, с приподнятой бровью над глазом».
Базуновский рассказчик – отнюдь не безликий наблюдатель, он претерпевает внутреннюю эволюцию и в своем духовном поиске достигает как бы непредусмотренных поначалу результатов. Он не просто «отдыхает» на лоне природы, как делают миллионы среднестатистических дачников, – он улавливает глубинное родство с природой, и проводниками ему служат встретившиеся на пути иные «живые сути». Собака, и куры, и кошка удостаивают рассказчика искренним доверием, дают ему понять, что признают его своим, лучшим из них, и обещают ему свою любовь. Звери, сохраняющие в себе непосредственность, утраченную человеком, открывают рассказчику тайное тайных живой природы.
Окружающий рассказчика безбрежный мир предстает перед ним в новом свете, «вполне реальные изменения» рассказчик фиксирует и в своем сознании, и в своем поведении. Вопрос: «Почему нельзя предположить, что животные и птицы какими?то неузнанными пока что путями чувствуют, узнают, что мною наконец?то сделаны некоторые важные выводы и что я более или менее последовательно провожу их в жизнь?» – никак не выглядел праздным. Правда, какие изменения имеются в виду – он пока не расшифровывал, констатируя лишь сам факт свершившегося с ним превращения.
…А герой третьей части триптиха – конь. Не какой?то реальный, не конкретная «лошадиная суть», а конь из восточной сказки, точнее, с картинки из детской книжки. Автор сам удивляется, почему вдруг – конь? И пытается как?то объяснить сей неожиданный зигзаг в своем повествовании. Однажды, беседуя с кем?то на улице, он шутливо произнес: «Я хочу иметь коня» – и тут же почувствовал, что фраза эта сказана неспроста, что он действительно всегда хотел иметь коня. Желание завести, скажем, собаку значило бы «перетянуть в городскую квартиру кусочек природного естества», а желание иметь коня пахло уже перетягиванием его самого из города в природу.
Так вот, стараясь хоть как?то объяснить себе и читателю «фантастически бредовое», всесокрушающее желание иметь коня, автор пускается в воспоминания: то ли это желание возникло еще в довоенные времена, когда в городе было полным полно извозчиков; то ли когда (судя по всему, в эвакуации, в Киргизии) они с братом, «с родимым, любимым братом», на полном аллюре, в кровь сбивая тощие мальчишеские зады, гордо неслись с табуном в ночное; или в самый разгар войны, когда он осваивал верховую езду в геологической партии? «Нет, ни тогда, ни тогда, ни тогда, – горячился автор, – запало мне в сердце это желание: все эти пустые полемические вопросы заданы здесь мною в чисто художественных целях». Причиной же всему упомянутая книжка в картонном переплете, где излагалась древняя легенда о кочевнике?бедуине и его коне, спасшем хозяина ценой собственной жизни. Была там и картинка: всадник на белом арабском скакуне пересекал барханы, – а мальчику мерещилось, что это он сам, «пригнувшись и в бурнусе», взбирается по песчаным холмам.
Только вскоре выясняется, что и тот белый скакун вроде бы не единственная причина всплеска детского воображения. Автор, дотошно доискиваясь истинной первопричины, спрашивает себя (и читателя): «…правда ли, что все мои аравийские скачки и прекрасная дружба с белым конем запали мне в сердце лишь после знакомства с той книжкой, а не гораздо, гораздо ранее?» Но почему? – вправе удивиться читатель. На что автор ответить не в силах, и триптих остается «сюжетно» незавершенным, потому что для Базунова незавершенность всякого художественного произведения предрешена, это что?то наподобие непременного условия игры, как и потребность по ходу повествования комментировать рождающийся под пером автора текст.
Отдав дань «лошадиной сути» и детским воспоминаниям, автор заявляет, что мог бы теперь с чистой совестью поставить конечную точку, но и тут не поставит, считая нужным обратить внимание «критически настроенного читателя» на еще одно обстоятельство. Автор сочувствует вчуже услышанному мнению, согласно которому художественное произведение не должно создаваться по законам симметрии, а «подобно шкафу на трех ножках должно валиться» и «плыть в неопределенное». Однако, не принимая симметричность «мертвенно?математическую» он тем не менее склонен защищать, «если можно так выразиться, симметричность асимметрическую, какова в итоге симметричность всего живого, а также и так называемого мертвого – от древесного листа, от мухи какой?нибудь до звездно?планетного и галактического образования и самого человека…» Он и весь мир воспринимает в таких параметрах, «как нечто симметрическое, постоянно и периодически соскальзывающее в асимметрию и постоянно и периодически восстанавливающее свое равновесие». «Распределение основных пластических масс» в своем скромном, «несколько кривобоком» триптихе он рассматривает под тем же углом зрения, стараясь охватить взглядом нарисованную картину в целом и в то же время не упустить ускользающих символически значимых деталей.
Это в высшей степени показательно. Мысль об извечном природном равновесии и единосущности окружающего мира, о его, этого мира, «асимметричной симметричности» будет отныне постоянно будоражить воображение автора, погружающегося, чем дальше, тем больше, в «непостижимую глубину» собственной души.
А «призывно глядящий на зрителя» – в самом финале – гордый скакун все манил и манил заглянуть в прозрачно?призрачное пространство вечной пустыни, проникнуть за горизонты памяти, – в мир невидимый, незнаемый и необозримый.
Морские сны
Закончив триптих «Собаки, петухи, лошади» (1965–1966), Олег Базунов с 1966?го по 1971 год работал над «Мореплавателем» (в рукописи – «Дальнее плавание»), имеющим подзаголовок «Распространенные комментарии к одному ненаписанному рассказу». Отрывок отсюда – под названием «Зеркала» – публиковался в книге «Холмы, освещенные солнцем» (1977), журнальный вариант (с предисловием Д. С. Лихачева) в «Новом мире» (1987, № 6, 7) и, наконец, полный текст в сборнике «Мореплаватель» – в 1990 году. Если не сверяться с датами, может показаться, что «Мореплаватель» произведение итоговое, завершающее (последняя прижизненная публикация), но это не так: завершающими были «Записки любителя городской природы», то есть «Тополь», датированный 1972–1983 годами и напечатанный отдельной книгой до «Мореплавателя» – в 1984?м. Тем не менее «Мореплаватель» занимает ключевое положение в базуновской прозе.
Как и в «Триптихе», где автор оправдывал свои сюжетно?структурные вольности природными аналогиями, в «Мореплавателе», где оборванное начало задуманного, но ненаписанного рассказа утопает в обширных комментариях, с обилием далековатых ассоциаций, философских размышлений и воспоминаний, где комментарий откровенно превалирует над коротким изначальным текстом, автор опять же ищет уподобления избранной им форме – в природе, припоминая, что и в природе встречаются варианты, когда инородное тело становится «неотъемлемой частью совершенно нового целого», к примеру какой?нибудь минерал с вкраплением другого, еще более ценного минерала.
Ссылается Базунов и на классиков: у них какое?нибудь начало само по себе нередко вызывалось мимолетным капризом щедрого воображения, не имея «внутренних энергий и импульсов для полного своего воплощения», или воплощению мешала какая?то внешняя причина. У классиков даже небрежные наброски доносят до нас «некоторую влекущую тайну», и в этой тайне всегда мерцает «тайна личности и судеб самого гениального автора». Такая «возведенность тайны в тайну и в еще одну тайну незавершенности, оставшейся в тайне», и придает особенную прелесть гениальным отрывкам.
В данном случае у автора?повествователя была и чисто внешняя, бытовая причина, пресекшая работу над рассказом (он ее называет), и главное – писание рассказа совпало «с жестким кризисом, заложенным, так сказать, в развитии самой этой работы», кризисом, приведшим к окончательному краху первоначального замысла.
Нужно заметить, ощущение периодически давящего и ждущего своего разрешения духовного кризиса, чувство опасности витают над многими страницами базуновской прозы. Когда писатель говорит, что имеет в виду со временем использовать все прочие накопившиеся в ящиках «куски и начала и все те куски и начала, которые, возможно, появятся у меня впоследствии», – создается впечатление, что кризисные состояния для него чуть ли не обязательное условие творческой работы, преодоление кризисов питает его внутренней энергией. Может быть, еще в молодые годы, когда Олег писал брату, что понимает цену «копания в душе», пусть оно и отравляет жизнь человеку, что нельзя, не будучи самокопателем, быть хорошим психологом, – может быть, уже тогда он предчувствовал эту жестокую борьбу с самим собой.
Пять?шесть страниц отложенного в сторону рассказа, как сообщает автор, были написаны за полтора?два года до того момента, когда, выдержав, как и в «Триптихе», удобную «паузу времени», он вернулся к ним уже в ином душевном состоянии. Причем характерно: в «Мореплавателе» исчезает невымышленный рассказчик, а решению той структурной задачи, какую он выполнял в «Триптихе», теперь помогает как раз текст неоконченного рассказа. Автор препарирует исходный замысел, первоначальную сюжетную ситуацию, перебирает вероятные варианты несостоявшегося продолжения, фантазирует относительно будущего, уготованного его герою, – и все это, держа в уме исходный материал, эти самые пять?шесть страниц, имевшие и свой реальный источник. Казалось бы, проще было привести оборванное начало целиком и уже потом всяко обо всем рассуждать, но автор лишь информирует читателя: «…на маленькую железнодорожную станцию на берегу южного моря однажды, по причине глубокого семейного кризиса, прибыл и временно оставался на попечении бабушки некий мальчик приблизительно десятилетнего возраста…»
Рассказ, – с первых же фраз перенасыщенный союзом «когда», дающим возможность быстро придать повествованию необходимое ускорение, – двинулся было с места. Сложный повтор, наподобие маховика на оси, вокруг которой – уже в другой плоскости – должны были цепляться друг за друга эпизоды, вроде бы заработал. Однако «неотчетливость чувства и замысла автора», по его признанию, заведомо вела «к уже известному краху»: за натужным «как бы взбеганием на гору» следовало «неумолимое сползание и скатывание восвояси». Повествование буксовало и стопорилось. И потому не случайно следом за началом, «не имеющим в себе сколько?нибудь заметной событийной завязки или какой?либо любопытной интриги», сразу же вступает в свои права комментарий, обещающий прикоснуться к ранее упомянутой «влекущей тайне», возведенной в тайну незавершенности.
И море, и мальчик, и встреченная им на берегу девочка, да и глубокий семейный кризис, и бабушка – все до мельчайших деталей подвергается скрупулезному расследованию. Во?первых, на предмет соответствия героев реальности: «Был ли тот мальчик и была ли та девочка? Была ли та станция, то море и добрая бабушка?» На что автор отвечает: и море, и станция были, а мальчика, такого именно, не было, и такой девочки, «бесстрастной и ловкой пловчихи», вовсе не было. И с образом бабушки далеко не все гладко. Роль бабушки была вроде бы служебной, и вместе с тем, по замыслу автора, «образ этот должен был явиться как бы незримым, почти бессловесным, но тем не менее достаточно мощным противовесом. некоторых вызываемых в рассказе к действию сил». Наблюдалось непроизвольное слияние образов – родной и давно уже умершей бабушки и старушки, хозяйки того дома, куда мальчика привезла и оставила там на попечение бабушки его матушка. Призрак родной бабушки, вытеснивший перед внутренним взором автора лицо хозяйки дома, несет в себе скрытый намек, в комментариях так до конца и не проясненный. В остальном же соотношение того, что имело место в действительности и чего не было либо не должно было попасть в текст рассказа, получает в комментариях исчерпывающее объяснение. В частности, и тот факт, что автор неспроста поселил героя рассказа в далеком северном городе, желая вдохнуть в рассказ (и в комментарии!) «чувство бескрайнего простора», крепнувшее и крепнувшее в базуновском «внутреннем человеке».
Приоткрывалась постепенно другая плоскость: когда автор без всякого камуфляжа, впрямую говорил о себе. И понятно, что тут место осевой константы отводилось морю, претерпевшему в базуновском повествовании непростую трансформацию: от моря – природной данности, водной стихии к художественному образу моря, запечатленному в написанной части рассказа, и, наконец, к образу моря, перерастающему в едва ли не библейский символ в комментариях.
Автор радуется и нисколько не скрывает своего тяготения к морю, хотя он «как будто сухопутен до мозга костей». «Правда, в юности, – извиняется он, – мне пришлось немного поплавать, а два или три раза даже попадал на море в более или менее серьезные переплеты. Но какому?либо настоящему бывалому моряку об этих моих переплетах смешно и рассказывать – все это какая?то чепуха, какая?то капля в море по сравнению с их, моряков этих, суровыми, тяжкими опытами, – мне даже неловко вспоминать о них, о переплетах этих, в присутствии некоторых моих близких родственников…»
Человек сухопутный тоже способен испытывать неодолимую власть могучей водной стихии, «с огромной силой зовущей и влекущей его», но, в отличие от бывалого моряка, воочию лицезреть «ревущие морские просторы» ему вовсе не обязательно, он в состоянии ощутить мощь, громадность и прелесть моря, не ступая на палубу корабля, а лишь глядя на него с набережной: «Не знаю, что уж там и когда повлияло на мой душевный состав, – признается автор, – но я не свободен от тяги к морю: стоит мне на какой?нибудь невзрачной картинке увидеть кренящийся в волнах кораблик, стоит мне увидеть какую?нибудь пузатую, ребристую лодочку, стоит замедлить шаги, задержаться посередине ближайшего к заливу моста, заглянуть вниз с него, туда, где гранитное острие режет стремительную бегущую волну, и, сохраняя в сознании образ острия и воды, повести взгляд свой несколько выше, почувствовать, как мост вместе со мной плывет вверх по течению; стоит услышать похлюпывание воды среди свай или смолистый запах каната на пристани; стоит приметить вошедший в устье и ставший на якорь по его середине корабль… Стоит мне только приметить, представить все это, как поднимается во мне нечто сродное сквозняку в сторону моря, что буйно подхватывает и уносит со столов и шкафов до того мирно лежавшие на тусклой поверхности листы и бумаги…»
Море безоговорочно подчиняет себе автора: бродит ли он ночью, не справившись с бессонницей, по пустынным набережным; рассуждает ли о том, что море исключает понятие твердой вертикали, и обращает свой взор к спасительной заводской трубе за окном, единственной «внешней надежде» потревоженного сознания; или заводит речь о «воде наяву» и «воде в сновидениях». В сновидениях он возносится и над самим океаном – летает в разряженном и «совершенно не связанном с закругляющейся Землею» пространстве, где «кричи – не крикнешь, зови – не дозовешься…»
Переживания, так или иначе продиктованные морем, сопрягаются с не покидающей повествователя тревогой. И особенно – с такими полетами в сновидениях, когда море – «колоссальных размеров волна», встающая перед ним лицом к лицу, – преследует повествователя неумолимо. Как освободиться от инстинктивного чувства страха? «Корчась под какой?то скалой» (так и бывает в снах), «врастая в каменистую землю», стараясь забыть о страхе и смиренно ожидая рокового финала? Или, как в одну прекрасную ночь, почувствовать себя хоть на краткий момент крошечным жучком?плавунцом и скользить «по этим же водам, но уже в чем?то даже послушным», не испытывая уже «ни страха, ни робости перед грозной стихией»?
Путеводная мысль о море причудливо извивается, то пропадает, то появляется вновь – по модели набегающих морских волн, – и повествователь время от времени словно переводит дух, чтобы глубже и глубже погружаться в пучину мучающих его неотвратимых вопросов. Тех вопросов, что возникли еще в «Триптихе», – относительно «личной преисподней», где человек бывает «терзаем самим собой звероподобным».
И тут на фоне размышлений о море внимание автора надолго приковывает легко угадываемый мелвилловский «Моби Дик» и бунтующий капитан «Пекода», уносимый потоком неслыханной ненависти в «полную безмерной гордыни» погоню за белым китом, который стал для капитана Ахава воплощением мирового зла. Перед мелвилловским взором (в прочтении Базунова) разворачивается смертельная схватка двух «зверей» – того чудовища, что вольно плавает в океанских просторах, и «зверя малого», того, что «молотит беспощадным хвостом» истерзанное сердце капитана.
Но, может быть, фанатизм жаждущего расплаты капитана – лишь плод его воспаленной бредовой мечты и «его грудь пуста, как пустыня без живого колодца?» Может быть, он безумен, болен? Тогда несчастного капитана надо пожалеть, сложить о нем песнь «щемящей печали», – но не слагать ему гимна?! «Допустимо ли петь злое неистовство?» – обращается к читателю повествователь, напоминая, что в иные времена «мало ли было спето гимнов и безднам, и безумию, и неистовым порывам, и… временному или безвременному помрачению нашего рассудка, трезвого и порой, что таить, мертвящего больного рассудка?». Ведь куда разумнее предостерегать себя от порождаемых «внутренним зверем» терзаний, разбираться с собой, прежде чем делать тот или иной выбор. «Внутренний зверь», двойник, таящийся в каждом человеке, подсознательно бросает нам свой дерзкий вызов. По свидетельству И. Рожанковской, Олег «никогда не забывал о таящейся в человеческой природе возможности зла, о тонких его ферментах, трудно поддающихся контролю, и всегда был начеку».
Эмоциональный накал этих страниц не позволяет усомниться: содержание и болевые точки комментария всецело обусловливаются личной драмой автора, а сам комментарий к ненаписанному рассказу – своеобразный вариант лирической исповеди, вложенной в уста повествователю. Причем автор не скрывает: он мог бы даже кое?что из своих «морских снов» сопоставить с фактами своей биографии, но не сами эти факты важны для него в его исповеди, а их скрытый смысл, тот след, какой они оставили в его душе, то, как они влияли на его «душевный состав» и какое нашли художественное преломление в комментарии.
Убежденный в самодостаточности «внутренней биографии», Базунов лишь вскользь касался конкретных побудительных реалий, находя им соответствующее «иероглифическое», образное выражение. «Коварному стечению внешних явлений» писатель противопоставлял принципиальную «верность вещам», после чего «образы отдельных предметов», исполненные символического смысла, утвердились в «Мореплавателе» как своего рода «вехи или кардинальные знаки».
И первый из таких знаков – стена. «С раннего детства, – откровенничает повествователь, – я люблю глухие незрячие стены, и люблю их какой?то особой, трудно выразимой любовью». Не суетные, «зрячие стены», испещренные светящимися окнами, а глухие, запущенные, темные, запечатлевающие «сквозь время секущий разрез множества жизней и судеб», и в частности перипетии «одной?единственной, отдельно взятой семьи». Как та заветная глухая стена, что отвесно обрывается в канал на задах «одного из славнейших сценических зданий», стена, вдоль которой проходила когда?то «основная артерия» всех родственных связей автора: «…целые облака и туманности разнообразнейших чувствований и переживаний, всех этих сложностей любовных, родственных и свойственных связей, противоречий, конфликтов, нашедших одна на другую страстей, а порой даже, что таить, и упорной вражды, всех этих сердечных страстных биений и спазм, радостей, горя – сосредоточились, скрылись, запечатлелись когда?то в этой дивной стене, вошли, так сказать, в ее плоть, в ее будто бы бесчувственный камень».
Глухая каменная стена с первых проблесков сознательной жизни повествователя вбирает в себя и хранит время, а порой из этой стены источаются туманности счастливого (да, счастливого!) детства, – только чем дальше, тем все реже производит стена «свою живую вибрацию», и ритмы ее постепенно затухают. Тем не менее туманности детства, пусть все слабее, наплывают и наплывают. Не случайно в Олеге, как заметила И. Рожанковская, до конца дней «подросток просвечивал через реальный возраст».
Однако глухая театральная стена «запечатлела в себе не только родственные аспекты туманностей, чьего?там детства», но и подарила повествователю фантастический сон, и в нем «под куполом неба под эгидой ветра с залива, под эгидой темного и студеного моря, но в пределах пространства, ограниченного театральными стенами, кто?то с замиранием сердца топтался на каких?то невообразимых ходулях», а снизу, «из?за каких?то там накрахмаленных столиков» на странного воздушного акробата взирали «маленькие такие и сокращенные в ракурсах люди». Театральные восторги разом поникли перед смертельным риском таинственного акробата под куполом неба. Вымышленное сценическое пространство разомкнулось, взору открылась истинная арена под эгидой ветра с залива, – и это торжество природной стихии тоже было порождением глухой, якобы незрячей стены.
Повествователь добавляет: стена в комментарии, помимо смысловой, выполняет еще и «существенную конструктивную функцию», словно передавая невидимую эстафету второму, особо интригующему автора предмету – зеркалу. Зеркало – а это и просто «идеальная блестящая поверхность»; и «блещущее зерцало вод», с опрокинутыми в него небесами, лесами, уступами гор и городскими ансамблями; и зеркало комнатное, домашнее, – всякое зеркало, как и стена, многое в себе таит. Однако повествователь относится к «хищным зеркалам» с пугающим недоверием. «Не знаю, как вы, – обращается он к читателю, – а я – не люблю отражаться…» Ведь там, на поверхности зеркала «все, и ваше лицо в том числе, катастрофически наоборот и навыворот! Там, в зеркале – ложь!». Как и в зеркале старинного шкафа, «лживом и зловещем», навсегда утаившем в своей «бесстрастно?холодной мнимой глуби» события, «когда?то так потрясавшие неокрепшую психику…». Таков уж закон зеркал: при кажущейся восприимчивости, они не только искажают внешнюю картину, но и не способны, в отличие от глухой стены, хоть на какой?то краткий миг пробудить драгоценное душевное состояние, испытанное в раннем детстве.
Память о детстве на всем протяжении «Мореплавателя» остается и главным стимулом, и решающим побудительным мотивом, – память душевных состояний, кардиограмма сердечных переживаний, а не породившие их факты сами по себе. Авторский поиск направлен не от описания какого?то факта или сцены к фиксации вызванного им переживания, а напротив – от памятного переживания к упоминанию (всего лишь упоминанию) реалий, отраженных когда?то в зеркале домашнего шкафа. Используя зеркала как «инструменты памяти», повествователь ведет читателя к своей заветной цели кружным путем и, всяко перед читателем извиняясь, все же вникания в суть ему не облегчает и ответа на свои коренные вопросы сразу не дает.
Граница между миром видимым и тем миром, что прячется за океанским горизонтом реальности, в «Мореплавателе» мало?помалу стирается, готовая вовсе исчезнуть. Мир видимый перетекает в духовную, невидимую сферу с ее жесткими законами, эта сфера безгранична, бездонна, иррациональна, она учит человека внимать веяниям вечности и не помышлять о «конечном знании», в этой сфере властвует вера, – а вера, как однажды было сказано, – это «невидимое знание», постигаемое интуитивно, сердцем, но не разумом. Вера – это невидимая миру любовь.
Возвращаясь непосредственно к сюжету рассказа, повествователь обращается уже не к тем набросанным пяти?шести страницам, а к существующей лишь в его воображении части рассказа, к последним эпизодам и предлагает на выбор разные варианты финала.
Согласно первому из них, мальчик, приехавший на южное побережье из дальнего северного города и поначалу не умевший плавать, накануне отъезда без свидетелей бросался в неспокойное море, чтобы «лишний раз утвердить свою волю, так сказать, с глазу на глаз с самим собою». Когда же он, «до крайности изнуренный», истасканный волнами по камням, ступал на пустынный берег, оказывалось, что с берега за ним все это время «хладно или не хладно, но без какой?либо попытки зова на помощь» наблюдала его подружка. И вот здесь, по мысли автора, и должен был произойти заключительный их разговор, в котором «одна сторона высказывала тут же созревшее предложение о навеки нерасторжимом союзе», а другая, возмущенная, «решительно изрекала отказ», что приводило к самолюбивым горьким слезам героини, правда, и у героя появлялись «слезы любви и прощения». В этом варианте нетрудно было угадать благополучное разрешение наметившегося конфликта.
В другом варианте героиня точно так же убегала в слезах, а герой, «до глубины души потрясенный необъяснимым по его представлению поступком ее, говоря строго, даже предательством», не отвергал предложение о вечном союзе, хотя оставался в непосредственной близости от грохочущего гневного моря, «внешне до крайности жалкий», но «внутренне непоколебимый, ожесточенный нанесенной ему непостижимой обидой».
Был еще и третий воображаемый вариант финала, где автор вознамерился поднять того мальчика до высот мифологического героя. Реальность органично уступала «символу, понятому как реальность» (Вяч. Иванов). «Не здесь и не нам с вами прослеживать, какими путями – по данному, одному из последних вариантов конца – юный герой наш, минуя заключенные между древних земель и достаточно тесные проливы, моря и каналы, оказывается в конце концов посреди одного из мировых океанов», – уверенно заявляет автор, сосредоточивая все свои усилия на духовном преображении своего героя.
Какие «непреоборимо влекущие цели» толкнули неискушенного мальчика решиться на подобный отчаянный шаг? Сам ли он того желал, или его насильно смыла в море роковая волна? Как умудрился он почувствовать себя свободно в океанской стихии? А может, он «даже открыл некую прелесть в своем одиночестве»? Автор не в состоянии помочь своему герою и лишь благословляет его: «Нет, раз уж плывет, пусть плывет, пусть плывет за великим смирением… можно было бы крикнуть вдогонку два?три ласковых, ободряющих слова, но стоит ли посреди океана. нарушать суровое и в чем?то – не спорьте только со мною – возвышенное его одиночество…»
Первый и второй варианты финала оставались в рамках житейской мелодрамы, развязка в обоих случаях выглядела едва ли не банальной, а потому и не устраивала автора, обеспокоенного «тайновидением мира». Базунову его герой представлялся микрочастицей природной стихии, «атомом вселенского целого» (Вяч. Иванов) и только в таком качестве отвечал авторскому замыслу, намерению «утвердить, познать, выявить в действительности иную более действительную действительность», – как того требовал в начале ХХ века Вячеслав Иванов, чьи статьи?манифесты Базунов со вниманием читал.
Мысль о великом смирении – сквозная в «Мореплавателе». И неспроста полемически появлялся в базуновском повествовании обуреваемый гордыней и снедаемый ненавистью мелвилловский капитан Ахав – не размышляющий, а только чувствующий, – для которого мысль о великом смирении неведома и недопустима. У мальчика?пловца, теряющегося в океанском просторе, у базуновского «внутреннего человека» принципиально иной вектор судьбы. Он наделен бесценным даром смиренности, – и дар этот «в конце концов целительно сглаживает те разрушительные и противоречивые волны, что толкутся порой в наших сердцах».
Ближе к финалу, объясняя, к чему так или иначе «в благих и разумных пределах направлен пафос моих комментариев», признаваясь в очередной раз, как влечет его мысль о море, автор?комментатор задумывается: а можно ли взглянуть «на все затронутые вопросы» – глазами воды? Проникнуть в тайну воды? И «хотя бы на время самому стать водою»? Вода – первозданная стихия, она слепа, но в своей склонности к течению (движению) порой бывает несравненно мудрее «огражденного догмой сознания». Вода «в состоянии волны» олицетворяет бег людских переживаний и волн житейских. Спор человека с водой разрешается к общему благу, если только человек, «зарвавшись в гордыне», не поведет себя «слишком уж дерзко и самонадеянно». Комментатор и своим маленьким героем?пловцом восхищается потому, что тот в безбрежном океане не падает духом и не теряет и своего достоинства, и уважения к породившей его стихии. Иначе говоря – не теряет веры и надежды.
«О, дорогой мой, милый читатель, – обращается к читателю?другу автор на заключительных страницах „Мореплавателя“, – как велико бывает порой в повседневной нашей и слишком неестественной или слишком?то уж естественной жизни значение самого скромного, самого робкого лучика, вдруг пришедшего откуда?то там, из каких?то бездонных глубин, вдруг уколовшего наше сознание и что?то в нем осветившего!» Этот крохотный лучик, дрожащий, мерцающий, продрогший на холоде, «проникает куда?то там, что?то там колет, что?то там вдруг освещает, и вы, естественно, куда?то стремившийся или тем более никуда не стремившийся, вдруг останавливаетесь как вкопанный и долго стоите так, чутко прислушиваясь к происходящему…».
В «Мореплавателе» до самого финала нет сюжетной четкости. Последняя фраза – «на этом рукопись обрывается» – свидетельствует, что автор и здесь остается в плену незавершенности, будучи уверен, что завершенных сюжетов не бывает и быть не может. Чем дальше робкий светлый лучик надежды уводит базуновского «внутреннего человека», тем явственнее становится бесконечность открывающегося перед ним пути.
Тополь за окном
Расставшись с «Мореплавателем» в 1971 году, Базунов обратился к «Запискам любителя городской природы», к «Тополю», – и эта работа продолжалась без малого десять лет.
«Записки любителя..…» Сегодня можно услышать в этом словосочетании что?то снисходительное, слово «любитель» давно воспринимается как «дилетант», антипод «профессионала», у
Даля же при единственном значении («любитель» – «охотник до чего, любящий что») рядом стоит «любознание» – «любовь к познаниям, желание поучаться», «любозритель» – «занятый созерцанием чего» и «любомудрие» – «наука о невещественных причинах и действиях; наука достижения премудрости, т. е. понимание назначения человека и долга его, слияния истины с любовью». Базуновский любитель сочетает в себе все эти оттенки: и желание поучаться, и созерцательность, и – главное! – слияние истины с любовью. В «Тополе» повествователь впитал в себя наблюдательность невымышленного рассказчика из «Триптиха», его ощущение исконного родства со всякой «живой сутью», из «Мореплавателя» воспринял «возведенность тайны в тайну», память душевных состояний, связанных с детством, мысль о «великом смирении». Исповедальность базуновского «внутреннего человека» достигла в «Тополе», кажется, максимальной искренности.
«Тополь» по своей структуре (в нем три главы) – тоже своеобразный триптих. Первая глава – «Дом, комната, окно» – посвящена отчему дому на канале, с его неповторимым лицом и «не похожей ни на чью другую душой»: дом прислушивается к чему?то посреди городской суеты, сутолоки и шума либо грезит о чем?то, поверх соседних крыш и «ветвей древесных» вглядывается вдаль, «будто ему одному что?то там открывается вдали, за далью ли, в прошлом ли, в будущем ли». Вторая глава – о тополе за окном, о дереве, поражавшем автора с самого раннего детства (и о древе жизни тоже). Венчает «Тополь» третья глава – «Ветер, наводнение…». Она как бы дорисовывает предложенную автором проекцию – от детства в родном доме до зрелых лет, до осени человечьего века. В предзимнем увядании природы, таящем в себе каждый год новое возрождение, базуновский повествователь силится нащупать пути к душевной гармонии.
Пульсирующему тексту «Тополя» придает художественную цельность органическое слияние трех реальностей – предметной, интеллектуальной и эмоциональной. Смыкаясь воедино, они создают такую изобразительную фактуру, когда и бытовой фон, и биографические подробности, и философские умозаключения подчинены всеохватывающей лирической стихии. Сила лирического самовыражения у Базунова стимулирует поэтическую энергию, в своем истоке сопредельную с той, что вообще свойственна природным процессам.
Итак, дом. Отчий дом на канале. Он стоит, «утвердившись фундаментом своим в сыром, диком болоте, упершись старыми глухими боками в глухие бока сородичей и соседей», он – полноправная частица города, такая же, добавим, как и в нескольких кварталах от него памятник легендарному императору, подъявшему город «из тьмы лесов, из топи блат». При таком соседстве и лицо дома порой кажется его обитателям «величественным, возносящимся ввысь, глядящим на тебя снисходительно или даже сурово, даже с презрением некоторым». Но в какой?то счастливый день дом предстает совсем иным, смотрит на своего жителя сочувственно, с пониманием его невзгод и горестей, открывая ему свое «добродушное до неузнаваемости лицо, даже подслеповатое и растерянное… даже робкое, даже грустное в своей робости лицо». Эти два выражения лица, два состояния, горделиво?назидательное и печально?сочувственное, эти две доминантные эмоциональные ноты определяют общую психологическую ситуацию на всем протяжении «Тополя».
Дом на канале, вполне конкретный, описанный в мельчайших подробностях, – конечно же, еще и одушевленный символ города. Недаром ностальгическая картина «долгожданного и страшного» капитального ремонта, предваряющая повествование, подается как метафора времени и попытка «проникновения в сложнейшие оттенки человеческого бытия». Дом думает думу о безжалостно сокрушенных мраморных подоконных досках («За что почто их?то болезных…»), о копившейся из десятилетия в десятилетие усталости в старых балках и перекрытиях, о стенах, «главном средоточии совести и памяти», единственно сохранившихся его устоях. Дому снятся странные сны, одолевают кошмары, «какие?то навязчивые мысли, порой сожаления и даже как будто раскаяния» не дают ему покоя. Но, спрашивает повествователь: «Может быть, все это вполне естественно и законно? И, может быть, даже было бы плохо, если бы так не было?» Жизнь нынешних обитателей дома заслуживает неменьшего внимания, чем исчезнувшее прошлое. Дом наблюдает за новыми людьми, расселенными в его «ячейках», и не скупится на врачующие усилия: «Да, настоящий, прочный, душевный дом добр и любвеобилен, он любит людей, живущих в нем, и, бдя денно и нощно, помогает им и пестует их…»
Дом по?родственному предан своим обитателям и призван пробуждать в них столь же чуткое ответное чувство, связывая их «невидимой благой нитью душевного тепла». Д. С. Лихачев неспроста сказал про Базунова: «Лучше всего читать его, когда рядом сидит кошка или когда собака положила вам свою голову на колени и смотрит преданно. Преданность – вот то чувство, которое возникает в читателе по отношению к окружающему миру и которое, кажется, разлито вокруг вас и обращено к вам». Когда автор вслед за домом описывает свою комнату, это чувство, пожалуй, еще более возрастает. И сама комната, и вещи домашнего обихода, самые невзрачные в ней предметы неуловимо (под пером писателя!) источают эту преданность, словно подтверждая органическую слитность их совместного существования.
Потому?то и предметная реальность в «Тополе» так выразительна и сродненность повествователя с узкой, вытянутой, похожей на пенал комнатой так наглядна. Повествователь душевно спаян со своим «несуразным» жилищем настолько, что, даже если его тут замуруют, он не очень?то будет горевать. «Более того, страшно вымолвить даже, – признается он, – я был бы, кажется, по временам даже рад своему заточению…» Он, похоже, шутит, однако мысль эта («живешь словно замурованный») нет?нет да и мелькает в «Записках», правда, уже в ином контексте.
В самом деле, о каком добровольном заточении позволительно фантазировать, если в комнате есть окно – образ для Базунова знаковый. «Все в моем жилище подчинено окну, – спешит предупредить читателя повествователь, – все тянется, тяготеет, стремится к нему… все любит его и восхищается им, все, не колеблясь, признает его своим средоточием…» Повествователь извиняется за, может быть, нелепую привычку: он до страсти любит смотреть в окно своей комнаты, предаваясь самым невероятным мечтаниям. Он так сроднился с пейзажем за окном, так привык к его нескончаемым метаморфозам, к калейдоскопу, – в котором «и листья, и строения, и голые ветви, и снега, и дожди, и облака» пульсируют в некоем ритме и сливаются в единый поток, «сам по себе, без чьего бы то ни было наущения играющий и поющий». Повествователь чувствует в такие моменты, что и в нем «есть чему пульсировать, возникать и вновь пропадать», его душевные порывы подвластны тому же стихийному потоку.
Не в этом ли очевидный смысл «общего феномена окна»? Ведь живи повествователь где?нибудь в светлой мансарде под крышей или, напротив, в каком?нибудь подвале с окошком на уровне мостовой – эффект окна будет одинаков: самое маленькое окно зовет человека воссоединиться с внешним миром. Распахни окно – и комната твоя уже не «ячейка» городского дома, а грот, бухта или залив «мирового воздушного океана». Вместе с тем эффект окна неоднозначен. Распахнутое настежь окно манит безбрежными пространствами, а базуновский повествователь, вопреки собственным восторгам, вдруг заявляет: «Я почему?то отдаю предпочтение не распахнутому настежь окну, а окну, закрытому наглухо».
Откуда такое противоречие?
Повествователь вспоминает детское состояние, когда его, закутанного, везли куда?то сквозь враждебную и холодную непогодь, сравнивает это состояние «укутанносги» с тем, какое испытываешь, глядя в теплой комнате на свирепствующую за окном стужу, – и чувство защищенности от «вовне существующего холода» пересиливает в нем романтические порывы, вызываемые распахнутым окном. «Или, может быть, это, помимо воспоминаний, – повествователь хочет доискаться причин своей непоследовательности, – присущее тебе, как и всякому существу, желание быть на грани, ощущать в единый момент противоположные и исключающие друг друга состояния?» Тревожное ощущение грани хорошо знакомо базуновскому «внутреннему человеку». Противодействие внешнего холода и того тепла, какое он старается в себе сберечь вопреки любым обстоятельствам, определяет и его душевное самочувствие, и его поведение.
Противостояние тепла и холода, света и мрака, добра и зла наглядно отражается в борьбе света и тени. Тень в комнате вездесуща: она ютится за каждой вещью, за каждым предметом, и стоит свету чуть ослабнуть, тень, «как во все времена», тут же совершает свои коварные набеги. Тень многолика и агрессивна. А свет? Что есть белый свет? Как описать «этот каждодневный, верный, постоянный, незаменимый, любимый и желанный – и незаметный, как сам живительный воздух, которым дышишь, – ток света»? Свет, проникающий в комнату из окна, победительно животворен, он дарует жизнь: «Вот уж поистине кто знает, что такое окно, и должным образом ценит его, так это лист комнатного растения. Вот уж он знает, где в комнате источник света и жизни…» Зеленый лист, пронзенный солнечными лучами, подталкивает повествователя отвлечься от описания столь дорогой ему комнаты и погрузиться взглядом в городскую природу.
Повествователь так и поступает, во второй главе «Тополя» он меняет направление своего взгляда – и читателю открывается «один?единственный вид»: он дробится на бесчисленное множество «сочетаний, соотношений, коллизий», предстает в самых неожиданных ракурсах. Динамичная смена ракурсов, игра пространственных планов увлекает читателя, по?своему заменяя ему отсутствующий событийный сюжет. Организующую, текстообразующую роль выполняет в «Записках» интеллектуальная реальность – те стратегические нравственные идеи (в их поэтическом воплощении), вокруг которых и формируется повествование.
Уже говорилось, что книги Базунова не имеют привычных жанровых соответствий. Кто?то воспринимает «Записки» как поэму в прозе, для кого?то они ближе всего к трактату, у Бориса Сергуненкова они вызывают в памяти «плетение словес» древнерусских писателей. Т. Ю. Хмельницкой «Триптих» представлялся «юродиво?косноязычной, на грани пародии, но существенно?просветленной повестью». А Ирина Рожанковская, вспоминая, как Олег познакомил ее с книгой Игоря Глебова о музыке, признавалась: «Вчитавшись в нее, я в какой?то момент, как любил говорить Олег в таких случаях, „всплеснула руками“, – рассуждения музыковеда о симфонизме как о целом, данном в движении творческом бытии, или о принципиально неисчерпаемой фуге, или его концепция формы как рожденного в творчестве организма оказались идеальным комментарием и ключом к прозе Олега…»
В конце концов, дело не в жанровых соответствиях, а в том, что Андрей Битов как?то назвал состоянием и дыханием прозы. Товарищи Базунова по литобъединению ценили естественность творческого волеизъявления превыше всего.
Виктор Голявкин по поводу «Тополя» подметил: «Повествование выдержано в форме прерывающегося монолога. Но это не сбивчивый, спотыкающийся, уже известный литературе поток сознания. Это другое, странное и интересное явление. Изливающаяся водопадом слов душа лирического героя; ливни слов, не имеющие целью обрисовать некую объективную реальность, выдать некий образ, зарисовку, впечатляющую картину, но как бы изливающие саму душу, ее настроения, состояние…»
А Валерий Попов писал, что в «Мореплавателе» (и в «Тополе», добавим, тоже) Базунов «пускается в почти безудержное, свободное плавание по морю своих мыслей, ассоциаций, видений. Одна чрезвычайно тонкая и точная, характерно базуновская мысль поясняет и стиль этого произведения, стиль свободного развития ассоциаций: иногда, чтобы поймать что?то чрезвычайно важное, но ускользающее, „не нужно сосредотачиваться, а, наоборот, нужно забыться и рассредоточиться“. Поэтому неправомерным был бы упрек автору в многословии: автор показывает не саму мысль, а тернистые, часто тупиковые пути поиска, поэтому оставлять лишь результат – значит разрушать жанр».
Обратимся же ко второй главе. В начале ее, прежде чем прибегнуть к виду из окна, повествователь рисует городскую панораму с высоты девятого этажа: «До самого горизонта море крыш и торчащих среди них древесных вершин. Красные, бурые, ржавые, зеленые крыши и блещущие купола, и барабаны, и шпили, и башни, и трубы, и флагштоки. Какой простор! Сколько воздуха! Сколько света! И как близко небо…» В этой панораме, в этом «каменно?лиственном месиве» – как и в просторе морском – видится нечто вечное, зовущее ввысь, в мир горний, нечто смущающее душу своей грандиозностью. Город, подобно морю, внушает повествователю священный трепет, – а он, «слабый и грешный», не в силах отрешиться без остатка от мелочной суеты и слиться с великим и вечным: такое по силам лишь святым пустынникам с чистой, незамутненной душой, он же, повествователь, готов к этому только стремиться. Из его комнаты, с третьего этажа, открывается не море крыш, «но вполне конкретный и ограниченный вид» – территория, обжитая им с детства.
Отныне прерывистую нить повествования и будет удерживать этот вид: строения Новой Голландии, откос на противоположном берегу канала и деревья, «всюду, куда ни взглянешь – деревья…». Вид живого дерева за окном и образ дерева, «единая, живая, воплощенная идея его» на старинной гравюре – в детстве ее так упоительно было рассматривать на стене, – олицетворяли собой тот окружающий мир, который вбирал в себя и предметную реальность дома и комнаты, и распахнутое окно, и небо, и деревья на откосе. Символом этого многоликого мира (с его единством всего Сущего) и было дерево в древнем, библейском ореоле: «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла…»
Приведя эти слова, повествователь наконец обращается к милому его сердцу откосу, на первый взгляд «вполне вроде бы затрапезному участку» с разномастной зеленой порослью, затаившемуся в двух шагах от «каменного засилья и тяжкой, безостановочной спешки?движения». Такие крошечные зеленые островки, случайно сохранившиеся в пику чьим?то скоропалительным планам «ничейные полоски земли», образуют в огромном городе причудливый естественный ландшафт и, будучи неотторжимыми частичками города, живут по тем же законам, что и гигантские где?то леса, и вся остальная природа.
Из окна в солнечный день откос, «ясный, прозрачный, как стеклышко», может показаться «счастливым леском?перелеском». Если же повнимательней приглядеться и поразмыслить, картина обнаружится вовсе не безмятежная. У поросли на откосе хватает конфликтов, там свои страсти, достаточно представить, как дерзко ведет себя «рвущаяся к воде коловерть веток и веточек». Повествователь осведомлен: «Все вроде бы так! – соглашается он с неким „мрачным свидетелем“, не скрывая, какое восхищение вызывает у него „вся эта все преодолевающая воля“. – Да в то же время…» А что, если деревья на откосе не только соперничают в борьбе за выживание, но и поддерживают друг друга, «излучая что?либо, как?либо подавая благие сигналы, подымаясь единым станом и стоя порой все за всех»?
Так в «Записках» крепнет мотив надежды, а в поле зрения повествователя надолго попадают тополя за окном. Не будь в городе тополя, не расти он на каждом шагу, город «приобрел бы иную стать, совсем иное лицо, да и не только лицо, но и душу», – считает нужным загодя предупредить повествователь, убежденный, что тому есть «какие?то глубоко скрытые и таинственные причины, тяготения и даже неосознанные, возможно, симпатии». Повествователь с детства ощущал такое тяготение, свою духовную причастность к влекущей тайне и тополя, и города и теперь надеется в своих многолетних ощущениях разобраться.
Он вспоминает «буквально культ веток, листьев, цветов, заведенный в доме с легкой руки матушки», власть, какую приобретали над ним приносимые матушкой ранней весной тополиные ветки, красовавшиеся потом в китайской вазе, вспоминает счастье лицезреть хотя бы одну?единственную ветку, а если повезет, наблюдать, как она распускается. «Загляни?ка попробуй в тополиную ветку!.. Ведь и за тополиной веткой нужно кое?что различать!» – зовет читателя?друга повествователь, силясь и сам в тысячный уже раз проникнуть душой «за разрозненный внешний край жизни». К тому же стремился, как помним, и невымышленный рассказчик в «Триптихе», постигая «куриную суть».
Для базуновского «внутреннего человека» мир природы един и суверенен в каждом своем индивидуальном проявлении. Повествователь категорически не согласен с бытующим выражением «похож как две капли воды». Он не сомневается, что «нет в природе и двух капель воды, абсолютно подобных друг другу», и двух листьев с одной и той же ветки, и двух близко растущих деревьев, и двух даже родственных человеческих лиц.
Вот и три «взрослых, давно уже сложившихся» тополя за окном имеют «разительно несхожие натуры». Один (если смотреть из окна, правый в ряду), «полный биологической спеси» красавец, с кроной «как пламя горящего факела», имел, что не сразу выяснилось, «скрытое для глаз раздвоение», два ствола при явном подчинении одного другому, и демонстрировал, несмотря на это, завидную цельность. Средний тополь – достойный сострадания «несчастный заморыш», с редкими ветвями, хилый, но исключительно стойкий «назло всем?то бедам» и, кто знает, какие благотворные «токи?лучи» источавший. Наконец, третий, «обыкновенный, будничный», с вялостью форм, «леностью и задумчивостью позы», «с неким отсутствием выражения» – родимый и единственный в своем роде трехствольный тополь… Корни его упрятаны глубоко в земле, крона поднимается над крышами зданий, «коренной, наклонившийся несколько ствол на высоте двух с половиной саженей над землею расходится тремя стволами?поствольями». А между постволий возникает «то особое, присущее этому дереву внутреннее пространство, то особое свойство его древесной души», которое так влечет к себе повествователя: «Знаете, как бывает, когда рассуждающая о чем?то рука чуть приподнята над головой и три главных пальца, устремленные вверх, пытаются выразить жестом что?то неопределенное, неуловимое?»
И приносимые матушкой свежие тополиные ветки, подававшие «благие сигналы», и благотворные «токи?лучи», источаемые тополем?заморышем, и возникающее между постволий пространство, внутренний мир дерева, околдовавший повествователя, – все это звенья одной, и видимой и скрытой от глаз, цепи, бесконечной и символической. «Древесная душа» (как в «Триптихе» «курья суть») посылает человеку свои врачующие сигналы, а он силится их воспринять, услышать в них нечто молитвенное и с благодарностью на эти сигналы отозваться.
Повествователь обращается к тополям на откосе не ради их картинного описания (богато оранжированного его воображением), – он прежде всего старается с предельной искренностью воспроизвести свою реакцию на то «неопределенное» и «неуловимое», что дарует ему любимый тополь. Задача неимоверно сложная: найти путь к художественной ясности, не впадая ни в картинность, ни в резонерство. Базунова неслучайно мучает вопрос: «Как выразить в словах это распространяющееся сквозь пространство состояние задумчивости и тишины, это отсутствие и присутствие в то же самое время, это излучающееся умиротворение, эту непринужденность, простоту и естественную многозначительность?» Справиться с этой задачей помогает отмеченное когда?то Глебом Горышиным «поистине юношеское воодушевление автора» в сочетании с «обостренным художественным тактом». А еще – разнообразие интонаций, от мажорной до иронической, соответствующая им стилистическая инструментовка и, конечно, внутренне напряженная, приподнято?разговорная манера речи, определяющая общий ритмический рисунок «с замедленным пульсом, но с большой его наполненностью» (Д. С. Лихачев). Словом, все то, чем так богата эмоциональная реальность базуновской прозы.
Но почему же так дорог повествователю именно третий тополь? Оказывается, за спиной двух других высилась стена, соседними строениями они были как бы заперты на ограниченной площади, не видя между домами никакого просвета, а этот тополь расположился чуть?чуть на отшибе, на углу, и за ним открывалось уходящее по косой вдаль городское пространство, оно отзывалось внутреннему пространству тополя, «оживая в нем и оживляя его». Скрещение двух пространств – внешнего и внутреннего, видимого и невидимого – порождало их перекличку…
Зафиксировав этот «пространственный узел», повествователь смог в новом ракурсе увидеть и громоздкие здания Новой Голландии, и окрестные крыши, уповая на то, что и «всякую обыкновенную житейскую крышу» должно осенять хоть одно какое?нибудь дерево; он с грустью вспомнил журавлей, редко, но все же бороздящих в четком строю городское небо, его мысленный взор, минуя городские пределы, порывался уже с легкостью улететь бог знает куда, «в любые стороны света, в любые страны и океаны», – но повествователь возвращался к своему тополю, вглядываясь «в глубокие борозды и расщелины коры дерева, погружаясь сознанием в темные потоки времени».
Тополь, с корой, напоминавшей «изборожденную расщелинами поверхность Земли», по?своему ощущал и отражал время. Если попристальнее приглядеться, можно было различить на коре «рубцы, шрамы, травмы», нанесенные дереву и давно и недавно, можно было приметить, как благодаря непредвиденно таившимся в нем силам дерево залечивало нанесенные ему раны. За узором, начертанным на коре временем («Эти чередующиеся ритмически, вытянутые плитки и расщелинки, черные и пепельные, эти перемежающиеся хребты и ущелья»), скрывался «какой?то остановившийся, замерший или продолжающий незаметно для глаза движение ритмический процесс». Изначальной «виной?причиной» тому процессу было «уводящее вглубь до седьмого колена, уже само семя». Определять, когда и откуда тополиное семя с его животворящей силой вело отсчет времени, свою генетическую родословную, было бы бесполезно, – энергия семени в глуби времен, в таинственном всеобщем живом потоке смыкалась с космической бесконечностью. И выросшее из семени дерево, на своем витке, фатально продолжало этот процесс, не знающий временных границ ни в прошлом, ни в будущем. При всей непостижимости этого процесса, для повествователя, однако, было ясно: «погруженное в себя самое, обращенное внутрь себя» дерево «осознает свою слитность, единство со всем сущим» и в то же время свою неповторимость.
Помятуя об этом, повествователь и обращается к «истории родимого тополя», известной ему по рассказам старожилов и собственным, еще детским, наблюдениям.
Высказывались разные версии появления тополя на откосе: то ли какой?то служитель в Новой Голландии срезал ветви с могучего тополя неподалеку и со знанием дела укоренил их на гребне откоса, то ли чей?то седой дед, хромой инвалид, привез откуда?то саженцы… Свидетельства очевидцев нередко взаимоисключали друг друга, но все соглашались, что первые пять лет слабенький еще тополь, «былинка», рос беззаботно, опекаемый жильцами дома, потом в жизни тополя открылась трудная полоса, сперва (по всей вероятности, от удара кузовом машины) его согнуло, а позже по приказу какого?то ретивого самодура?начальника юное деревце постригли на заморский манер по форме шара. Потребовалось немало лет, пока начальственная блажь забылась и крона обрела свою естественную стать. Трудная полоса сменилась полосой светлой: тополь гнал корни все глубже, множил ветви и поветья, клубил крону, но однажды над тополем опять надругались: отсекли его вершину до уровня второго этажа, крупные и мелкие ветви обрубили, и от тополя остался «жалкий, голый, троепало распилившийся, кривой, безобразный обрубок». Казалось бы, тополю суждено было зачахнуть, но он и после такого варварства нашел в себе силы воскреснуть.
История сама по себе трогательная и поучительная, но повествователь излагает ее не только и не столько восхищения или возмущения ради. Чувствуя свою неизъяснимую близость, свою сродненность с тополем, он еще раньше задавался вопросом поистине пародоксальным: а чувствует ли тополь эту близость? Знает ли, что повествователь выделил его среди других деревьев? О многом повествователь хотел бы спросить у тополя, среди прочего и о том, помнит ли дерево, как он мальчишкой и летом, и осенью, и зимой, и весной «дышал свежим воздухом» в сопровождении матушки, любимой бабушки или доброй тетушки? Как резвился под его кроной, а то и, причиняя дереву боль, по?детски, бездумно обламывал хрупкий прутик, чтобы просто так сунуть его в рыхлый снег… Повествователь хотел бы даже перевоплотиться в тополь, дабы на себе ощутить «все перипетии древесной жизни», призывая и «единочувствующих друзей своих»: «Попробуйте?ка хоть на мгновение обернуться произрастающим на откосе деревом, влезть в его шкуру Обернитесь деревом!»
«Биография тополя» закономерно трансформируется в душевную исповедь. Пребывая (пусть мысленно) в «обличье дерева», можно по?иному, как бы изнутри увидеть и воспринять и весь окружающий мир, и внутреннее пространство тополя, узнать сокровенные повадки его корней и листвы – и в итоге определить для себя иную, чем прежде, степень самооценки и меру личной ответственности и за бездумные поступки людей, и за самого себя. Стоит «обернуться деревом», не тая к нему своей любви, искреннего интереса и сострадания, и тополь – убежден повествователь – отзовется, сообщит «могучий импульс веры» смятенной человеческой душе.
«Влезши в шкуру тополя», повествователь жаждет напитаться его волей к жизни, проникнуться его умением «осуществлять себя в любых обстоятельствах», жаждет научиться вопреки всему «сохранять свое троеветвие» и свою неповторимую личность. В аллегорических сопоставлениях с поведением тополя зримо проступают контуры изначальной драмы базуновского «внутреннего человека», драмы, болевые точки которой, рассеянные по всему тексту «Записок», образуют замысловатый психологический орнамент. Эта драма под стать «магнетическим атмосферным бурям» и достойна оценки по той же шкале глобальных критериев. В один из тяжких моментов, когда «и сам себе становишься скучен, мерзок, отвратителен», перебирая «подлинные, а некоторые, возможно, и мнимые свои недостатки и изъяны», повествователь вопрошает: «.то ли в самой душе твоей. происходят какие?то катаклизмы, равновеликие, равнозначные для тебя в тот момент самим солнечным циклическим бурям; может, совесть твоя неспокойна, может, задело твою душу краем вихря своего улюлюкающее всемирное зло, то ли нахлынули смутные мнительные страхи, то ли улавливаются душою уготавливающиеся тебе душевные или телесные муки, ниспосланные в наказание, в учение или в испытание?.. Вот в таком «великом, непознаваемом жизнесплетении», переливающемся из прошлого в будущее через «клокочущий твой настоящий момент», ищет повествователь объяснение своим душевным мукам.
В такую минуту и любимый тополь за окном становится олицетворением «мерно, вязко, тоскливо протекающих будней»: тогда и ствол его какого?то грязного землистого цвета, и ветви торчат во все стороны как попало, и листья тусклы и блеклы. Однако стоит взять себя в руки, «привести душу в порядок», пренебречь «всеми неумолимо проводимыми на тебя атаками внешнего мира» – превозмочь свои страдания (вспомним ад и рай человека в «Триптихе»), – и картина совершенно меняется. Тогда и тополь за окном, борющийся с ветром, – это «совсем иной знак, иное олицетворение», он утверждает стойкость и верность, «свободу, неповторимость и единство», провозглашая: «Все во мне, все в моей кроне: и прошлое, и будущее, и земля и небо, и солнце и звезды…»
На этой ноте заканчивается вторая глава «Записок», о которой Г. Цурикова писала: «Местами это своего рода поэма в прозе – и не о тополе только, даже не о таком чуде, как дерево только, – о чуде жизни; о человеке, естественно, тоже. Лирические обращения в прошлое, в детство, в семейные воспоминания, вместе с поразительно выписанным драматическим, а иногда трагическим миром живой городской природы, в совокупности создают картину жизни, протяженной и во времени и пространстве, насыщенную не только психологически, но и социально, одухотворенную и по?своему актуальную. Этот мир городских деревьев – мир человеческих радостей и горестей, надежд и потерь. Мир, символически переданный и непосредственно отраженный. Полный внутреннего движения».
В третьей главе – «Ветер, наводнение…» – внутреннее движение олицетворяет ветер. Ветер для Базунова не менее знаковый образ, нежели окно или море. Уже в «Рабочем дне» шагавшему по дороге герою встречный ветер «бил, наносил удары в лицо, в грудь», герой любил этот буянивший ветер, ему хотелось запеть во все горло. В «Холмах, освещенных солнцем» герой в непогоду тоже сопротивляется ветру: «…азарт стремительного движения захватывает его, жуткий, противный страх уходит, и остается только восторг, и первое напряжение, и желание бороться с этим неистовым ветром». В «Мореплавателе» «самозабвенно прямо?таки дующий ветер», то грозный, то вкрадчивый, но одинаково властный, овевает едва ли не каждую страницу. И в третью главу «Тополя» сразу же врываются «ветры, ветры, ветры – пронизывающие ветры, разнузданные, безудержные ветры».
В начале третьей главы повествователь не без грусти замечает, что в «Записки» просачивается осеннее настроение, в сознании и психике возникает некий спад «внутреннего подъема надежды вашей». Повествователь, наблюдая за всеобщим замиранием природы, представляет, как у него в какой?то момент «отверзнутся очи во все времена», «вроде бы откроется им нечто» и, мелькнув, словно падающая в ночи звезда, канет бесследно. Такое настроение объясняется просто: осень за окном совпадает с «началом своей личной осени» повествователя, – и потому так ощутимы здесь прощальные мотивы, стремление опознать мелькнувшее на горизонте нечто, вечное и непостижимое, вплотную приблизиться к ускользающим ответам на давние мучительные вопросы. Спроецированная в «Тополе» модель человеческой жизни в финальной главе обретает в очередной раз изменившиеся очертания. Казалось бы, окончательные.
Еще на исходе лета повествователь из окна с беспокойством наблюдал: вокруг «что?то не то, что?то так, да не так» – в массе листьев появляется некоторая жесткость, как бы усталость, в кронах деревьев проступает желтизна, налицо «процесс деградации», и события разворачиваются «чем дале, тем стремительнее». Описание того, как повествователь, убаюканный «хоровым осенним сопровождением», подчиняется сливающемуся с этим сопровождением потоку сознания, предается «сугубо личным» мечтаниям и душевным порывам, – это единое в природе и человеке «состояние осени» исполнено автором мастерски. Повествователь воображает себя «малой каплей, несущейся в пространствах с поднебесья», или «бессонным деревом» в ночи под дождем, «с ветвями, стынущими на осеннем ветру, как, бывает, стынут мокрые пальцы на холоде»; зябкое ощущение остывания преследует его, и даже в редкие светлые дни он не в силах «заглушить тонкой тоски, где?то постоянно звучащей на дне души».
Буйный осенний ветер часами, сутками налетает на тополя, треплет и гнет их. Но какое упорное сопротивление они оказывают ветру! Повествователь, «сам до дна души захваченный происходящим борением», тоже «вроде бы гнется и стонет», шепчет что?то сквозь стиснутые зубы, «как бы помогая отчаянно сражающимся деревьям». И когда наступает листопад, «некая кульминация, максимум некий», когда «уже более не сдерживаемые великим усилием прорываются последние препоны», повествователь, стоя над каналом и глядя на плотный слой листвы, покрывающий водную гладь, задумывается над «тайной великой протекающей смены», над переходами в природе из одного состояния в другое, из умирания – к новой жизни.
Как бы ни были беспросветны будни поздней осени, в «кульминационной листопадной стихии» случаются и некие паузы, выпадают «несравненные весенние дни», вектор преображения, прежде обращенный вспять, к минувшему, меняется на противоположный, и сама осень словно признается: подспудно она «уже совсем готова к весне». В такие дни, подойдя к тополю, голому, без единого листика, повествователь видит, как ветви тополя упруги на ветру, как натянута их глянцевая кожица, «какими махровыми почками отягощены уже эти ветви», поглощенные «протекающей в них жизнью». В природе нет места последнему умиранию, – и душа повествователя ликует, и сердце его, «отягощенное опытом, уязвленное горестями», трепещет: «Против всяких логик, все еще на что?то надеясь, чего?то ища… хочет обрести крылья и улететь…»
Ветер за окном рождал в повествователе «веселое упорство», побуждал к сопротивлению разбушевавшимся вдруг «семейственно?магнетическим вихрям», вовлекавшим «слабую, неокрепшую душу в трепещущий, кипящий поток смятения, ужаса, беспредельного волнения». И как «прекрасно и жутко бывало, когда только вот слившаяся с внешней бурей и ураганом внутренняя житийная страшная буря» уносилась прочь под «вопли свободного дикого ветра», кружащегося где?то под холодным бездонным небом. В такие минуты повествователь готов был «и сам собою» умчаться вслед за ветром в «несущуюся воздушную стихию».
Ветер царил не только в воздушной стихии, с могучим ветром издавна связана поистине эмблемная примета городской природы – ежегодные непредсказуемые наводнения, иногда едва ощутимые, а временами катастрофические. Пронзительный «оглашенный» ветер сопутствовал возмущению стихии морской. В память повествователя чуть ли не с младенчества врезалась картина, когда он впервые увидел из окна, встав на цыпочки, «живую, колышащуюся эту воду тревожно набухающего канала» на мостовой, до того казавшейся незыблемой сушей; и четко запечатлелась та «новая внутренняя душевная ситуация», когда, так уж повелось в их семье, матушка близко к полуночи брала своих детей за руки и выходила с ними «вроде бы как дозором» на улицу посмотреть, как говорилось, на разгулявшуюся стихию.
Ощущение не испытанного дотоле риска переполняло тогда мальчишку, безрассудно желавшего «как можно большего прилива», да и окружавшие его на набережной люди уносили в душе «заговорщицкое разочарование», если наводнение быстро сходило на нет. Не удовлетворенное реальным зрелищем детское сознание разыгрывалось все более, при этом вспоминались и слышанные от взрослых предания о Всемирном потопе, и образы чудесной пушкинской поэмы… А у повествователя невольно возникали вопросы: почему человека так тянет прикоснуться к грозным стихиям? Откуда в нем это неотвратимое любопытство, этот риск на грани, «на краю бездны»? Или магия наводнения – все та же таинственная сила, когда?то увлекшая другого (а в общем, того же самого!) мальчишку в скитания по волнам Мирового океана? Таков уж, видно, человек от природы – из мира обыденного, земного его фатально влечет к себе мир вселенский, горний?
Неосознанное предощущение уготованного судьбой жизненного риска, будущих драм уже в детстве посетило базуновского повествователя. Уже тогда, пусть поначалу в мечтах и фантазиях, он уносился в неведомые дали с надеждой на полную, никем и ничем не стесняемую свободу. С возрастом такая устремленность в нем не только не ослабла, но окрепла, стала свойством его характера, оформилась как потребность духовная.
Все, что препятствует внутренней свободе, вызывает у повествователя резкий протест. Он недаром признается, что временами сходит на него «недобрый стих», одолевают горестные мысли о прокрустовом ложе его «жилища?узилища», ему не хватает воздуху и становится тесно в родном дому. В такие минуты ему, как в детстве, хочется – улететь!
В финале «Тополя» повествователь объясняет, что в таком его желании нет ничего фантастического, подходит к окну, «проникает на волю» и – летит над домами родных кварталов, над качающимися деревьями, над заливом, над темным морем, над чужими скалистыми берегами… И вдруг, словно очнувшись, душа его, «продрогшая на иноземном ветру», взывает: «Домой! Домой! Скорее домой!» Заветное стремление всегда и везде, чего бы то ни стоило, удерживать в себе чувство свободного полета, казалось бы, спорит с преданностью отчему дому Но это спор мнимый. Жажда духовной свободы – свободы творческого выражения личности – не противоречит смирению, которое все сильнее овладевает душой базуновского «внутреннего человека».
Петербургский текст
Родной город, вынужденно нигде не названный по имени – Санкт?Петербург, – единственно возможное для базуновского «внутреннего человека» жизненное пространство. Повествователь в «Тополе» с младенческих лет чувствует себя, так сказать, индивидуальной ипостасью этого пространства, он словно растворяется в этом пространстве, все отчетливее и отчетливее осознавая свое с городом кровное родство. Более того, характер повествователя под стать характеру города, каким он складывался на протяжении долгой истории, сохраняя свою неповторимость, свою природность, вопреки неисчислимым социальным потрясениям.
«Этот город – не только социальное целое; он существует еще и сам по себе, подобно фактам природы или искусства, – писала в 1931 году Л. Я. Гинзбург. – Но в какой?то другой инстанции оказывается, что он своими плоскостями и широкими поворотами, водой, камнем, листвой – имеет близкое отношение к способности мыслить, к упрямству, к тому, как человек поднимает свою тяжесть, к движению судьбы, которую надо отжимать и отжимать, пока она не станет целесообразной».
У Санкт?Петербурга уникальная судьба, он наделен особенной, исторически сложившейся структурой, с ее знаковыми признаками – их вот уже несколько столетий запечатлевает в русской литературе Петербургский текст (понятие, разработанное академиком Владимиром Топоровым)[2]. Петербург «и его (или о нем) текст», отвечающий определенным критериям, принадлежит, по убеждению академика Топорова, «к числу тех сверхнасыщенных реальностей, которые немыслимы без стоящего за ними целого» и неотделимы от «всей сферы символического». «Как и всякий другой город, – пишет Топоров, – Петербург имеет свой „язык“. Он говорит нам своими улицами, площадями, водами, островами, садами, зданиями, памятниками, людьми, историей, идеями и может быть понят как своего рода гетерогенный текст, которому приписывается некий общий смысл и на основании которого может быть реконструирована определенная система знаков, реализуемая в тексте».
Начало Петербургскому тексту, согласно концепции Топорова, было положено на рубеже 20?30?х годов XIX века Пушкиным, текст этот имеет богатую историю и «некий резерв» на будущее, набор представленных в нем элементов относится к природной, материально?культурной, духовно?культурной и исторической сферам. Особую роль играет здесь структура, которую Топоров называет сакральной. Эта структура лежит «в основе Петербурга как результат синтеза природы и культуры». «Природа, противопоставленная культуре, – пишет Топоров, – не только входит в эту структуру (сам этот факт, обычно упускаемый из виду, весьма показателен), но и равноценна культуре. Таким образом, Петербург как великий город оказывается не результатом победы, полного торжества культуры над природой, а местом, где воплощается, разыгрывается, реализуется двоевластие природы и культуры… Этот природно?культурный кондоминиум не внешняя черта Петербурга, а сама его суть, нечто имманентно присущее ему».
Под этим углом зрения есть резон взглянуть и оценить базуновскую прозу, поскольку двоевластие природы и культуры, фигура горожанина?повествователя, осознающего их слиянность, сакральность их синтеза, – ключевые особенности этой прозы. Взглянуть, зная, что не все написанное в Петербурге, равно как написанное о нем где бы то ни было, можно отнести к Петербургскому тексту, и еще – помятуя о том, что Петербургский текст включает не только классические образцы, а предполагает снятие ограничений «на различие в жанрах, во времени создания, в авторах», при обязательной «некоей максималистской установке» на разгадку «некоей последней тайны, способной открыть высшие смыслы».
Одно из кардинальных свойств Петербургского текста – «пресуществление материальной реальности в духовные ценности», прорыв «к более высокой реальности, вводящей в действие новые энергии». Со времен Гоголя, напоминает Топоров, в Петербургском тексте за «поверхностно?материальной реальностью узревалось нечто сверхреальное». И Базунов ставит перед собой, собственно, ту же максималистскую задачу: проникнуть за внешний край жизни в поисках тех самых высших смыслов. Думаю, было уже нетрудно убедиться, сколь скрупулезно и дотошно способен Базунов изображать предметную реальность, не ради нее самой, а с намерением либо познать благотворное воздействие на человека «курьей сути», либо хоть на мгновение обернуться деревом, «влезши в шкуру тополя», либо «взглянуть на все очами воды», а глядя на раскинувшееся до самого горизонта море городских крыш, ощутить тайну «засасывающей безбрежности, тянущей к себе дали», – «слиться с великим и вечным».
Топоров обыгрывает «некоторые тонкости», знание которых становится иногда своего рода паролем к Петербургскому тексту. К ним он относит и «жанр прогулок», «прогулок?фантазий»; и соотношение горизонтали и вертикали в городском пространстве, когда вертикаль, организуя окрестное пространство, отрывает взгляд от земли и уводит его в пространство небесное, божественное; и мотив «весенней осени», ставший «некой сигнатурой Петербургского текста, как бы намечающей еще один критерий, по которому разные части этого текста перекликаются между собой». И конечно же, занимает свое место в Петербургском тексте море – точнее, «не само море, не только оно, а нечто… неизмеримо более широкое и глубокое, чем просто море, скорее – „морское“ как некая стихия и даже – уже и точнее – принцип этой стихии, присутствующий и в море и вне его, прежде всего в человеке…»
А в базуновской прозе? «Прогулки?фантазии» едва ли не превалируют над остальным текстом; духоподъемная роль вертикали (даже и заштатной заводской трубы перед окнами на канале) здесь более чем очевидна; в «Тополе» описание «несравненных весенних дней поздней осени» заставляет задуматься над «тайной великой протекающей смены» в природе; а море, морское как стихия служит и реальной, и символической ареной душевных переживаний и духовных метаний базуновского «внутреннего человека». Сам того не ведая, Базунов угадывает пароли Петербургского текста, и его проза проверку по признакам и критериям этого текста, вне всяких сомнений, выдерживает.
Не перечисляя всех соответствий и «тонкостей», нужно сказать о главном – о максималистской смысловой установке Петербургского текста: «самоопределении человека по отношению к истине, и значит, его бытийственном векторе». Самоопределение это предполагает «путь к нравственному спасению, к духовному возрождению, когда жизнь гибнет в царстве смерти, а ложь и зло торжествуют над истиной и добром». В Петербургском тексте со времен Достоевского, акцентирует Топоров, утвердилась «стихия безотчетного страха, носителем которой был сам город, точнее – нечто тайное, незримо в нем присутствующее», не тот страх, что вызывают «зрелище человеческого страдания», стихийные бедствия или социальные катаклизмы, а «страх как таковой, в его чистом виде». Ощущение такого иррационального страха ведомо и базуновскому «внутреннему человеку», даже если этот «большой» беспричинный страх прикрывается «малым» страхом: будь то страх человека, спускающегося в «свой ад» и терзаемого «самим собой звероподобным», или страх «морских снов», или страх перед отражением в хищных зеркалах…
Как уже говорилось, базуновского повествователя гнетет и страх тесноты его «жилища?узилища» – та самая теснота и скученность, которая в Петербургском тексте, по мнению Топорова, служит для выражения «некоторых метафизических реальностей». В противовес тесноте жажда полета наделяет человека ощущением простора, духовным дальновидением, чему на более глубоком внутреннем уровне соответствует «счастливый выход» – вера как «знак свершившегося прорыва в „космологическое“, почти совпадающее в данном случае с пространством свободы». «Жизнь в Боге» есть свобода, истина познается «в свободе и через свободу», со свободой связана тема о человеке и творчестве, – именно такая трактовка свободы (по Н. Бердяеву) была близка Олегу Базунову.
Принадлежность базуновской прозы к Петербургскому тексту позволяет по достоинству оценить ее художественный потенциал и подтверждает специфическую актуальность духовных поисков писателя. Петербургский текст, что называется, берет Базунова под свое крыло и признает своим. Грозное провидческое звучание Петербургского текста невольно накладывается на базуновские страницы. «Петербургский текст – мощное полифоническое резонансное пространство, в вибрациях которого уже давно слышатся тревожные синкопы русской истории и леденящие душу „злые“ шумы времени. Значит, этот великий текст не только „напоминал“ о своем городе, а через него и обо всей России, но и предупреждал об опасности, и мы не можем не надеяться, по крайней мере, не предполагать, – резюмирует Топоров, – что у него есть еще спасительная функция, знамения которой были явлены уже не раз за последние без малого два века. Поэтому?то, вслушиваясь в эти вибрации, мы чаем услышать некую гармоническую ноту, в которой мы опознали бы намек на какой?то спасительный ресурс и наконец?то сами сделали бы свой подлинный и благой выбор».
Чаял услышать эту гармоническую ноту и Олег Базунов. Не теряя спасительной надежды и стремясь донести звучание этой ноты до читателя.
Петербургский текст, по заключению академика Топорова, «еще и учителен», и в этом отношении базуновская проза, где исповедь сочетается с тактичной проповедью, этому тексту опять же соответствует. Учительство было присуще Базунову изначально, тому есть много доказательств, и без обращения к читателю ему было никак не обойтись. Ведя свои замысловатые монологи, базуновский повествователь, как бы далеко он ни уносился в своих фантазиях, никогда не забывает о праве «любезного читателя» на ясность авторского высказывания. Он постоянно просит у читателя прощения за сумбурность рассказа и прочие «неудобства». Извинительная, галантная манера общения, оформленная стилистическими приемами с характерными «старомодными» фигурами речи, манера воспитанного человека, не изменяет автору ни при каких изображаемых обстоятельствах.
И если в «Триптихе» изредка упоминаемый читатель, собственно, еще не воспринимается как некий адресат или предполагаемый собеседник – в «Триптихе» мелькает лишь читатель «критически настроенный», готовый придираться к автору по мелочам, – в «Мореплавателе» автор уже надеется установить с незнакомым адресатом контакт. Здесь уже появляется некое «вы», которое выглядит как приглашение читателю следовать за повествователем. Автор здесь обращается к «дорогому моему читателю» напрямую, задает ему вопросы, полагая, что тому со стороны виднее, и не требует немедленных ответов («Но не торопитесь с ответом!»). Автор старается придать своему монологу форму мысленного диалога, хочет почувствовать ответную реакцию адресата («Давайте же, уважаемый и любезный читатель, вместе с вами… спокойно обратим свои лица»; «Итак, мы с вами…») – и в итоге в повествовании появляется «испытанный мой читатель», тот заслуженный собеседник, о котором автор поначалу мог лишь мечтать.
В «Тополе» контакт автора с читателем?другом еще более крепнет. Мучительные вопросы автор теперь задает и себе и читателю. Они вместе готовы спорить с неким «непримиримым судьей» и «несчастными людьми», которые все подвергают сомнению и осмеянию, вместе готовы возражать «отчаявшемуся или злобному голосу» и «настроенному супротивно критику». Среди разноликих голосов автор все отчетливее слышит вселяющий в него уверенность голос «теперь, надеюсь, уже единочувствующих друзей моих». И когда в финале «Тополя» автор восклицает: «Оторви себя от опоры!.. И взлетай! Взлетай же! Ты легок, ты могуч..…» – этот призыв он обращает и к самому себе, и к обретенному другу?читателю.
Читатель как персонаж, невидимый, портретно не зафиксированный – по сути, авторский двойник, – заслуживает повышенного внимания, однако когда в журнальных редакциях базуновские рукописи оценивали так называемые «внутренние рецензенты», они читателя?персонажа обычно не замечали, беспокоясь первым делом о читателе конкретном, благополучно здравствующем, и высказывали на сей счет самые разноречивые суждения.
Часть рецензентов принимали сторону читателя, недовольного тем, что рассказчик слишком занят собой. В. Непомнящий, например, рецензировавший для «Нового мира» рукопись «Мореплавателя» (1979), жаловался: «…я – читатель – не вижу в рукописи почти ничего, что было бы обращено, так сказать, лично ко мне, ничего, кроме этих деклараций писательского внимания…» Тем не менее он старался быть объективным в своих оценках и предупреждал: «Я не хочу сказать, что повествование вяло или лишено смысла, – нет, все, о чем говорит автор, его бесконечно волнует, это его глубины, и в этом смысле „Мореплаватель“ – глубоко лиричен и философичен, – но беда в том, что читатель?то не взволнован. Он, может быть, удивлен своеобразием и смелостью замысла, восхищен мастерством и слогом, заинтересован любопытными мыслями и неожиданными поворотами ассоциаций, – но он не заражен…»[3]
А вот И. Соловьева, рецензировавшая для того же «Нового мира» рукопись «Мореплавателя» еще раньше (1974), рассматривала отношения автора с читателем иначе. «Олегу Базунову, – писала она, – удается прежде всего найти тон, ноту, ритм душевной жизни того лица, от имени которого ведется повествование, – эту особую общительность одинокого человека, который постоянно озабочен предполагаемым присутствием собеседника, дорожит его заинтересованностью и все время боится ее утратить. Сам строй фразы, все время словно уточняющейся на ходу, поправляющей самое себя, застенчиво и нервно следящей за тем, чтобы «быть в порядке», сам строй фразы выражает лад этой доверчивой и лишенной самоуверенности души, погруженной в себя и нуждающейся в понимании. Рассказчик из тех людей, которые словно конфузятся сказать что?либо окончательно и твердо. Некатегоричность сказанного, неокончательность, постоянная готовность признать, что на дело можно взглянуть иначе, – все это передано в долгих абзацах, разом стройных и зыбких, то и дело колеблемых сомнением в слове, однажды найденном и тут же заменяемым…»
Такую манеру способен воспринять только человек с близкой автору душевной организацией, может быть, потенциальный единомышленник. Для И. Соловьевой обратная связь между автором и читателем была в данном случае очевидной, поскольку автор обладал завидным даром «закреплять секунды душевной и телесной своей жизни и через это вдобавок возвращать нам – читателям – свежесть совсем иных и вроде бы утраченных наших воспоминаний о наших секундах». При этом И. Соловьева допускала: «Мореплаватель» – вещь «по своей природе не многотиражная», ее трудно себе представить напечатанной в журнале с полумиллионным тиражом, она «обращена к тысячам, а не миллионам. Это ее дар – интимность, но это и ее ограничивающая черта».
Самые честные рецензенты в советское время под давлением абсолютной гегемонии «широкого читателя» вынуждены были констатировать, что книги Базунова адресованы весьма узкому читательскому кругу, а в этом, уже по логике начальства, был их коренной недостаток. Меж тем «Мореплаватель», когда исторические обстоятельства изменились, в 1987 году «Новым миром», при тогдашнем тираже в 490 000 экземпляров, был все?таки напечатан.
У базуновской прозы, если угодно, несколько читательских уровней. Искусно, с дотошной достоверностью запечатленная предметная реальность, «магия окружающей нас жизни» отвечает тому первоначальному уровню, когда у читателя возникает непосредственная реакция на то или иное конкретное изображение. Когда автор, по словам Валерия Попова, «пробуждает в вас свои давно забытые ощущения прошлого» и тем самым поддерживает ваш интерес к прочитанному. Другой уровень – когда читатель в состоянии почувствовать и оценить разыгрывающуюся перед ним скрытую, но психологически столь убедительную человеческую драму И следующий уровень – когда читателю в книгах Базунова открывались высшие смыслы реальности духовной.
Разумеется, выстраивание читателей по ранжиру – затея сомнительная. Андрей Битов, давний товарищ Базунова по литобъединению, как?то (1977) заметил: «Читатель у нас, как известно, самый. Во всех отношениях. Не дай бог его задеть или не воздать ему должное». Есть читатель хамящий, читатель льстящий, шумный читатель, «самовыражающийся в своем мнении», какой угодно еще; «но где?то там, в глубине, на задних сиденьях, – не сомневался А. Битов, – скромно мерцающий и возмущенный всеобщим непониманием, так и не высказывается ваш читатель, тот самый, сокровенный, понявший вас ровно в том смысле, в каком вы все это написали, не больше и не меньше, а – точно».
В семейном архиве Олега Базунова сохранилась пачка читательских писем, самых разных. Один читатель писал: «В Вашей прозе есть много такого, что приходилось испытывать многим, и есть недосказанность, которая заставляет людей думать, что, по?моему, очень важно». Другой был бесконечно благодарен автору: «Читал на едином дыхании, будто писалось с моей души. Спасибо большое. Вы пишете… раскованно по фантазии, правдиво по жизни. За человечность еще раз спасибо». Читатели суммировали: в книгах Базунова среди каменных стен, железных крыш, булыжных мостовых отыскивается живая душа природы, неистребимой, как сама жизнь; его проза обладает устойчиво выношенным моральным тонусом, она заставляет «самого себя вспоминать»; и человек, войдя в это состояние сопереживания, узнавания, радостного и горестного одновременно, получает противоядие от одиночества и отчаяния; в этой прозе есть свет и мужество, читая ее, чувствуешь надежду и опору.
Читатели, задетые за живое, бывали очень откровенны. «Спасибо Вам за оригинальную поучительную книгу („Тополь“. – И. К.). Она заставила меня пережить в известной мере потрясение, – писал из Новосибирска однофамилец Олега Евгений Петрович Базунов. – Дело в том, что жизнь моя – непрерывный марафон: увлечение одной научной проблемой сменяется другой, и живешь, по существу, не замечая того, что происходит вокруг, некогда остановиться, оглянуться и посмотреть в самого себя, и вдруг – Ваша книга, с совсем другим, чем у меня, мироощущением. Я к ней возвращаюсь вновь и вновь… Я жалею, что Ваша книга не была написана где?то 25 лет назад, и вот почему: после окончания университета я тяжело заболел и восемь месяцев пролежал в больнице без движения, потом учился ходить. выкарабкивался еще 4 года. Книга Ваша напомнила мне это время. Как она была нужна мне тогда, мне было бы легче, если бы она была тогда у меня! Думаю, что такое ведь не только у меня бывает…»
С автором этого письма, математиком и биологом, Олег переписывался несколько лет, их заочное знакомство переросло в доверительную дружбу «единодуховных людей». Письма Олега мне неизвестны, а, судя по ответам, они обсуждали самые кардинальные проблемы: загадочное единство живой и неживой природы, глубинные законы эволюции, то, что неживая природа закономерно и неизбежно эволюционирует к живой, а живая – к Разуму. В ответ на объяснения Олега Евгений Базунов сообщал, что не читал Упанишад и незнаком с концепциями веданты, благодарил за присланную книгу Тейяра де Шардена «Феномен человека», а в другой связи писал: «Вы знаете, художники (в общем смысле этого слова) часто правильно чувствуют законы реальности. Возьмите, например, гениального М. К. Чюрлениса. Вы, наверное, знаете его картины? В его „Сонате звезд“, „Rex“ и других картинах глубочайшее проникновение в суть жизни. Уму непостижимо, как ему удалось это, как он мог так точно, правильно, образно изобразить такие абстрактные понятия, как „покой“, „надежда“, „печаль“. Непостижимо, но это есть, значит, это возможно. По?моему, и Вы обладаете непостижимой уму способностью чувствовать, чувствовать правильно…»
Этот адресат, вне всяких сомнений, и был для Олега тем самым сокровенным читателем, которого имел в виду Андрей Битов. Впрочем, и другого заинтересованного базуновского читателя, в чьих научной компетенции и художественном вкусе едва ли кто усомнится, нельзя не назвать.
В мае 1972 года Олегу писал Дмитрий Сергеевич Лихачев: «Мне очень понравилась Ваша проза, Ваша манера мыслить и писать. Я с большим интересом прочел „Мореплавателя“. Сперва мне показалось, что Вы следуете за Прустом, но потом я увидел – нет! Читал я с некоторой грустью, думая, что напечатать это будет очень и очень трудно, а пока невозможно…»
И в мае 1977 года: «Хорошо, что у Вас все свое. Шумного признания Вы не получите, но долгая жизнь Ваших произведений для немногих Вам обеспечена. У Вас будет прочное и долговременное место в русской литературе. Я ведь немного пророк. И если Вас поругают или не сразу заметят – плюйте. Пишите упорно и не торопясь. Вам не надо много писать, но оттачивайте каждую фразу…»
Олег же, посылая Дмитрию Сергеевичу свою первую книжку, заметно волновался: «Одно могу сказать, каждая встреча с Вами, как бы кратка она ни была (не кратких?то и не было), для меня большая духовная (другого слова не могу подобрать – да и нужно ли подбирать другое), духовная радость. Мне мил и приятен Ваш облик. Каждый раз после встречи с Вами я уношу тепло в душе, некую небоязливую робость, ощущение присущих Вам чистоты, тишины и достойной мягкой строгости, ощущение живой древней традиции. Вот, пожалуй, и сказалось то, что хотелось сказать. Когда и не ждал вовсе…»
Они оба безошибочно чувствовали, что их связывает нечто для них очень дорогое. Д. С. Лихачев, родившийся в 1906 году в доме на Английском проспекте, и Олег Базунов, родившийся совсем рядом на Адмиралтейском канале двадцать лет спустя, как свою собственную ощущали душу родного города, с его двоевластием природы и культуры, и поклонялись тем самым духовным традициям, что отразились в Петербургском тексте русской литературы.
Домосед
Олег Базунов слыл домоседом, одиноким затворником, к концу жизни чуть ли не монахом в миру, но как?то так получалось – без видимых усилий с его стороны, – что в ленинградской литературной среде его присутствие было заметно. Глеб Горышин в середине 1970?х, рекомендуя к изданию сборник «Холмы, освещенные солнцем» и вспоминая первую встречу с Олегом при чтении «Рабочего дня» двадцать лет назад, писал: «Все эти годы Базунов участвовал в литературе, но несколько необычным образом. Ни одной книги у него не вышло, журнальных публикаций почти не было, между тем начинающие писатели, становясь мало?помалу писателями средними – если не по уровню, то по возрасту, – числили Базунова в своей среде. Он был нужен в литературе, участвовал в обсуждениях на литературных четвергах, конференциях. С мнениями его привыкли считаться, они всегда отличались страстностью, в них звучала завидная начитанность… Между тем собственные писания Олега Базунова оставались малоизвестными или вообще неведомыми, как бы их и не существовало».
Олег Базунов не принадлежал к горделивому андерграунду замкнутому литературному подполью, куда его впоследствии кое?кто пытался зачислить. По натуре он был человеком открытым, человеком с активным общественным темпераментом; в нем, по словам Ольги Миттельман, «жил неуемный просветитель, даже – пропагандист, разумеется, близких ему идей». И все же образ домоседа, «охотника сидеть дома» (по Далю) Олегу вполне приличествовал. В сентябре 1968 года Любовь Дмитриевна писала его соученику по «подготу»: «Вы спрашиваете про Олега. Он семьянин, у него чудесная, умная жена, но так уже вся в его власти. Двое детей – девочки. Олег не пьет, не курит. Любит только семью и книги. Любит также старину, особенно русскую. Пишет какую?то очень большую философскую писанину, но нам с Виктором читать не дает. Давал двум большим писателям. Те говорили Виктору, что вещь совершенно замечательная, но непроходимая…»
Положение домоседа, пишущего что?то «в стол» и необходимого литературе, – неслучайный штрих базуновской биографии, изобиловавшей моментами, казалось бы, несовместимыми. Даже неплохо знавшим его друзьям он представлялся личностью резко контрастной. Правда, наделенной контрастами не только от рождения, но и с возрастом приобретенными, такова уж была дерганая кардиограмма его судьбы.
По впечатлениям Бориса Сергуненкова, Олег «сочетал в себе два противоположных качества: это был эстет и аскет. На его письменном столе рядом со стопкой листков рукописи лежал рваный кусок железного крюка, подобранный им на трамвайных линиях, которым он не только любовался сам, но и заставлял любоваться своих гостей: „Какая мощь, какая красота!“ Весной рабочие спилили тополь возле его дома. и он втащил по лестнице на третий этаж огромный ствол тополя – целое дерево, поставил в бак с водой, и тополь зеленел у него, заняв половину комнаты, пока не опал, до глубокой осени. Он любил хорошую одежду, хотя по бедности не мог ее приобрести, ходил в поношенных брюках и в свитере с кожаными заплатками на локтях, любил красивый и вкусный обеденный стол, хорошее вино, старинную мебель, антикварную посуду, чистую постель, свежие цветы… И вместе с тем это был аскет, духовный человек, мыслящий и взыскующий истины, Града Небесного. Он избегал грубой речи, неразборчивых знакомств, пьянства, скабрезностей. Он часто и подолгу постился, годами жил на одной овсяной каше, хлебе и воде»[4].
За контрастными проявлениями характера, за настороженной манерой поведения таился мучительный духовный процесс. И. Рожанковская, подтверждая, что Олег жил «в святой нищете, на которую не роптал, а скорее изумлялся, как это он выживает» – «перенасыщенный мыслями», «сверхчувствительный до мнительности», – стремился к простоте, той, что выше сложности, и ценил в других нравственную опрятность. Прочитав впервые стихи Николая Рубцова, он, человек городской и вроде бы книжный, услышал в них «родной ему звук предельной чистоты и прозрачности» и был, по словам И. Рожанковской, этими стихами «утешен и обнадежен», ликовал и плакал от восторга.
Напряженный духовный процесс «открытия себя в себе» имел свои истоки, свои взлеты и падения, свои явные и неявные грани и границы. Начальная веха была обозначена в «Триптихе», где автор, как помним, заявлял, что им наконец?то сделаны некоторые важные выводы и что он более или менее последовательно проводит их в жизнь. В результате, как уверен Б. Сергуненков, «где?то в середине жизни» с Олегом произошло преображение, то, что древние греки называли метанойя, и он окончательно освоился в той творческой позиции, когда художник пишет не «себя в Горе», а «собой пишет Гору», о чем мечтал еще герой «Холмов, освященных солнцем».
Процесс духовного преображения подпитывался различными обстоятельствами. Свою роль сыграл здесь обширный, но весьма избирательный круг чтения, простиравшийся от добиблейской мифологии, святоотеческой литературы, Платона и Данте до Гоголя и Достоевского, Вячеслава Иванова и по?особому чтимого Райнера Мариа Рильке. Философская начитанность, знание мировой литературы, эстетические предпочтения Олега в искусстве – предмет отдельного разговора. Равно как отдельного разговора заслуживают аллегорическое содержание базуновской прозы, выяснение ее художественных истоков и определение тех нравственных сверхзадач, которые в первую очередь продиктованы, по?моему, моральным императивом автора «Выбранных мест из переписки с друзьями».
В 1960?е годы Олег интересовался антропософией Рудольфа Штейнера, разного толка духовными трактатами, выискивал у букинистов, как сообщает Б. Сергуненков, редкие книги Блаватской, Безант, Шюре, Папюса, труды по восточной и христианской теологии. Его привлекала литература «философствующего чувства», провозглашавшая органичное слияние человека со Вселенной, – чтение именно такой литературы, по мнению Б. Сергуненкова, привело Олега в конце концов в лоно Русской православной церкви.
Думаю, это не совсем так. У религиозности Олега были устойчивые семейные корни, путь в Церковь начинался у него издалека – в доме на канале, где царила атмосфера, какую ощущаешь в старинных петербургских квартирах, вобравших в себя дыхание длинной череды поколений, для которых религиозность, сам быт, расписанный по православному календарю, были так же естественны, как и евангельское понимание человеческого достоинства. И любимая бабушка Мария Павловна, и, воплощенная святость, тетушка Матюня, умершая в блокаду, и матушка, ригористически веровавшая в Бога Любовь Дмитриевна, знали силу притяжения их намоленного родного угла.
Они, собственно, эту крепкую силу, каждая по?своему, олицетворяли, и Олег, с его обостренной восприимчивостью, такого притяжения избежать не мог. Тяготение к Церкви он до поры до времени никак не афишировал, но в какую?то трудную минуту строгое подчинение церковному уставу стало для него насущной потребностью. И даже ближайшие друзья эту перемену обнаружили не сразу
И. Рожанковская вспоминает: «Как?то он исчез на год или более, а когда позвонил, то начал с важного вопроса: считаю ли я себя христианкой? До этого откровенных разговоров на эту тему у нас не было. А тут он признался, что ходит в Никольский собор – молится, исповедуется и причащается». У Олега, судя по всему, уже вконец расстроилось здоровье. И. Рожанковская вспоминает, что ради укрепления здоровья он бегал по утрам, голодал по определенной схеме, не ел мяса и рыбы, но вегетарианство его было «нравственным, а не диетическим». Потом прогрессировала преследовавшая его в последние годы болезнь Паркинсона. У Олега изменилась походка, он исхудал, истончился и в глазах И. Рожанковской «стал похож на апостола Павла с картины Эль Греко».
Интеллектуал?идеалист, немилосердно отринутый к тому времени едва ли не в изгои, Олег Базунов на протяжении всей своей жизни демонстрировал непреклонную волю – и в повседневном поведении, блюдя собственное достоинство, и в скрупулезной работе над рукописями, и борясь с болезнями. Борясь с болезнями, может быть, прежде всего. О своем горьком опыте по этой части он еще в ноябре 1967 года писал находившемуся в лечебнице Генриху Шефу: «…наверное, у тебя нет сейчас такого другого знакомого тебе человека, который бы понимал тебя, как тебе тяжело сейчас во всех планах, как это понимаю я. Ведь подобное твоему мне пришлось пережить, о чем ты давно, наверное, догадался по некоторым моим намекам в наших разговорах…» Олег советовал: «Самое главное, как бы ни было тебе трудно, старайся не поддаваться отчаянию. Недаром древние считали отчаяние в любом случае жизни одним из самых тяжких грехов. Смирись с самим фактом того, что на твою долю выпало такое испытание. Это, конечно, не значит, что нужно примириться с самим фактом болезни. Я на опыте знаю, что в этой ситуации нужно упереться и терпеть, терпеть во что бы то ни стало и с возможным максимумом мира в душе…» «Старайся, – писал Олег, – сколько можно идти навстречу страху и страхам. Мне лично пришлось заниматься этим еще много спустя после выписки. смотри чаще в окно, на деревья, на небо, на птиц, с желанием скорее возвратиться в заоконный мир. Все это нужно не только как тренировка воли, которая в этих ситуациях очень падает…» «И еще, – добавлял он, – очень важное, на мой взгляд и по моему опыту. Старайся поддерживать максимум возможного для твоей натуры контакта с людьми, причем чем проще, народнее человек, тем даже лучше, кто бы он ни был по профессии и по болезни…»
Наделенный с блокадного детства недюжинной энергией преодоления, Олег всю жизнь старался жестко контролировать себя. К сожалению, это ему не всегда удавалось. Неусыпное противоборство со всяческими недугами, болезненная мнительность, психологические перегрузки и нервные перебои не сулили ему душевного равновесия, чего он так добивался. Вслед за философом он мог признаться: «Во мне самом мне многое чуждо…» А энергия преодоления меж тем слабела. И «заоконный мир» все сильнее был в тягость.
Высокие литературные замыслы, гнет «личной преисподней» опасно сталкивались с житейским бытом. Возникавший душевный дискомфорт приводил к трениям с самыми близкими людьми. Человек крайне щепетильный во всем, Олег страдал оттого, что не может содержать семью, и не хотел быть кому бы то ни было обузой. Он не бравировал аскетизмом, не чуждался простых домашних удовольствий, любил свою жену, своих дочерей, отвечавших ему взаимностью, суеверно радовался выходу в свет своих книг, – но он знал и неизменность духовного одиночества, знал, что чувство собственного достоинства дороже счастья. Веруя в старинную максиму: мы рождаемся, чтобы «жить на пути к истине».
Случилось так, что Олег покинул воспетый им дом на канале, получил скромную квартирку на набережной Смоленки, в двух шагах от залива, и, конечно же, чувствовал себя в огромном нелепом доме (подъезд 19, кв. 673) неуютно, так и не признав новое жилье своим. «Он был тяжко и мучительно болен, – вспоминала Г. М. Цурикова, знавшая его не один десяток лет, – житейские невзгоды конца 1980?х и самого начала 1990?х годов его терзали, одиночество донимало. Семья распалась, дочери выросли, у них были свои заботы и свои увлечения… Бурные перемены, происходившие в это время в стране, его не оставляли равнодушным, хотя в принципе он не любил говорить о политике…»
Владимир Алексеев передавал их разговор где?то в сентябре 1992 года, когда Олег признавался: «С тех пор как я уехал из центра – я задыхаюсь. А сейчас я просто разваливаюсь. Я бы давно покончил с собой, но мне священник не разрешает. Мне на лекарства не хватает. Недавно стоял у метро и продавал „Светония“. Очень дешево. Два часа простоял – никто не купил. „Жить не хочется“, – вот что я постоянно слышу вокруг. и я не хочу. Не хочу видеть, как все продается и все покупается. Как одни на глазах бешено богатеют, а другие ходят голодные. И хоть бы богатели честно. Вот поэтому и не хочу…»
Личная трагедия Олега Базунова, со всеми его духовными метаниями и житейскими невзгодами, со всеми и откровенными и спрятанными от посторонних глаз страданиями, совпала с историческим переломом, когда и вернувший себе исконное имя Санкт?Петербург, и вся Россия в очередной раз шагнули на край бездны. Такое совпадение по?своему симптоматично, однако трагедия писателя Базунова этим не исчерпывается. В том разговоре с В. Алексеевым Олег жаловался, что «не написал еще „одной вещи“, здоровья не хватило». Запечатленная в его книгах исповедь так и осталась незавершенной.
12 октября 1992 года Олег Базунов погиб, упав с седьмого этажа на асфальтовый двор дома на Смоленке.
В некрологе, опубликованном во вдруг тогда возникшем и тут же исчезнувшем журнале «Русский разъезд», в частности, говорилось: «Ушел из жизни Олег Базунов. Ушел так же мужественно, как и жил. Ушел, как уходят уставшие от болезней и старости восточные люди… Первооткрыватель новых литературных форм, он в своем „Мореплавателе“ пел трагическую песнь истинного художника. Эстетика его лучших произведений зиждется на духовности, и подтекст его письма незрим для людей непосвященных и воспитанных на рациональном сознании однолинейной советской литературы…»
Круг чтения
Мандельштам однажды заметил: «Разночинцу не нужна память, ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, – и биография готова». А Омри Ронен, приведя эти слова, заключил, что данные о круге чтения Мандельштама для исследователей его творчества важнее биографических данных. По?моему, это относится не только к Мандельштаму и не только к «разночинцам», к коим я бы Олега Базунова причислять не стал, его биография сама по себе более чем весома, но и череда его читательских предпочтений показательна.
В семейном архиве Базунова сохранился любопытный документ – обстоятельный конспект научных статей из выпущенного в 1932 году сборника, посвященного мифу о Тристане и Исольде, история которого прослеживалась, по словам редактора сборника академика Н. Я. Марра, «как общий на всем Востоке и Западе предмет культа», – от Египта до Руси, от Междуречья до Пиренеев, Британских островов и Франции, где героиня мифа Исольда, «божество страсти и любви, равно и войны», переродилась в героиню рыцарского романа. Вариации этого мифа анализировались в статьях «Иштар?Исольда в библейской поэзии» (И. Г. Франк?Каменецкого), «Античные аспекты сюжета Тристана и Исольды» (Б. В. Казанского), «Сюжет Тристана и Исольды в мифологемах Эгейского отрезка Средиземноморья» (О. М. Фрейденберг) и еще в ряде статей видных историков и филологов. Генезис мифа о Тристане и Исольде освещался в сборнике всесторонне, однако Базунова, смею предположить, привлекала не культурно?историческая трансформация этого мифа, а истоки его возникновения и первобытное сознание, миф породившее. В. В. Струве в статье «Иштар?Исольда в древневосточной мифологии» акцентировал: «Корни древнего мифа о богине матриархальной Афревразии приводят нас к представлениям первобытного человечества…» И вот эти?то корни представлений первобытного человека, скрупулезный анализ их появления, думается, интересовали Базунова в первую очередь. Как и концепция Б. В. Казанского, считавшего, что в этом мифе космологический и антропологический моменты нераздельно слиты, а история и природа поглощаются «в неразделимом диффузионном синтезе». Древнее мышление, полагал Б. В. Казанский, не столько «отражает», сколько сигнализирует действительность.
Базунов испытывал потребность сигналы первобытной действительности, импульсы «глубинного времени» улавливать. Он был наделен врожденным ощущением вечности – отсюда и повышенное внимание к первореальности, ко всякой древности, к античности и философии Платона. Базунов в своих книгах недаром стремился проникать «за внешний край жизни» в надежде за поверхностью реальности приблизиться к скрытым сущностным смыслам. Его, как помним, постоянно беспокоило тайновидение Единого мира – вселенского и земного, видимого и невидимого, нынешнего, насущного и давно ушедшего, окутанного пеленой вечности, мира осязаемого и мира умопостигаемого. Формирование такого взгляда на мир не обошлось без обращения к Платону. «Диалоги» Платона Базунов еще в молодости читал, по его признанию, «с превеликой радостью», особенно выделяя «Пир» и «Федра».
Учение Платона о познании мира впрямую связано с понятием души, вселенской и человеческой. «Вселенская душа бессмертна. Ведь вечнодвижущееся бессмертно», – сказано Сократом в «Федре». «Вселенская душа, – сказано там же, – ведает всем неодушевленным, распространяется же она по всему небу, принимая разные виды. Совершенная и окрыленная, она парит в вышине и правит миром…» Если же она, настигнутая какой?нибудь случайностью, исполнится забвения и зла, душа тяжелеет, теряет крылья – и получает «земное тело», вселяясь в смертного человека, в животное или в дерево, или нисходит в «подземные темницы».
Когда в «Мореплавателе» Базунов рассуждал о птице, летящей над безбрежным океаном, об отчаянных ее усилиях не складывать крылья, не опускаться вниз, в роковые волны; когда в «Тополе» он призывал всем существом своим, как птица, стремиться к свободному полету, – платоновская мысль о душе, парящей в вышине и правящей миром, как бы негласно присутствовала в тексте. В «Тополе» автор, с явной оглядкой на Платона, восхищался духом вечности, духом старины, способным «окрылить и еще не обретшую крылья душу», поднять ее «на высоту, с которой открываются невидимые простым глазом ландшафты», проникался свободным духом, способным увлечь ее «в дальние дали как будто канувших времен и событий» и вдохнуть «вдруг в себя там, на высоте, под легкими высокими облаками невыразимо разряженный воздух вневременной выси».
Согласно Платону, душа, вселившаяся в человека, человеческая душа, тоскует о том, что она, созерцала, когда «заглядывала в подлинное бытие», она силится припомнить «подлинно сущее», тянется к благу, но это ей нелегко дается. Душе предстоит долгий путь воспитания, с тем чтобы восстановить «все священное», узнанное ею раньше. Поэтому жизненная цель человека – стремиться к нравственному совершенству, к духовной красоте.
И краеугольным камнем христианства тоже было спасение человеческой души, которая нуждается в неусыпном воспитании. Древние подвижники веры недаром предостерегали: человеческая душа, если она уклоняется от добродетели, – впадает в грех. Святой Ефрем Сирин (чью молитву Великого поста Олег Базунов особенно любил повторять) сокрушался от имени Христа: «Для чего ты, душа, возгнушалася небесным своим чертогом, который наполнен светом славы?.. Для чего ты, душа, сделалась мне чуждой, непристойной делами и помыслами?.. И призывал благоверного христианина: «Стой, как цветоносное дерево, охраняя плоды добродетелей своих, чтобы не подкрался червь гордыни и не подточил в тебе плода смиренномудрия, чтобы ложь не похитила у тебя истины, чтобы тщеславие не омрачило твоего благоговения, чтобы гнев не отнял у тебя кротости…»
К той же цели, к «работе над собственной душой» призывал своих адресатов и читателей Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями». У Базунова эта книга стояла на полке рядом с платоновскими «Диалогами», и духовный опыт Гоголя был ему по?разному дорог. В «Выбранных местах…» Гоголь писал: «Рожден я вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области литературной. Дело мое проще и ближе: дело мое есть то, о котором прежде всего должен подумать всяк человек, не только один я. Дело мое – душа и прочное дело жизни. А потому и образ действий моих должен быть прочен, и сочинять я должен прочно…» Гарантия такой прочности – «в глубоком внутреннем созерцании, в исследовании собственной души своей», в том, чтобы «хорошенько выстрадаться самому» и стать самому «почище душой».
Поиск путей воспитания и спасения души в «Выбранных местах…» напрямую связан с болезненностью Гоголя, о чем он рассуждает часто и взволнованно: жалуясь, ища сочувствия, сокрушаясь, зовя друзей на болезни «смотреть как на сражение». Порой ему кажется, что искоренить болезнь, «деспотически вошедшую в состав мой и обратившуюся в натуру» не властно ничто, даже «ненаглядная Италия». Однако из своих болезней Гоголь извлекал и «множество польз». В главе «Значение болезней» он писал: «Никогда еще телесные недуги не были так изнурительны» – и тут же признавался, что благодаря страданиям «ныне какой я ни есть, но я все же стал лучше, нежели прежде». И мысли его посещают «несравненно лучшие прежних», и, уверен он, «все, что ни выйдет из?под пера моего, будет значительнее прежнего».
Для Базунова сражение с болезнью было привычным состоянием, и Гоголь ему многое подсказывал: как смиренно и терпеливо вести себя с максимумом мира в душе, примирившись с фактом болезни, но не поддаваясь отчаянию; как обуздывать мнительность и авторское тщеславие; как пестовать в себе самоотверженную любовь к искусству и, по примеру художника Александра Иванова, «умереть для всех приманок жизни». У Иванова писание картины «Явление Христа народу» обратилось в «душевное дело», ради которого он на долгие годы затворился в своей мастерской, плюнул на все приличия и условия светские, ведя жизнь истинно монашескую, впадая в «блаженное нищенство» и не реагируя на попытки невежд провозгласить его сумасшедшим. В молитвенном преклонении перед картиной «свершилось воспитание собственно художника»: «Я это знаю и отчасти даже испытал сам, – заявлял Гоголь, – мои сочинения тоже связались чудным образом с моей душой и моим внутренним воспитанием». Пример Иванова, по уверению Гоголя, должен был стать уроком для всех, честно «выступающих на поприще художества», и Олег Базунов, не сомневаюсь, внял этому уроку.
Гоголь настаивал: для истинного художника и для любого христианина не может быть предела совершенству и «конечного знания». Каждый смертный – «вечно ученик и до гроба ученик». Вселенная перед нами – «одна открытая книга ученья».
Оставаясь верен Гоголю, Олег Базунов с годами обрел себе поддержку и еще у одного, не менее дорогого ему союзника – у Райнера Мариа Рильке, чьи стихи и проза стали для Базунова настоящим откровением.
А я гляжу в ночи на майский цвет,
во мне как будто вечности частица
стремится вдаль, в круговорот планет,
она трепещет, и кричит им вслед,
и рвется к ним, и хочет с ними слиться…
Душа вся в этом…[5]
Душа, «будто вечности частица», рвущаяся «в круговорот планет», сопричастна космической бесконечности. Базунову были близки и понятны подобные ощущения и мысли Рильке о незримой связи безбрежного внешнего мира и неизмеримых глубин человеческой души, о «раннем мировом единстве». «Мы – здешние и нынешние, – писал Рильке (1925) одному из адресатов, – ни на минуту не удовлетворяемся временным миром и не связаны с ним; мы непрестанно уходим и уходим к жившим ранее, к нашим предкам, и к тем, кто, по?видимому, последует за нами. И в этом самом большом «открытом» мире и пребывает все…» Базунов, устремленный в «Тополе» к вечности, перетекающей из прошлого в будущее «через клокочущий твой настоящий момент», говоривший от лица тополя: «Все во мне, все в моей кроне: и прошлое, и будущее, и земля, и небо, и солнце, и звезды…» – придерживался той же духовной доминанты.
По мысли Рильке, все «формы здешнего» следует переводить в «высшие планы бытия, к которым мы сами причастны», – но не в христианском смысле, а в «чисто земном, в глубоко земном», – все, что мы зрим и осязаем здесь, переводить в «более широкий, широчайший круг бытия». Не «на тот свет, чья тень темнит нашу Землю, а в некий целый мир, в единое целое».
Привилегия поэта – слышать и слушать музыку всемирного погружения нынешнего и здешнего в бездны бытия и отзываться на ее звучание, вглядываясь в самого себя. Герой «Записок Мальте Лауридса Бригге», альтер эго автора, с удивлением обнаруживал: «Во мне есть глубина, о которой я не подозревал. Все теперь уходит туда. И уж что там творится – не знаю». Манящая бездонность подстерегает каждого, в жизни каждого выпадают минуты духовного напряжения, «когда в нас вступает что?то новое, что?то неизвестное: наши чувства умолкают со сдержанной робостью, все в нас стихает, рождается тишина, и новое, неизвестное никому, стоит среди этой тишины и молчит», – так сказано в «Письмах молодому поэту», где Рильке предупреждал: «.то, что мы называем судьбой, рождается из глубин самого человека, а не настигает людей извне» – и предлагал свою программу спасения.
«Творческий дух должен быть миром в себе и все находить в самом себе или в природе, с которой он заключил союз» – таков изначальный посыл этой программы. «Чтобы выразить себя, обращайтесь к вещам, которые вас окружают, к образам ваших снов и предметам воспоминаний», к своему детству, этому «неоценимому царственному богатству, звал Рильке, и ваша личность утвердит себя». Пристальный интерес к вещам, образы снов, царственное богатство воспоминаний детства – все это, как мы знаем, наглядные приметы базуновской творческой манеры.
«Быть художником, – объяснял Рильке, – это значит: отказаться от расчета и счета, расти как дерево, которое не торопит своих соков и встречает вешние бури без волнений, без страха, что за ними вслед не наступит лето. Оно придет…» Но, добавлял Рильке, лишь для терпеливых: «Я учусь этому ежедневно, – признавался он, – учусь в страданиях, которым я благодарен: терпение – это все!»
Учился всю жизнь терпению и Олег Базунов. В полном согласии со словами Рильке: «Вы должны быть терпеливы, как больной, и уверены в себе, как выздоравливающий, быть может, вы и то и другое. И более того: вы также и врач, который должен следить за собой…». Олег, конечно же, чувствовал себя и таким врачом. Рильке был убежден: «Мы брошены в жизнь, как в ту стихию, которая всего больше нам сродни. У нас нет причин не доверять нашему миру: он нам не враждебен…» Он хотел донести до людей простую истину: «Любовь человека к человеку, быть может, самое трудное из того, что нам предназначено, это последняя правда, последняя проба и испытание, без которого все остальные наши труды ничего не значат…» Знал мучительную цену этой последней правде и Олег Базунов.
…Круг чтения Олега, как уже было ранее сказано, простирался от добиблейской мифологии и святоотеческой литературы до литературы XX века, в широком культурном диапазоне. Он читал много и о разном, его интересовали индийский оккультизм и современные естественно?научные гипотезы, уфология и всемирная история искусств, но были в этом обширном круге чтения книги тех, кто сильнее прочих влиял на духовно?нравственные искания Базунова и способствовал рождению его оригинальной повествовательной манеры. Платона, Гоголя и Райнера Мариа Рильке можно отнести к их числу, на полках базуновской домашней библиотеки – «небольшой, но прекрасно, со вкусом и тщательно подобранной» (Б. Сергуненков) – их книги стояли на видном месте.
Книги были лучшими, самыми преданными друзьями Олега, он делил с ними свое одиночество, всегда чувствуя себя тем самым гоголевским «вечным учеником и до гроба учеником».
Природа письма
Вечным учеником чувствовал себя Олег Базунов и следуя совету Д.С. Лихачева писать упорно, не торопясь, оттачивая каждую фразу. Те черновики, какие сохранились, со всей очевидностью это подтверждают. Путь от рассказа «Рабочий день» к «Запискам любителя городской природы» характерен и поиском своего жанра, и поиском своей художественной манеры.
Олег Базунов, как уже говорилось, был максималистом – и по складу характера, привычкам и пристрастиям, и по своим творческим устремлениям, по целям, которые он перед собой ставил.
В записной книжке начала 1960?х годов есть такая запись: «Нужно, чтобы человек все время ощущал родство со всем окружающим его (что у Зосимы в любви к птичке, травинке и так далее), чтобы он понимал и чувствовал, что он сгусток пульсации все той же мировой энергии, которая, всяко сгущаясь, преобразуясь и развиваясь, бьется в каждой клетке пространства и времени».
И еще такая запись: «Есть одно высшее творчество – Вселенная. Человек не должен забывать, что он творение Природы?Вселенной и что свое творчество он может и должен направлять в общем направлении творчества Вселенной. Детали картины могут меняться в процессе создания, но каждый раз он должен быть соотнесен с ее целым».
Вот так. Человек – сгусток мировой энергии, он призван соотносить свое творчество с общим направлением творчества Вселенной. Таков универсальный творческий стимул – он распространяется и на литературу
Изображаемый жизненный материал, сюжет произведения может быть сколь угодно камерным, бытовым, приземленным, но автору, писателю, если ему это по силам и по таланту, должно пестовать и сохранять в себе ощущение пространства и времени, никогда о том не забывая.
Базунов об этом не забывал. Ощущение пространства сопутствует базуновскому повествователю, как и любому человеку, с момента рождения – поначалу это только «личное пространство», совсем крохотное, но постепенно оно расширяется и расширяется, чтобы пропасть потом за невидимыми пределами.
Овладение пространством отчетливо просматривается в «Тополе», где сперва уютный мир маленькой комнаты сменяется зовущим и пугающим заоконным миром, таинственным миром города, панорама которого открывается с высоты птичьего полета. Повествователю ничто не мешает лицезреть с этой точки неведомые заоблачные дали, однако осязаемо представить глубины космической бездны человеку не дано. «Космос в целом, – по замечанию в записной книжке, – не может быть предметом восприятия наших органов чувств и получает свое существование лишь в человеческом сознании. С развитием цивилизации сфера «ныне осязаемого», безусловно, увеличивается, ощущение протяженности пространства меняется, – только это ничего не меняет принципиально. Балансируя на грани реального и воображаемого, базуновский повествователь совершает в причудливых сновидениях фантастические полеты над Землей, силится проникнуть в невидимый мир мысленно. В мире духовном интуитивное ощущение пространства достигает своей высшей стадии.
И в «Мореплавателе» – мальчик от обжитого морского побережья устремляется в пустынную океанскую даль, и необозримое пространство океана, подобно космической бездне, преобразуется в мир мифологически окрашенный, «существующий лишь в человеческом сознании». Преодоление грани между пространством реальным и мыслимым, художественная трансформация этого преодоления – заметная черта базуновских сюжетных построений и самой манеры письма.
Что же касается ощущения времени, – о чем уже неоднократно заходила речь, – ощущение это связано у Базунова с представлением о движении как имманентном состоянии Вселенной, с восприятием вечности, перетекающей из прошлого в будущее через клокочущий настоящий момент. Прошлое ведь когда?то было настоящим, а настоящее, оборачиваясь будущим, в свою очередь оказывалось прошлым. Время – тоже плод человеческого сознания. У каждого человека свои отношения с временем. Как было кем?то сказано, время – это еще и «часы внутри нас», это личная память.
Энергия личной памяти методично подпитывает процесс превращения безвозвратно исчезнувших реалий в художественный текст, – реалий, формировавших душевный и духовный мир базуновского «внутреннего человека». Таких реалий, трансформировавшихся в образы, – бесчисленное количество, из них, собственно, и соткана сама ткань повествования.
И, может быть, самый сложный, центральный образ в прозе Базунова – вода как источник и синоним всякой жизни. Вода наяву, в канале под окном и в медном кране на кухне, вода – морская стихия и «вода в мозгу вашем». Не случайно с «поведением воды» в первую очередь связано у Базунова «сознательное или почти бессознательное мелькание каких?то там полузабытых и легоньких мыслей», которые «усложняясь и матерея» доходят «порой и вплоть даже до каких?то глубоких философических мыслей и обобщений». «Что же делать, – восклицал базуновский повествователь, – если у меня натура такая, если я так люблю обобщения?»
Сберегая в запасниках памяти и эфемерные житейские факты, и мельчайшие бытовые детали, и лица родственников либо случайных прохожих – все, все, включая мимолетные уличные разговоры и совсем уж, казалось бы, пустяковые какие?нибудь семейные подробности, автор «Тополя» стремился к постижению единой сути вещей.
Задумываясь над тем, как уловить и пластически, в слове воплотить сущность вещи, как разгадать «неведомое предназначение» предмета, «сосредоточенного в себе», Базунов обращался к опыту живописцев и, в частности, бросал взгляд в сторону своего любимого Сезанна. Еще в дневнике студента Бориса из «Холмов, освещенных солнцем» встречались размышления о том, как Сезанн на холсте «переливает жизненную силу вещи из одного состояния в другое», как озабочен он «поиском воплощения бесконечного в конечном», – будучи наделен предельно острым чувством материальности и в то же время глубочайшей духовности. При всем различии изобразительных средств – красок у живописца и слова у писателя, – Базунов учился у Сезанна «перенесению авторского чувства на изображаемый предмет». О Сезанне современник говорил, что он «не копировал то, что видел, а интерпретировал», и понятие истины было ему ближе, чем понятие красоты.
Нечто родственное методу Сезанна слышится и в объяснениях Базунова по поводу идеи, организующей процесс его письма, в признаниях, что, когда он садится за письменный стол, ему не только брезжит «некий самый цельный и общий смысл», но в нем еще как?то присутствует, «как луч, все враз проникающая и озаряющая идея, но живая идея, добытая жизнью и невольно пришедшая когда?то идея». И в тот же момент, когда в его сознании «что?то слилось, воссоединилось, зачалось что?то, достигнув какой?то критической точки, в тот же самый неотличимый момент идея эта организует облачную метаморфозу в какой?то отчасти (но только отчасти лишь!) предварительный ряд, в какой?то, как бы так выразиться, крупно ритмический и ровно бегущий порядок».
Идея формирует ритмический порядок. «Я мучаюсь ритмом, я хочу в муках родить ритм. Вернее, я не хочу в муках, но до сих пор у меня получалось только в муках», – записано на клочке бумаге, затерявшемся в базуновском архиве.
Бег авторской мысли, зачастую весьма прихотливой, определял ритмы и саму структуру базуновской прозы. Об этом в письме к Олегу (1977) выразительно высказалась Ирина Рожанковская. Отметив, что «Зеркала» (отрывок из «Мореплавателя») «демонстрирует полное торжество стиля как мировоззрения», она писала: «Ветвистый волнообразный стиль „Зеркал“ движется как нечто живое. Он движется не по прямой, он словно клубится, растет, развивается, выбрасывая в разные стороны исследующие те или иные предметы стилистические щупальца. Фраза вбирает гроздья ощущений, чувств, воспоминаний, догадок, свойств и признаков и пульсирует как некий переполненный вопрос, как фрагмент некой огромной задачи, и следующая фраза естественно возникает как ответ на предыдущую и вопрос к следующей… Таким же неутомимо вопросительным и уточняющим свойством обладают и более крупные единицы текста: эпизоды, сюжетом которых является некое духовное событие, и развитие каждого такого эпизода порождает некую избыточную смысловую и поэтическую энергию, которая порождает новый эпизод с его новым вопросом». В итоге текст «то вздымается вверх на вершину прозрения, то падает вниз к истоку новой задачи».
Подобным образом осуществлялось стремление Базунова соотносить движение собственной творческой мысли с общим направлением творчества Вселенной. Изображал ли он отдельные предметы, или деревья, людей, или явления городской природы, к примеру петербургское наводнение или абстрактную океанскую стихию, – любое изображение было пронизано тем самым движением, восходящим к «пульсации все той же мировой энергии». И душевная драма базуновского «внутреннего человека», как помним, оказывалась одноприродной, равновеликой и равнозначной космическим катаклизмам, «самим солнечным циклическим бурям». Так что и подходы к изображению человека обуславливались здесь теми же едиными духовными предпосылками.
Человек в прозе Базунова – будь то «невымышленный рассказчик», повествователь, а порой и сам автор, не скрывающий своего лица, – всегда лирически напряжен. Он – наблюдатель. Он – созерцатель. Он – летописец собственных мыслей, ощущений и впечатлений, осуществляющий свою интеллектуальную миссию в полном согласии с эмоциональной реальностью текста. Эмоциональная насыщенность признаний автора (в любой его ипостаси), интонационное богатство душевных переживаний придают, казалось бы, весьма «умственной» манере базуновского письма убедительную поэтическую окраску и гарантируют художественную подлинность.
В прозе Базунова нашел свое воплощение живой индивидуальный процесс духовного самопознания, который, по определению, никогда не может быть завершен – ни в личном, ни в историческом плане. Для литературы эта тема из разряда вечных. Потому?то книги Базунова, по тем самым критериям Л. Я. Гинзбург, поднимают проблематику века – и ХХ, и любого.
Игорь Кузьмичев
Собаки, петухи, лошади
Триптих
На нашей лестнице живет пес. Два года назад обстоятельства моей жизни сложились так, что летнюю пору мне привелось прожить на берегу большого северного озера, в тесном общении – в одной комнате, вернее, в классе сельской школы – с этим псом и его хозяевами.
Но разговор не об озере, не о хозяевах пса, а о самом псе.
Мне и раньше, конечно, часто доводилось читать о собаках, доводилось встречаться с ними на более или менее продолжительное время, – я говорю не о случайных уличных встречах, а о более серьезных, когда моя и собачьи судьбы так или иначе переплетались. В детстве, например, у нас жил несколько месяцев щенок овчарки, но вскоре был отдан кому?то, к сожалению, в детстве в нашей семье животные на сколько?нибудь долгий период не приживались. Или вот – опять же несколько лет назад – у меня сложились было великолепные отношения с огромной, породистой овчаркой, по кличке Верный, но вскоре же Верный издох, – судя по всему, его отравили злые люди. (Было очень жаль эту собаку и ее хозяев, особенно потому, что характер Верного точно соответствовал его имени.)
Пес же, о котором я упомянул в начале, далеко не чистых кровей. Отец его, кажется, овчарка, мать – лайка (или наоборот), во всяком случае, хотя сам он – пес этот – и похож на овчарку, но меньше средней овчарки ростом, и хвост у него весело загибается кверху, и уши короче и мохнатее, чем у чистокровной овчарки, а главное, он выдает себя с головой привычкой звонко и несолидно лаять по всякому пустячному поводу и в любое время.
И стар он уже – ему восемь лет, – и избалован, как почти всякая собака комнатной жизни, и слишком любит сладкое, и попрошайка, – когда сидишь за столом, подходит по очереди к тем, в ком чувствует слабину, кладет свою теплую обаятельную башку на колено и, глядя в глаза, наращивая усилие, давит на колено горлом, так что все сильнее и натужнее слышен вырывающийся из его глотки и отдающий вибрацией в колено сип и хрип, мол, задушусь, но не отступлю, – выпросит таким манером что?нибудь – и к следующему… Но есть и еще недостаток у этого пса: он несколько робок, так что, честно говоря, я бы не поставил на него большой ставки в собачьей драке; и в то же время, глядя на его морду, я не берусь утверждать заранее, как он поведет себя в случае, например, недавно освещенном в иностранной прессе, – я имею в виду тот случай, когда овчарка, пробегая по улице какого?то европейского города и увидев, что на ребенка несется машина, кинулась, оттолкнула мальчика из?под самых колес, сама была сбита и тяжело изранена машиной; или я не возьмусь утверждать, глядя на морду этого несколько робкого пса, живущего на нашей лестнице, что он спасует при сколько?нибудь серьезной угрозе его хозяевам – слишком он предан им, особенно своему хозяину, и слишком сильно их любит.
Но не обо всех этих достоинствах и недостатках живущего на нашей лестнице пса идет речь, а о том сильном и глубоком, связанном с ним и не раз повторявшемся впоследствии впечатлении, которое я впервые в жизни испытал так остро в летнюю пору на берегу северного озера, сидя за столом в классе начальной сельской школы и уплетая в большом количестве почти только что пойманных рыбаками крупных и мясистых судаков и лещей, смачно зажаренных в масле.
Я бы солгал здесь, если бы сказал, что испытанное мною на берегу озера впечатление было столь решающим, так сразу на меня повлияло, что я тут же сделал определенные выводы и тут же бесповоротно претворил их в жизнь. Нет, выводы эти я сделал и претворил их в жизнь много позже, и в основном, пожалуй, не в силу возвышенных причин, а в силу причин гораздо более прозаических и мало интересных для этого повествования, но, если быть справедливым, в моей последней решимости и это сыграло свою роль, – вернее, ни те ни другие причины не могли бы стать решающими по отдельности, одни без других, а еще вернее, и я в этом убежден, и те и другие причины в каких?то глубинах имеют общий корень, так что, если тщательно их проанализировать, окажется, что о них невозможно и говорить в отрыве друг от друга.
Так вот, жуя кусок леща и, словно фокусник, вытаскивая бесконечное количество больших и маленьких костей, что, против обыкновения, почти не мешало моему наслаждению лещом… Так же как не мешало моему наслаждению и то, что лишь накануне, сидя на носу лодки в роли подсобника заядлого рыболова?удильщика – хозяина этого пса, – я до ощущения болевого тока воспринимал, как рыба, пачкая мою руку слизью и чешуей, пищала у меня в пятерне от боли и страха, когда я старался, правда, как можно деликатнее, высвобождать жало крючка из ее губы или щеки… Так вот, жуя костистого леща, я вдруг встретился взглядом с самим псом – глаза в глаза.
Пес, как обычно, стоял на четырех лапах по ту сторону стола, намного ниже уровня этого стола и молча, чуть склонив набок голову и имея на морде выражение, получающееся от этого склонения головы набок и от асимметрично приподнявшегося над одним глазом мягкого и нежного, с редко торчащими сквозь шерсть волосинками бугорка – собачьей брови, смотрел на меня, смотрел мне в глаза, как я ем жареную рыбу.
Вот и все. Вот это и есть то впечатление.
Здесь можно возмутиться: мол, при чем же взгляд пса, который с жадностью и завистью смотрел на то, как ты поедаешь рыбу, который сам в этот момент судорожно глотал слюну, больше всего на свете желая вот так же поедать рыбу, который испокон веку только и делал, что поедал мясо и рыбу; мол, при чем тут взгляд пса, когда почти явно уже ты клонишь куда?то, в какую?то определенную сторону, к неким определенным выводам… Да, я согласен, признаюсь, что с таким же успехом я мог бы встретиться в тот момент взглядом с улыбающимся лещом, например; и если снова пытаться анализировать, то здесь снова все становится зыбким, уходит из?под ног, скрывается в какую?то непроясненную глубину…
Так вот, пес смотрел мне в глаза, и я в его глазах увидел вдруг такое, отчего лещ застрял у меня в горле и отчего мне стало страшно неловко, не по себе стало.
Представьте, что, вы, сидя в битком набитом трамвае или троллейбусе и задумавшись о чем?то, долго ехали в таком задумчивом состоянии, со взором, зацепившимся за какую?нибудь царапину на стекле, или со взором, вольно скользящим где?то рядом с троллейбусом (или трамваем) по ту сторону стекла. А потом вдруг вас проняло что?то, вы подняли глаза и, возвращаясь из задумчивости, начинаете понимать, что уже давно перед вами, упершись в поисках хотя бы какой?то опоры, своими дряхлыми коленями в ваши колени, буквально висит сдавленный и притиснутый сзади какой?нибудь достойный, терпеливый старик, и вы встретились с устремленным на вас сверху, из висячего положения, взглядом чуть скорбным, в котором, как в фокусе, и сосредоточено все то достоинство, скромность, терпение и сострадание к вам, притушенное смирением – где же старику этому в таком положении находить опору, как не в смирении, – и благородное осуждение, не столько за себя даже, сколько за поругание как бы самой идеи. Боже упаси, я никак не хочу сравнением этим ни чрезмерно возвысить пса, ни тем более хоть в малейшей степени унизить достойного старика. Думаю, он бы и сам не обиделся этому сравнению, если еще учесть такую существенную, подчеркнутую мною деталь, как то, что в первом случае взгляд обращен был ко мне снизу вверх, а во втором наоборот – сверху вниз.
К тому же собаки – по утверждению ученых – не различают цветов, для собак существует лишь черное и белое. Правда, здесь эти оптические особенности собачьего зрения, пожалуй, не имеют столь решающего значения. Они, пожалуй, лишь подтверждают относительную достоверность восприятия окружающего мира как вообще нашими чувствами, так и, в частности, собачьим и нашим зрением – нашим потому, что мы тоже, наверное, чего?нибудь да не различаем в этом мире. Единственно, может быть, в какой?то сложной связи с этим упрощенным собачьим черно?белым восприятием находится то, что собаки, как и дети, гораздо лучше, чем взрослые, различают черное и белое в переносном смысле, то есть злое и доброе.
Пес, о котором идет речь, был умный пес, до странности умный, может быть, правда, он мне казался уж таким особенно умным потому, что я раньше, за исключением одного давнишнего случая, никогда так тесно и продолжительно не общался с собаками. Пес этот, например, вполне понимал, по?моему (и по утверждению своих хозяев), основное содержание человеческой речи, так что стоило спокойно, не меняя интонации, идя куда?нибудь, например на берег озера, заговорить о том, что вот, мол, придем на озеро и сфотографируем этого пса – пес не любил фотографироваться, – как он тут же тихо и незаметно отставал и испарялся в какие?нибудь кустистые заросли; или стоило, опять же не меняя интонации, ритма речи, назвав его по имени, сказать: принеси то?то и то?то, и он подымался, шел и приносил; или стоило заговорить о прогулке… Ну и т. д. и т. п., уже не говоря о каких?нибудь сборах или намечающемся отъезде хозяина…
Так вот, мне стало как?то не по себе, когда я встретился в тот раз глазами с этим псом.
Во взгляде его, конечно, было большое желание тут же, сразу, заполучить жареную рыбу, но было в нем и смиренное понимание зависимости этого желания от моей воли, была и молчаливая, скромная просьба войти в его положение – слюны, мол, полная пасть и спазма в глотке, – скорбь – тень скорби этой всегда почти присутствует в любом собачьем взгляде, если собака не совсем уж глупое и не совсем бездумно?легкомысленное животное, – скорбь немого укора: смотри, мол, ты по?человечески сидишь за столом, а я вынужден смиренно ждать своей очереди, своей доли. Я не ропщу, нет, – я привык к своему зависимому и подчиненному положению: смотри, ты сидишь за столом, перед тарелкой, а меня как поставило когда?то на четыре лапы, так и не дает разогнуться и никогда уже не даст, всегда я так и буду стоять перед тобой на четырех лапах и по?собачьи смотреть на тебя снизу вверх, а разве я виноват, что, пробираясь по лабиринту, случайно свернул в ложный ход и попал в тупик, из которого уже нельзя вернуться обратно и выйти на столбовую дорогу; и, заметь, ведь ты так же случайно попал на правильный путь и нашел выход; случайно или нет, ты вышел к свету, но я тебя уважаю за это; я уважаю и готов любить тебя за то, что я только ветвь, боковой, почти ненужный отросток на дереве, где ты и ствол, и цветок, и плод его. Да, я многое чую и понимаю, я весь тянусь к тебе, стремлюсь понять и любить тебя, и ты не можешь не видеть этого в моем взгляде, но я не могу говорить – это мучительно, между прочим, не мочь говорить, когда хочешь сказать, – но скажи по правде, глядя мне в глаза, все ли люди добрее, великодушнее, преданнее тому, кого любят, чем я, стоящий горизонтально? Я забрел в темный тупик, стою параллельно земле, вою и лаю, и скорбно смотрю в твои глаза, и, если только ты захочешь, не могу и минуты выдержать твоего взгляда; а ты выбрался к свету, правда, ошалел несколько от радости, и теперь тебе лишь смотреть да смотреть, как говорится, смотреть в оба; ты теперь, стоя перпендикулярно земле, можешь не только лаять и выть, как я, но и петь. Но скажи откровенно, разве то, что ты выбрался к свету, совсем не зависит от того, что я и другие, подобные мне, позатыкали собой эти темные тупики?
Вот тогда?то я чуть было и не поперхнулся лещом, точнее, лещовой костью, вот тут?то мне и стало не совсем по себе, и если обычно в случае подобной неловкости можно встать, например, и уступить место, то здесь я даже этого не мог сделать, не должен был и не мог, и даже поерзать на стуле я не должен был и не мог, потому что это было бы смешно: перед кем ерзать на стуле, перед собакой?
Конечно, вся эта речь была произнесена в один какой?то момент, уместилась в одном?единственном собачьем взгляде, но, конечно, все это давно уже зрело и накоплялось, и все то, что записано выше, я внял не только от этого пса и не сразу, не в единственный момент, а на протяжении каких?то сроков, и только осветилось все это в один момент под впечатлением взгляда и выражения на песьей морде, с приподнятой бровью над глазом.
Но и водяная капля ведь отрывается и начинает падение не сразу Она сперва, катясь или скользя по самому краю или вися неподвижно, накопляется, напивается влагой и только потом, выросши до какой?то критической неуловимости и не выдерживая долее нарастающего напряжения, вдруг отрывается и уже свободно летит, притом самый момент отрыва наверняка незаметен и для самой капли. И если взглянуть на эту каплю с несколько иного уже ракурса, – сколько нужно таких вот капель, равномерно накапливающихся и настойчиво падающих, чтобы в конце концов они могли достучаться сквозь наши прочно материализовавшиеся покровы.
Октябрь месяц этого года я прожил в одиночестве, в некотором дачном месте, в шестидесяти километрах от города. Разнообразные чувства обуревали меня в этот долгий месяц, но из приятных самым сильным было наслаждение, испытываемое от этого самого одиночества, тишины и поздней осени. Строго говоря, я жил не один, со мной жили кошка и одиннадцать кур – их я должен был поить и кормить и при случае оберегать от набегов хищной соседской собачки, уже удавившей одну курицу, отчего остальные теперь панически этой собачки боялись.
Жизнь моя текла просто и размеренно, о чем я давно мечтал и чего никак не мог достичь в городе. Вставал я рано, кормил кур и кошку, ходил за молоком, топил плиту, завтракал, прохлаждался минут двадцать на участке, наблюдая опять?таки кур, потом сидел за скрипучим столиком у окна с карандашом в руке и с переменным успехом снова наблюдал кур и неохотно готовящуюся к зиме природу. И снова топил печку, кормил кур и кошку, обедал, потом пытался опять сидеть с карандашом, или гулял, или читал, и т. д. и т. д., потом тянулись вечерние часы, потом ночные часы «с криками петухов в полночь, перед зарей и в зорю», и все снова, и все сначала…
О внешней канве моей жизни за этот месяц рассказывать нечего, если же обратиться к внутренней моей жизни, то, как и многим, наверное, мне кажется, что о ней, о внутренней моей жизни, нельзя ни в сказке сказать, ни пером нельзя ее описать. Здесь же я хочу рассказать, собственно говоря, не о своей внешней или внутренней жизни за этот месяц, а о жизни кур, которая неприхотливо текла буквально перед моим носом и спокойная естественность которой нарушалась лишь встречным ко мне куриным любопытством. Чтобы не обращаться к своей внутренней жизни, которую не описать пером, я кое?что хочу вспомнить о курах и кое?что рассказать о жизни кур, к которым успел привязаться в этот месяц, которых даже полюбил, вернее, не всех, а прежде всего петуха.
Пусть опять же ко мне не придерутся за слово «полюбил». Конечно же, полюбил не в смысле глубоком, человеческом, а просто отметил этого петуха среди его сестер и братьев или жен и соперников, заинтересовался его судьбой, искренне переживал его болезнь и до сих пор, хотя с разлуки нашей прошло уже более месяца, нет?нет да спрашиваю по телефону о его житье?бытье, о его здоровье. По телефону я разговариваю о петухе с Юлией Андреевной – не родственницей моей, но и не совершенно чужой мне женщиной, – законной владелицей того загородного дома и петуха, с уважаемой Юлией Андреевной, которая и в то время, пока я жил там в октябре месяце, нет?нет да осчастливливала нас своими неожиданными наездами из города, движимая любознательностью к жизни соседей, а также заботой о порученных мне ею курах, об их регулярном кормлении, о все почему?то не начинающемся несении яиц, заботой о судьбе дома, участка, яблонь, почти начисто сгубленных какою?то лихою причиною, и заботой о судьбе наполовину сгнивших бревен, сложенных у забора, – предмете несостоявшейся лет восемь назад коммерческой сделки с соседом, хозяином как раз той зловредной и брехливой собачки, что удавила одну из кур Юлии Андреевны, притом на земле, относящейся к ее, Юлии Андреевны, собственной территории. Правда, нужно здесь отметить, что оставшаяся материально невозмещенной гибель куры этой не прошла бесследно, она была использована Юлией Андреевной как средство великодушного, но величественного (и этим уязвляющего) давления на совесть соседей.
Но я опять же отклонился в сторону. Тема обоюдоострых взаимоотношений Юлии Андреевны с ее сельскими и городскими соседями – это вполне самостоятельная сложная и глубокая тема, требующая такого же глубокого и серьезного ее освещения. Темы этой, чтобы ее не упростить, а главное не исказить – хотя упрощение тоже искажение, – нельзя касаться так, кое?как, походя, лишь краем цепляя ее, а не выволакивая всю ее во всем объеме и красочности на свет божий. Поэтому я, хотя и не зачеркиваю того, что написал уже, но теперь тороплюсь возвратиться к оставленным мною курам.
Итак, забота о вверенных мне Юлией Андреевной курах меня не обременяла, за исключением трех или четырех ночей, в которые, преодолевая укоренившуюся в курах привычку, я занимался их переселением из летнего курятника в зимний, ловя их, всполошившихся, за что попало в темном и загроможденном сарае – летнем курятнике, – и по одной, по две и по три таская в более утепленное помещение – зимний курятник, где каждый раз еще с полчаса светил им, курам моим, свечкой в окошко, чтобы они могли угомониться, рассевшись там на специально приготовленных мною жердях. Забота о курах меня не обременяла, за исключением еще тех случаев, когда куры от набегов все той же собачки, оставляя на родной усадьбе лишь сырые перья, разбегались, попутно взлетая на дома и сараи, далеко по окрестностям и в ближайший лесок, откуда я потом с помощью доброжелательно настроенных соседей изгонял некоторых из них восвояси, на собственную их территорию (остальные же обычно возвращались к утру самостоятельно). За исключением всех этих случаев, мои заботы о курах сводились лишь к их незатейливому кормлению: утром и вечером – пшено, по полкилограмма пшена (28 копеек за килограмм), пшено они явно предпочитали другим крупам, перловке например, – недаром в поговорке: «голодной курице просо снится» упоминается именно просо, а не что?либо иное; в обед же, если не было завозимого Юлией Андреевной из города своеобразного, но очень питательного комбикорма, я варил курам картофель в мундире, из которого с помощью пустой пол?литровой бутылки наминал солидную кастрюлю прекрасного картофельного пюре, которое куры с большим удовольствием, правда, в несколько приемов, но до последней крошки поедали…
Нет, пожалуй, другого живого существа, которое мы бы почти с самого раннего детства знали лучше, чем курицу Еще толком не умея говорить, мы знакомимся, например, с курочкой Рябой, которая так заботливо утешает плачущих деда и бабу; или трогательно умиляемся на распушившуюся на острастку всем своим врагам, нервно квохчущую наседку с ее крохотными жалостливо попискивающими цыплятками. В период курочки Рябы мы, если встречаемся с такой наседкой, то с опаской пятимся от нее, разговаривая с ней на равных, далее с долей почтения, даже с подобострастием, оттенки эти зависят от тактического взаимоположения нас, наседки, окружающих заборов, стен дома и сарая. Но проходит время, и мы чаще всего уже больше не разговариваем с курами, а в лучшем случае наблюдаем, если придется, как то и дело неожиданно вспыхивают петушиные драки, как дерутся между собой, закаляя свое геройство и выхваляясь перед молоденькими подружками, петушки?отроки и петухи?юноши. Еще чуть позднее, как?нибудь ненароком, сидя на крылечке, мы с беспокойством начинаем замечать и другие аспекты куриной жизни. Бывает, внимание наше как?то отмечает ту или иную курицу. Бывает, какая?нибудь солидная, матерая, мужеподобная кура, со свисающим на глаза – на глаз, вернее – гребнем, с нахально?циничными повадками, несимпатичная нам кура, вдруг напоминает нам какую?нибудь отдаленно знакомую по городу коммунальную тетку курящую и разговаривающую грубым, осипшим голосом. Но, кроме куриных антипатий, бывают в детстве и куриные симпатии. Бывает, купят курицу на базаре и под давлением нашей мольбы ей оставляют жизнь и отдают ее под наше покровительство. Это обычно хорошенькая, аккуратненькая, даже, может быть, особенно женственная, какая?нибудь на этот раз уже живая курочка Ряба, лично для нас несущая тепленькие яички, которая держится немного в стороне от хозяйских кур и к которой все так привязываются к концу лета, что об употреблении ее в суп уже не может быть и речи, и она попадает в суп уже после нашего отъезда, безвозмездно оставленная хозяевам на их заботу и попечение. Как видно из этого эпизода, только что всплывшего в моей памяти, мы в детстве уже склонны отмечать некоторых кур своим особым вниманием, так что нет ничего чрезмерно странного в том, что я снова как?то выделил и отметил кого?то из куриного племени.
Куры, куры… Кур всегда называют курами, то есть всех кур – кур мужского и женского рода; и хотя где?то там подразумевается, что куры – это и куры и петухи, но женский смысл слова «куры» преобладает, и бедные петухи в курах этих, абстрактных курах женского рода, растворяются, и абстрактно торжествует женское куриное начало. А когда?то было не так, «куры» твердо значило «все куры», то есть и те и другие, и петух назывался не только петухом, но и куром, петух – это был кур. А слово «петух», как я недавно узнал из одной книги и о чем никогда почему?то самостоятельно не задумывался, происходит от слова «петь»: петь – петел – петух.
Так вот, петух был когда?то куром, и тогда слово «кур» не несло в себе оттенка унижения мужского петушиного достоинства. Когда?то было совсем наоборот, – не скромная кура, а красавец кур?петух считался в те древние времена священной птицей: он возвещал время и ход ночи, он первый своим криком встречал, приветствовал встающее над землею светило – красное солнце. И как бы ни менялся в нас и для нас смысл слов, истинный петух, не обращая ни на кого внимания, всегда помнит свое былое величие и достойно блюдет себя и в оперении, и в осанке, и в благородной снисходительности к матерям, сестрам, женам и к молодому поколению.
Вот именно таким благородным, блюдущим себя петухом был тот петух, что завоевал этой осенью мою столь сильную симпатию. Много я видел петухов на своем веку, может быть, даже и более крупных и более красивых оперением, чем этот, но уж так сошлись все обстоятельства, что именно в этом петухе наиболее полно выразилось для меня понятие кур?петух. Слов нет, петух этот очень красив: роскошный крупный гребень, тяжело колышущийся, полный алой и горячей – потрогайте?ка его – петушиной крови, как крупная рубиновая или золотая корона, спускающийся даже немного ниже черепа, на загривок, на шею, – поистине золотой гребешок. Да и под стать гребню роскошное оперение. Это был не белый петух и не черный петух, это был и не просто пестрый петух – это был петух огненный. Будто высыпали перед вами кучу раскаленных углей и кусков металла, и словно куча эта теперь остывала на ваших глазах, держа в себе и красное, и золотое, еще горящее и уже подернутое пеплом, бурое, ржавое, цвета свернувшейся крови, и те иссиня?черные с зеленым отливы, что называются «цвета воронова крыла» или цвета вороненой стали. Это был каленый?перекаленый петух. (Бывали когда?то каленые стрелы, а то был каленый петух.) От головы на грудь и спину ниспадал у него пышный и золотой воротник, а у основания иссиня?черного хвоста, утонченные и изящные, вились, завивались, кудрявились легкие перышки ржаво?кровавого цвета…
А осанка! Слов нет, в ней выражается сознание или ощущение, как вам больше понравится, всей этой великолепности своего оперения и короны, а главное – знание, убежденность в священности своей особы, сознание породы, уходящей корнями в дремучую древность. Не то что осанка какой?нибудь куры, всегда лишь разгребающей да подбирающей, торчащей хвостом вверх, головой в землю. Нет, здесь все не так. Конечно, иногда приходится нагибаться за зернышком, за жучком?червячком каким?нибудь, или, в заботе о тех же курах, издавая глоткой гортанный клекот, показывать клювом на что?нибудь съедобное, найденное в земле или на земле, или иногда клоктать просто так, впустую, для виду, чтобы напомнить лишний раз себе и другим свое руководящее и ответственное положение (последнего формального приема за своим петелом я, правда, никогда не замечал). Но порой такой истый, блюдущий себя и гордый своей кровью петух и в ущерб полноте своего зоба как можно больше времени держится вертикально, прямо, как штык, повыше поднимая свою гребенчатую голову: грудь дугой, хвост фонтаном да еще: «Ко?ко?ко»… Генерал! Так – Генералом – петуха этого и прозвала Юлия Андреевна, и вслед за ней и соседи?благожелатели, и соседи, держащие строгий и по видимости равнодушный нейтралитет. У меня только как?то не получалось называть этого петуха Генералом. А Юлия Андреевна, как только приедет, так: «Мой Генерал», «Как мой Генерал?», «Что мой Генерал?».
Здесь имеет смысл остановиться на вопросе воздействия человека на формы и цвета своей одежды и обратно: форм и цветов одежды на человека. В отличие от того же петуха, от которого практически мало что зависит в выборе оперения и расцветки, человек сам создает моды и стили. Хотя практически?то и он скорее жертва моды, чем ее распорядитель. Если сбросить со счета одежды, вызванные к жизни целесообразностью применения в мирном или ратном труде, или просто в данном географическом или сезонном образе жизни, или потребностью в красоте и изяществе, то сверх этого все загибы и заносы на поворотах естественного зигзага моды, выходящие зачастую из?под всякого контроля рассудка и вкуса, находятся в прямой зависимости от той или иной исторической эпохи. Взять, к примеру, какие?нибудь кринолины, какие?нибудь фижмы и сборки, невообразимой расцветки мундиры, штаны пуфами и рукава пуфами, какие?нибудь немыслимые по размерам и формам прически и головные уборы, чудовищные жа?бо и бо?а, не говоря уже о каких?нибудь современных буржуазных выкрутасах и вывихах в этой области. Но вот ведь в чем дело и интересное соответствие: как разнообразные оперения петуха, так и разнообразные одежды имеют неотразимое свойство обратного воздействия на своих носителей. И я говорю не только о том чувстве, которое возникает от взгляда на себя со стороны, чужими глазами, нет, я говорю о внутреннем и связанном с ним кожно?поверхностном самоощущении. Попробуйте надеть на себя какие?нибудь дамские туфли даже не на очень высоком каблуке, широкие и неестественно короткие брюки, какой?нибудь не тесный вам, а просто внешне узкий в плечах пиджачок и походите в таком виде по комнате, – вы почувствуете себя неловко и приниженно. И если к тому же как раз в этот момент вам по телефону позвонит какой?нибудь предрасположенный к агрессивности ваш знакомый, любящий голосом воздействовать на неагрессивного человека, с которым он общается, то вы тут же – во всяком случае в первый момент – почувствуете себя не в своей тарелке, и если не стушуетесь у телефона, то заговорите несвойственным вам голосом. И как же все будет совершенно иначе, если вы только наденете в меру длинные – не обязательно модные, но элегантные – брюки и пиджак с широкими мощно?покатыми плечами, и все будет иначе, даже если лично у вас какая?нибудь не особо выдающаяся фигура и если вы вообще не особо выдающееся лицо. Представляете же, как самоуверенно и величественно вел себя какой?нибудь муж XVIII века, когда под подбородком своим, вокруг шеи своей чувствовал несколько квадратных метров накрахмаленного и гофрированного белоснежного батиста, а на гордо отставленной в сторону ляжке ощущал пуф из ярко?цветного шелка или шерсти. Или как величественно и гордо чувствовал себя на инкрустированном паркете под хрустальными люстрами или на плацу перед замершим строем тот же генерал – весь навыкате, весь в голубом, золотом, красном, весь в шпорах, лампасах, эполетах, зигзагах и позументах.
Теперь, после рассмотрения всего этого, нам, пожалуй, будет яснее самоощущение петуха, с той лишь разницей, что если с человека в любую эпоху и в любом месте можно безболезненно для него совлечь одежды, – если говорить в прямом смысле, – то петуха в живом его состоянии ощипать и пустить разгуливать по двору в таком ощипанном виде и жестоко и бесчеловечно. Зато совсем иное дело, когда петух, как наш петух, например, чувствует на себе свой роскошный, злато?огненный наряд, да еще не просто накинутый на его плечи, а уходящий, так сказать, корнями своими в телесное петушиное естество. Недаром он то и дело так любовно дыбит и встряхивает свой наряд и то и дело во всякий?то свободный момент тщательно перебирает и чистит его по перышку и смазывает каждое перышко по отдельности специальным салом, доставаемым, правда, не очень?то величавым жестом шеи и головы из особого пупыра – хранилища этого сала, помещающегося как раз у хвоста; недаром петух, чувствуя великолепие своего костюма и чувствуя на себе скрываемые под притворным равнодушием восторженные взгляды своих спутниц, говорит с разнообразнейшими оттенками свое утвердительное, вопросительное и разное другое «ко?ко?ко», говорит предостерегающее «кр?р?р» и поет свое коронное «кукареку»; недаром петух, чувствуя в своих жилах бурление горячей крови, выступает таким чеканным шагом, гоголем таким, словно претворяет удары сердца своего в этот чекан?шаг; словно идет не по глине, песку или траве?мураве, а по раскаленной плите, от которой не мешкая нужно отрывать ноги…
Вот тут, дойдя в своем повествовании до места о чеканном петушином шаге и желая как?то сравнить петуха с поэтом (тем более, между прочим, что «поэт» тоже ведь, наверно, от «петь»), я сделаю еще одно давно лелеемое мною отступление.
Вы, конечно, знакомы с выражением: «крутится, как белка в колесе». Но дело, собственно, не в подобном колесе, так как у нас нет ни беличьего колеса, ни беличьей клетки, но у нас есть белка, и, когда нам становится невмоготу ее бешеное метание по комнате, по стенам, окнам и мебели, мы заманиваем ее в маленькую птичью клетку и держим ее там некоторое время. За неимением колеса, белка, подобно механическому шатуну, начинает метаться в этой клетке влево и вправо, влево и вправо и настолько втягивается в это занятие, что даже когда никто не гонит ее в клетку, она сама по себе время от времени заскакивает туда и подолгу, если не выгнать ее, самозабвенно шмыгает там туда и сюда, туда и сюда. Созерцание ее метаний в клетке наводит на мысль, что бьющая через край энергия, встречая какое?либо ограничение своему исходу, рождает ритм; потому же, сдерживая давление воды, стучит кран на кухне, потому же ритмично ухает пламя в печи; по тем же каким?то законам вылетают из звезд волны и кванты; то же, видимо, происходит с поэтом, когда кипящая в нем энергия изливается, преодолевая косность слова. Вот только в этом смысле, с некоторой натяжкой, конечно, я и сравниваю нашего петуха с поэтом только тогда, когда петух этот, как породистая лошадь на смотру, испытывая игру крови в жилах и красуясь, чеканит свой отрывистый шаг.
Возвращаясь в основное русло повествования, после всех этих отклонений и отступлений, я должен сказать: первоначально всех кур у Юлии Андреевны было тринадцать, то есть чертова дюжина – судя по всему, любимое ее число. Среди этих кур было шесть обыкновенных белых, четыре пестреньких – одну из них загрызла соседская собачка – и три петуха одинаковой масти. Все тринадцать кур в младенческом состоянии еще на исходе зимы были с большими трудностями приобретены Юлией Андреевной на какой?то базе на окраине города и первые шаги свои осуществили в городской квартире – вернее, комнате – Юлии Андреевны, где и протекло начало их жизни до первых устойчиво теплых весенних дней, когда они и были торжественно препровождены в сельскую местность. В начале же осени, уже после преждевременной и бесполезной смерти одной из кур, Юлия Андреевна, исходя из каких?то известных лишь ей соображений, подарила одного из петухов, самого голенастого, дальней соседке Марусе – жене Пахома Афанасьевича, сына Афанасия Гавриловича – одного из ее, Юлии Андреевны, непосредственных соседей, разговор о котором у нас впереди.
Соседка Маруся потом, уже после гибели даренного ей петуха, образно рассказывала мне, какой он был замечательный петух, как он, голенастый петух этот, носился по ихнему участку, словно мотороллер, – делая это сравнение, она сама, крупная и дородная, быстро двигала согнутыми в локтях руками, изображая, как носится мотороллер и как носился ее петух, – и что был он страшно прожорлив, и что жрал он все, что ни попадалось ему на глаза. Последнее и явилось причиной его гибели: злополучный петух неосмотрительно склевал и проглотил железный гвоздь, который застрял у него в глотке, и, по непонятным причинам – ведь гвоздь был извлечен из его горла после того, как его зарезали, – петух стал хиреть и чахнуть, потерял аппетит, хвост опустил книзу и вместо пения издавал горлом какие?то хриплые и жалкие звуки. Зарезан он был хозяевами на суп с огромной жалостью, как обычно режут в деревнях в последний момент безнадежно больную скотину. В дальнейшем Маруся не раз тонко намекала Юлии Андреевне, что она бы не прочь была получить еще одного петуха, даже обменяв на него какую?нибудь свою курицу, но к тому времени в дипломатии, тактике и стратегии Юлии Андреевны что?то коренным образом изменилось и от передачи второго петуха дальней соседке Марусе Юлия Андреевна воздержалась. И потом не раз, сидя у своего окна за скрипучим столиком, я наблюдал, какие вожделенные и любовные взгляды бросала соседка Маруся на нашего Генерала, проходя с тазом белья через участок Юлии Андреевны на речку и потом обратно с речки. (Проходила же Маруся по территории Юлии Андреевны вполне законно, так как уже давным?давно была установлена постоянная конвенция, по которой вне зависимости от тех или иных временно сложившихся взаимоотношений было разрешено составу их семей и соответственно их дачникам проходить по участку Юлии Андреевны к речке, а Юлии Андреевне и проживающим у Юлии Андреевны сокращать через Марусин участок путь на станцию.) И уже при мне Юлии Андреевне несколько раз по каким?то сложным каналам, по большому соседскому кругу (потому что есть еще непосредственный, малый соседский круг), через Петра Петровича и Евдокию Семеновну было предложено, в случае если она собирается резать (?!) своего петуха, обменять его на другого петуха, уже не непосредственно Марусиного, а на петуха молчаливого Афанасия Гавриловича, отца Пахома Афанасьевича, мужа Маруси. Но на вокруги пришедшее предложение это Юлия Андреевна решительно и гордо заявила, что петух Афанасия Гавриловича ей не нужен, а что резать она никого никогда не собиралась и впредь не собирается.
Но вернемся непосредственно к петухам. Странное дело, все три петуха, и погибший и два оставшихся у Юлии Андреевны, были одной масти – но насколько же это были непохожие друг на друга петухи! Я теперь говорю не об их оперении, а об их, так сказать, характерах. Правда, о том голенастом, подаренном Марусе петухе я и знаю только, что он гонялся по участку, как мотороллер, и что был чудовищно жаден и прожорлив – это могло объясняться его продолжавшимся ростом, – но по возрасту и росту два оставшихся в живых петуха немногим от него отличались, и между тем они не были ни чрезмерно жадны, ни чрезмерно прожорливы. С другой стороны, мне особенно было заметно несходство характеров, а присмотреться, так и выражения и повадок двух других, оставшихся у Юлии Андреевны петухов. Недаром все дипломатические переговоры велись и любовно?вожделенные взгляды бросались лишь на одного из них, хотя оба петуха были почти одинакового роста и размера и одинаковой расцветки.
Я говорил уже, что, в отличие от всех, кто называл одного из этих петухов Генералом, и несмотря на то, что петух этот действительно часто внешне походил на генерала, у меня в сознании, как я ни старался совместить «генерала» с этим петухом, ничего не получалось; «генерала», по моему глубокому убеждению, не хватало для этого петуха, этот петух был больше генерала, что?то было в этом петухе более глубокое и более тонкое. И вот когда я попытался определить, что же это такое в петухе более глубокое и более тонкое, то у меня само собой возникло слово «благородство». Петух был благородным, и про себя я его так и называл – «благородное животное», «благородная тварь», а вслух – Петелом, тогда как для второго петуха сама собой выскочила кличка Пижон. Эта кличка – Пижон – буквально сорвалась с моих губ, когда я, как?то очередной раз сыпля курам пшено и разозлившись за что?то на этого петуха, с раздражением поддал ему под зад, страшно унизив его этим. И что самое занятное, униженный мною петух этот действительно был пижоном – драчливым, вечно кем?то недовольным, спесивым и дерзким. И что особенно соответствовало его кличке, так это раздражающая манера приподнимать то одно, то другое свое плечико. Такое пижонское приподымание плечиков я замечал у одного моего хорошего знакомого и, как ни странно, довольно пожилого уже человека. Правда, я никак не хочу ставить знак равенства между этим петухом и моим давнишним хорошим знакомым. Ведь в характеристике человека важно не столько взятое в отдельности, в данном случае отрицательное, качество, как вся сложная комбинация качеств, в которой количественное соотношение, общая уравновешенность или, наоборот, преобладание чего?либо играют определяющую, если не решающую роль. Так вот, мой знакомый не был носителем одного этого, на мой взгляд, отрицательного качества – пижонского приподымания плечиков, – у моего знакомого сверх того была и, надеюсь, существует и поныне целая уйма разнообразных и ярких качеств положительных, которые фактически определяли, так сказать, душу моего знакомого.
Но возвратимся снова к Пижону?петуху. Я как?то заметил, что у петуха этого одно плечо значительно выше другого, и подумал было сперва, что мало ли что могло случиться: может быть, соседская собачка как?нибудь невзначай помяла ему бока, повредила ему суставы, может быть, он от рождения такой кривобокий; но, начав наблюдения, я установил, что плечевой петушиный дефект как?то странно перемещается с одной стороны на другую: иногда выше становится правое плечо, а иногда – левое, притом в строгой зависимости от того, каким боком ко мне находился петух в данный момент (приподымалось всегда противоположное плечо). Оказалось, все обстоит очень просто: Пижон пижонил передо мной, он держался вызывающе и нахально, и приподнятое плечо означало на его петушином жаргоне, что он, мол, презирает меня, что в любую минуту он готов будто бы наскочить на меня, кинуться в бой. И все это в тот момент, когда я сыпал курам, и ему в том числе, корм, который он же первый потом жадно и поедал. Но это было, конечно, сплошное бахвальство, Пижон был трусом, и, когда я, возмущенный его гонором, его хамским пижонством, несколько раз внушительно поддал ему под зад, он бросил эти свои дурацкие замашки и наскоки и стал держаться от меня на почтительном расстоянии, лишь бормоча про себя какие?то ругательства и угрозы.
Пижонство, видимо, было в крови у этого петуха: гребень его, в отличие от гребня Петела, мощно и спокойно ниспадавшего на загривок и придававшего голове Петела царственное и достойно?величавое выражение, – гребень Пижона, хотя по высоте, по насыщенности рубинового цвета и походил на гребень Петела, был значительно короче, в связи с чем имел меньшее число зубцов и, вместо того чтобы величаво ниспадать на загривок, лез ему в глаза, совсем как лезут на глаза сознательно сдвигаемые известным жестом от затылка ко лбу кепки шпаны какой?нибудь. Заметьте опять же внутреннюю закономерность и соответствие между сутью – в данном случае пижонства – и ее проявлением, как будто бы в совершенно разных природных точках, отстоящих друг от друга приблизительно так же, как какой?нибудь нижний сук от самой что ни на есть верхушки дерева. Я говорю: пижонство было в крови у Пижона, делая это заключение из характернейшего его жеста, но здесь возникает несколько противоречащий этому утверждению ход мыслей. Мне рассказывали, что в детстве, отрочестве и юности Пижон был худосочнее Петела и весь этот период времени – как известно, жизнь их с первых шагов протекала совместно, а по роковой инерции в полной мере и теперь – теперь еще более мучительно и болезненно для его самолюбия, в связи с пробуждением мужского инстинкта – несчастный Пижон обладал, как принято говорить, комплексом неполноценности. Вполне возможно поэтому, что чисто физические признаки его пижонства появились в процессе роста как следствие этого его комплекса неполноценности, как следствие, потому что пижонство, хамство, дерзость – все эти свойства могут быть преломленным и негативным выражением слабости, трусости, потенциальной хилости натуры (все мы знаем, например, что физически сильный человек чаще всего добродушен и чаще всего не обижает слабого и беззащитного человека, и в то же время мы знаем – и об этом нельзя забывать, – что бывает и так, что духовная сила, благородство, заложенные в душе физически хилого человека, осуществляются и утверждаются в жизни как раз в преодолении его физической хилости и слабости). А так как неполноценность была относительной, то, может быть, они – эти черты хамства, пижонства, спесивости – и сформировались лишь в процессе физического роста и созревания. Но тут опять же возникает вопрос, насколько неполноценность эта была относительной и насколько она была абсолютной, и если она была абсолютной, то насколько закономерно она возникла, появившись на свет именно в такой комбинации трех петухов, и не становится ли в этом случае и относительная неполноценность лишь проявлением неполноценности абсолютной? Трудно сказать. И сложно. Не правда ли? Мне лично кажется, что сложно, и поэтому я прерву на этом свое рассуждение.
Пижон был трусом. Это проявлялось и в том, как он пасовал перед Петелом, успевая лишь поставить дыбом перья на шее и тут же, под видом срочной необходимости клюнуть что?то, отбегая в сторону… Этот прием – как бы срочной необходимости что?то клюнуть – используется в петушиных драках и с диаметрально противоположной целью: боец начинает бурно поклевывать что?то – поклевывать не поклевывать, символически поклевывать, скорее потряхивать головою, даже не на земле, а чуть в стороне над землею, в воздухе, но, конечно, не опуская стоящих дыбом на шее перьев и цепко держа в поле зрения одного злобно налитого кровью глаза малейшее движение своего противника. Воздушным поклевыванием этим он как бы, с одной стороны, выказывает пренебрежение врагу: мол, видишь, ты нападаешь на меня, а я в это самое время равнодушно поклевываю что?то; с другой же – создает себе удобную возможность в любой момент вновь кинуться на противника, напоминая этим маневром, этой уловкой трясущих шпагами друг перед другом бойцов или размахивающих перчатками перед носом друг у друга боксеров. Но удобство этого поклевывания чуть в стороне и в воздухе (чуть в стороне потому, видимо, что птице легче наблюдать одним глазом) еще в том, что его можно использовать как начало любого движения. Пижон систематически прибегал к этому маневру для плавного, незаметного перехода от боевого к мирному состоянию, для выхода из?под нависшей угрозы, как бы признавая свою слабость и превосходство противника, – перехода от символического поклевывания к действительному, как бы говорящему: «Взываю к твоей милости» или «Что, разве что?нибудь произошло? А мне казалось, я как клевал здесь, так и продолжаю клевать». Третья фаза поклевывания наступает тогда, когда противник великодушно простит просящего милости врага: тогда поклевывание уже окончательно переходит в свободное и мирное клевание, как бы сопровождаемое вздохом облегчения.
Но трусость Пижона выявлялась не только в стычках с Петелом и не только в том, как он – Пижон – трусливо убегал, подбирая зад, и как он держался в сторонке от моего сапога, бормоча что?то себе под нос. Трусость его проявлялась, так сказать, и в своем отраженном виде: Пижон любил обижать слабых, любил нападать на слабых и любил бить слабых. Больше всего от него доставалось курам. Когда я сыпал пшено на землю перед курятником, почти всегда первым прибегал Пижон и начинал нервно – он, бесспорно, был нервным петухом – взад и вперед бегать по рассыпанному пшену – не клюя его! – и возбужденно и лживо – из дальнейшего станет понятно, почему лживо, – коковать, и громко бормотать что?то, будто призывая к месту трапезы остальных своих родичей. Но стоило курам, прибежав вслед за ним, начать клевать пшено, как Пижон беспощадно, направо и налево, начинал лупцевать, долбить бедных кур куда попало, а особенно в гребешок да в темечко, так что куры часто от боли, а порой и притворно, даже как?то цинично?распущенно, благим матом вскрикивали. Тут я должен оговориться, что не уверен, все ли куры так вскрикивали, потому что на рассыпанном по земле пшене они неразличимо мельтешили, желая как можно скорее склевать без остатка крупинки пшена. Но Пижон в своем подлом стремлении к насилию не ограничивался курами, он ухитрялся нападать и на людей. Например, он не давал прохода одной пятилетней девочке (однажды он клюнул ее в голову), так что я иногда специально выходил из дому и, беря ее за руку, плачущую и в ужасе оглядывающуюся на страшного петуха?злодея, провожал до калитки. Или, например, когда в дом Юлии Андреевны приезжала женщина с другой девочкой, Пижон тоже норовил со спины накинуться на них, особенно если они делали вид, что бегут от него, то есть когда чувствовал проявление слабости.
Утверждают, что психика животных сплошь соткана из разнообразнейших условных и безусловных рефлексов, отказывают им во всяком проявлении сознания и самосознания, но скажите, откуда же тогда берется это разительное несходство индивидуальностей в животном мире, эти ярко выраженные и противоположные характеры?
Я вскользь уже останавливался на проявляющихся у нас еще в детстве симпатиях и антипатиях к разным животным, в частности к курам. Но симпатии и антипатии часто направляются, так сказать, не только от людей к животным, а и от животных к людям, и бывает, симпатии и антипатии эти, так же как и у людей друг к другу, счастливо встречаются на полдороге между двумя индивидами или же, не встретившись, расходятся, оставляя носителей своих в печальном неведении о том, что эти взаимные симпатии существовали. Как?то в одной из деревень Псковщины я наблюдал петушка?отрока, явно млевшего от наверняка непонятной ему самому любви к своей молодой хозяйке, так что, обычно драчливый и не дававшийся в руки, петушок этот буквально лез ей на колени, когда она сидела на ступеньке крыльца, и успокаивался, только если она брала его в руки. И когда я говорил этой женщине – вот, мол, петушок неравнодушен к вам, она, и не думая отрицать это, как?то хорошо и грустно улыбалась, как бы говоря этой милой улыбкой, что она и без меня знает, что петушок неравнодушен к ней, но знает и о том, что и не только петушки бывают к ней неравнодушны.
Вот так же, но, к сожалению, без всякой взаимности с моей стороны симпатизировала мне одна из пестреньких курочек Юлии Андреевны. Ее симпатия проявлялась столь сильно, что даже тогда, когда я рассыпал у курятника очередную порцию проса, она вместе со всеми не бросалась жадно клевать его, а, пользуясь случаем, болталась у самых моих ног, порой залезая даже на носок моего сапога, и, топчась там, деловито?влюбленно склевывала что?то воображаемое с моих голенищ. Но я оставался равнодушен и старался как можно тактичнее и скорее возвратить ее к реальной жизни, к просу, в умеренно жадную компанию ее братьев и сестер.
О таком вот унизительном проявлении симпатии со стороны Петела нечего было и думать, но в то же время я убежден, что у нас с ним был тот счастливый случай, когда симпатии встречаются на полпути (если использовать особо точные измерения, то, возможно, даже ближе к нему, чем ко мне). Почему я уверен так во взаимности нашей симпатии? Это трудно объяснить, нужно быть только у?ве?рен?ным, как я уверен в этом. Ведь значит же что?то интуиция!
Как мне передать тот взгляд, которым внимательно и длинно смотрел на меня Петел, когда я, улыбаясь, смотрел па него и когда говорил ему: «Ну что, Петел? Ну как жизнь, Петел? Хочешь есть, Петел?»; или когда с искренним сочувствием спрашивал у него в дни его болезни: «Что же с тобой, Петел? Смотри поправляйся, Петел»; или говорил ему: «Эх ты, благородное животное»; или тварь, или скотина, или зверь; или говорил ему еще разные ласковые слова и разные вещи, например, рассказывал о себе, что вам сейчас, со стороны и издалека, может показаться уже совершенно странным. Но Петел не только подолгу и выразительно смотрел на меня, повернув голову несколько вбок, чтобы лучше видеть меня, и замирая на одной лапе, как бы подчеркивая этим свое внимание ко мне. Петел также без всякого страха – страха передо мной – взлетал на перила крыльца, когда я выходил из дому, или рядом со мною на поленницу дров и, уверяю вас, специально для меня, выгибая шею и весь напрягаясь, словно огненно?медная духовая труба, подолгу пел свое сиплое «кукареку», всполахивая всех ближних и дальних петухов поселка, а главное, вызывая этим на состязание Пижона, притом на невыгодное для себя состязание. На невыгодное состязание потому, что по какой?то мудрой или злой шутке природы Пижон, в отличие от Петела, обладал не приглушенным и сиплым голосом, а на редкость звонким и пронзительно?вызывающим петушиным кличем. По злой шутке природы в том случае, если эта разность голосов, случайно возникнув и сосуществуя параллельно, так и должна была остаться бессмысленной и не влекущей за собою никаких последствий шуткой. Мудрой же – я склоняюсь именно к этому варианту – в том случае, если, явившись незаслуженным изъяном Петела и подчеркивая незаслуженные способности Пижона, она должна была стать лишним испытанием для благородной, беззлобной и независтливой души Петела. Конечно, могло случиться и противоположное, Петел мог озлиться на «незаслуженную обиду», и тогда, наоборот, его душевные качества понесли бы сильный урон, который неизвестно мог ли быть восполнен впоследствии или явился бы первой ступенью к роковому и уже безвозвратному его падению. Но, к моей радости, Петел – насколько можно судить со стороны – воспринимал вызывающие голосовые успехи Пижона спокойно. Он лишь изо всех сил старался, ни с кем не сравниваясь и ни на кого не глядя, просто?напросто горланить свое «кукареку» как можно громче и как можно звончее.
Это было не единственной подкупающей и благородной чертой Петела. Например, при всем врожденном петушином гоноре, при всей своей величаво?генеральской осанке и чеканной походке, Петел в какой?то конечной инстанции был благородно безразличен и равнодушен ко всем этим внешним проявлениям своей породы. Внутреннее благородство все подчиняло и все покрывало в нем. И порой я замечал даже, что Петел рассеян и в рассеянности своей не замечает, например, что перья его спутал ветер или что к бороде его пристала сырая и потому липкая земля. Мне неизвестно, о чем Петел думал в момент подобной рассеянности и безразличия к внешнему своему облику или что он созерцал, уходя в себя в такие моменты. Во всяком случае, я предполагаю или опять?таки уверен, что, хотя Петел и был храбр, предметом его дум и созерцаний были не прошлые и не будущие его бои с Пижоном – бои всегда предрешенные и всегда заканчивающиеся, не успев как следует вспыхнуть и разгореться.
Петел был храбр. Вы помните тот пучок сырых перьев, что найден был мною на участке после одного из набегов соседской собачки и о котором вскользь я уже упоминал выше? Так вот, сперва я был только убежден, а теперь, заручившись точными свидетельствами, достоверно утверждаю, что пучок тех хвостовых роскошных, султанно?гнутых, так гордо и свободно колеблющихся и развевающихся на ветру, подобно петушиному штандарту, иссиня?черных перьев, который так безжалостно, почти с мясом, был вырван именно из его, Петела, гузна, был вырван не при позорном бегстве от пегой собачки, а при мужественном сопротивлении, которое – как свидетельствуют сам злополучный хвост,
сосед Афанасий Гаврилович и, наконец, одинаковое число кур до и после набега – увенчалось успехом. Конечно, как опять?таки свидетельствует хвост, бегство было неминуемо, но оно из позорного на глазах у восхищенного свидетеля превратилось в доблестное, принявшее на себя ярость взбешенного сопротивлением преследователя.
Бывало, что Петел, пренебрегая всяческими взаимными симпатиями, бесстрашно бросался и на меня самого. Это бывало в тех случаях, когда я делал попытки коварно поймать какую?нибудь курицу – приятно ведь иногда подержать в руках и покормить из рук крупную птицу, даже если птица эта самая обыкновенная курица. Таким же коварным образом, исходя из тех же самых побуждений, ловил я пару раз и самого Петела, что приводило его обычно в некое шоковое, озадаченное и обалделое состояние, заставляя, после того как я отпускал его на волю, по нескольку раз кряду встряхиваться каждым своим перышком, как бы освобождаясь от дьяволова наваждения.
Так вот, Петел бросался и на меня, защищая какую?нибудь свою курицу, но, бросаясь на меня, он не старался клюнуть, а ударял меня шпорой – однажды он очень больно ударил меня в руку. Шпоровая атака была его любимым боевым приемом. Он бросался в бой вперед грудью, немного отведя голову назад и занося в прыжке шпору правой ноги для удара, и бил ею в петушиную грудь, иначе говоря, в грудь Пижона, что уже неминуемо приводило последнего в бегство, если Пижон еще до этой атаки не пасовал и уже не делал вид, что мирно клюет что?то, деловито бороздя землю когтями. Начиналась же стычка между ними всегда с классической исходной петушиной позиции: головы опущены и уставлены друг на друга, как указательные пальцы гадателя перед носом – ноготь в ноготь, и даже с гораздо большей точностью – клюв в клюв, острие в острие. Секунда – и следовал этот коронный и все решающий бросок Петела грудью и шпорой. Но ни разу я не видел, чтобы Петел бросался бить спасавшегося бегством или признавшего свое поражение противника, – ему важна была не сама по себе драка и не смакование торжества над более слабым противником, а важен был результат боя. Точно так же я ни разу не видел, чтобы Петел хотя бы раз, хотя бы чуть?чуть, для острастки, клюнул какую? нибудь курицу. Поэтому куры, клюя просо или поедая картошку из кастрюли, сторонясь Пижона, всегда жались к Петелу Но как Пижон подлыми своими ударами ни бил жмущихся к Петелу кур, как ни измывался над ними, порой добиваясь того, что у большой и широкой кастрюли с картофельным пюре оставались лишь два петуха: Пижон и Петел, никогда Петел не только не прогонял Пижона, но, к разочарованию, следуя какому?то лишь им – петухам – известному этикету, не вступался за бедных кур и, как Пижон под самым носом у Петела ни измывался над ними, делал вид, что ничего не замечает.
Были и еще досадные черты у Петела: почему?то он невзлюбил свою хозяйку Юлию Андреевну и даже как? то раз клюнул ее, за что навлек на себя взаимную ее нелюбовь, чреватую, при повторении подобных выпадов со стороны Петела, трагедией для него. Или вот уже совершенно необъяснимая блажь, прихоть дурная. На участке, посреди огорода торчал невеликий и невзрачный пенек, с которого Петел имел обыкновение задумчиво обозревать подвластные территории. И вот стоило только Пижону взгромоздиться на этот пенек, как Петел оказывался тут как тут и непромедлителыю, без долгих рассуждений, подпрыгнув повыше, хватал Пижона за холку и стаскивал его, покорного и униженного, с пенька на землю, и ему, Пижону, оставалось лишь долго и огорченно встряхиваться после этой обидной процедуры, а иногда в конце этого встряхивания Пижон вдруг неожиданно победно и звонко кричал свое «кукареку», совсем как те люди, что в результате только что испытанного сильного стыда начинают вдруг во все горло горланить залихватские песни. Положение изменилось лишь во время болезни Петела, – в этот?то период и проявились некоторые светлые, положительные черты в натуре Пижона.
Дело в том, что когда Петел заболел и сильно ослаб… А заболел он, судя по всему, как раз в тот единственный день в конце месячного срока, когда я впервые уехал в город. Вернувшись на следующее утро, я застал Петела уже больным. Он был явно не в себе. Он старался все так же держаться молодцом, но гребень его, щеки и борода были уже не рубинового, как у Пижона, цвета, а какого?то блекло?морковного или шафранного, и глаза его были вроде бы выцветшими, и даже лапы, которые Петел то и дело поочередно поджимал под себя – в то утро ударил достаточно крепкий мороз, земля заиндевела и заледенела, – были заметно бледнее, чем у остальных кур, да и парок, который вылетал при дыхании из его клюва, был попрозрачнее.
Петел захворал. Что с ним приключилось, так до сих пор и осталось невыясненным. То ли его прибил злой прохожий, – куры сквозь гнилой забор, бывало, просачивались за пределы усадьбы; то ли основательно на этот раз помяла мстительная собачка?хищница; то ли, вроде погибшего однокашника своего, он проглотил что?нибудь не то; то ли, наконец, ненароком как?нибудь простудился. Так или иначе, но Петел был похож на сильно охмелевшего человека или на перемогающего недуг человека, которому очень плохо, дурно даже, у которого похолодевшая кровь отливает куда?то, неизвестно куда, от головы, от рук, от ног, и в глазах то и дело все теряется в белом тумане, на человека, у которого круги и искры перед глазами и плывущие вниз, как по мокрому стеклу, какие?то черные хлопья. И когда Петел, стремясь делать все, как прежде, пытался клевать пшено, например, его тут же начинало покачивать от слабости, и он подымал затекшую голову и стоял так некоторое время, глядя вокруг удивленными, ничего не понимающими, осоловевшими глазами, говорившими как бы: откуда на меня, мол, такая напасть, что за беда, мол, стряслась со мною; или когда все куры бежали, он пытался бежать вслед за ними, но тут же отставал, и обычно четкий шаг его был неуверен и неточен; или он, стараясь все так же поспеть вовремя к заветному своему пеньку, пытался стаскивать Пижона, но сил у бедняги не было, силы утекли куда?то, и движения его были так вялы, что решительные действия не достигали цели, и Пижон, гордо глянув по сторонам, действительно уже победно встряхиваясь, орал свое залихватское «кукареку».
Но тут?то как раз – вот и залезь попробуй в петушиную душу, – вот тут?то и проявилось что?то светлое в натуре Пижона: ни разу он не ответил решительным отпором на бессильные попытки Петела стащить его с пенечка и вообще, ни разу не воспользовавшись слабостью давнишнего соперника, не попытался отомстить ему – ударить, клюнуть как следует или посягнуть как? то на его больную особу. Можно как будто бы предположить, что здесь действовало не проснувшееся вдруг в душе Пижона благородство и великодушие, а врожденный или вбитый в него страх перед более сильным и смелым соперником, но чем объяснить тогда то, что ни разу – по моим наблюдениям – за время болезни Петела Пижон не начинал драки с ним, хотя прежде зачинщиком всех бесславных для него драк был именно он, а не Петел?
А Петел действительно во время болезни был не только не страшен, но жалок: пожелтевшая борода у него запачкалась густо налипшей землей, перья спутались, а ночью он даже не мог взлететь на свою жердь и спал прямо на земляном полу, на грязной подстилке. Бедный Петел мерз, дрог и зяб, и было жалко смотреть на него на улице, на морозе, на этот жиденький, прозрачный парок – еле дух в теле – из его ноздрей и из клюва. Я попытался взять его в дом, но только что окотившаяся кошка, обычно с опаской обегавшая кур и особенно петухов, сразу так, скрежеща и соскальзывая когтями на поворотах, кинулась на него, что Петел, пронесшись по всем скрипучим и не скрипучим столам, – откуда только резвость взялась? – чуть не вышиб заделанные мною на зиму двойные рамы окна. Пришлось возвратить его на улицу
За время болезни Петела мне довелось наблюдать и несколько трогательных сцен из куриной жизни. Куры и раньше имели обыкновение дремать где?нибудь, стоя в защищенном от ветра укромном местечке: у стены сарая, скудно пригреваемой солнцем, или тоже на солнышке, словно в рощице, среди обнаженных прутьев малинника. Теперь больной Петел стоял среди кур взъерошенный и понурый, как старый и немощный, но все еще благородно?величавый король, не как дурацкий, комический король, а как какой?нибудь король Артур или король Лир, а рядом с ним, то нежно заглядывая ему в глаза, то поклевывая опять же что?то чисто воображаемое на его бороде, щеках или у самых глаз его, тесно, голова в голову с ним, стояли две?три особо верные и преданные курочки, как те верные придворные, что не бросают в беде и в горе своего короля, своего султана, своего любимого владыку.
Чтобы успокоить тех, кто искренне заинтересован судьбой Петела, скажу, что он благополучно одолел свою болезнь и по?прежнему бодрым и благородным стал процветать в своих владениях.
Здесь, чтобы уж окончательно распрощаться со своим героем, я расскажу о том, что почти в самом начале моих наблюдений над курами как?то особенно поразило меня. Это было сходство взгляда Петела со взглядом старика соседа, Афанасия Гавриловича, отца Пахома Афанасьевича – мужа Маруси – и отца еще девяти сыновей. Бородатый старик этот – отец Пахома, Нила, Гаврилы, Ефима, Василия, Кузьмы, Семена, Тимофея, Дениса, Матвея – всегда казался мне угрюмым и мрачноватым, всегда?то он, по?стариковски сутулясь, молчаливо что?то колол, пилил, таскал, клал и перекладывал у своей по окна ушедшей в землю избушки, не на своем дворе – у него вроде и не было своего двора, – а на проходном общественном пятачке, где у старика были сложены дрова, сметано сено и где был привязан его цепной пес. И если, проходя мимо работающего старика, я с ним здоровался, то в лучшем случае он бурчал что?то то ли в ответ, то ли в порицание мне, притом никогда не оборачиваясь на приветствие, а себе в бороду, то ли вообще разговаривая сам с собою.
Я объяснял стариковскую эту мрачность и нелюбезность – и отчасти, конечно, был прав – все теми же гниющими (как раз по соседству с местом, на котором он всегда копался, на том же общественном проходном пятачке) бревнами Юлии Андреевны, совершенным бельмом для хозяйственного крестьянского глаза; еще объяснял его угрюмость самим фактом существования Юлии Андреевны и нас всех, ее временных и периодических постояльцев, тем, что вообще Юлия Андреевна, лет десять как приобретшая всю эту движимость и недвижимость, была как втесавшийся в крестьянское окружение инородный клин, словно с озорства загнанный, так просто, за здорово живешь каким?то озорником и охальником в кряжистое бревно.
И еще одним объяснял я мрачность старика: время от времени вспыхивающими неурядицами среди сынов его, всех вымахавших в отца, рослых и здоровенных, со стопою в сорок седьмой размер, хороших и работящих, но по каким?то суровым и неумолимым законам так намертво связанных кровными узами, что и в разные стороны не разойдутся, и поделить одного места не могут. И так как время от времени все они как один, правда с разным пристрастием, поклонялись зеленому змию – для чего часто по воскресеньям и многочисленным праздникам собирались воедино – и так как, поклонившись этому змию, начинали припоминать друг другу все накопившиеся за долгую семейную жизнь действительные и мнимые обиды и прегрешения, то… И потом, когда… Или даже много раньше того, как… И если смотреть от дома Юлии Андреевны, на заднем плане, за жердями изгороди и за небольшим косогором по общественному пятачку проходила, продвигалась, неровно колеблясь, фигура младшего, самого удалого и неженатого, сына Гаврилы, весело, а порой и грустно распевавшего песенку: «Загулял, загулял парень молодой… В красной рубашоночке, хорошенький такой…» И когда сквозь жерди ограды было видно, что на молодом, загулявшем парне действительно выпущенная на волю, иногда целая, а иногда уже и не целая, рубашечка, хотя и выкрашенная в красноватое, но что?то не очень ровно выкрашенная, то соседние дома, прислушиваясь к песенке, несколько затихали, а девичьи, да и не только девичьи сердца начинали глухо, но усиленно биться…
Вот так – и не без оснований – я объяснял себе угрюмость и мрачность старика. Но все мои предположения оставались неполными до того раза, когда преждевременно выпал обильный снег, покрывший всю землю, все кусты, все деревья и создавший заманчивую обстановку для прогулки в лес, где я, стоя по колено во мху и снегу (по колено в лесу, как я написал в письме), мог созерцать сквозь стволы великолепный морозный закат. Возвращаясь из леса домой почти сразу после захода солнца все через тот же проходной пятачок, я встретил вдруг моего деда совершенно иным. Дед живо, даже восторженно, если можно применить к нему такое слово, с жестами поведал мне, как в мое отсутствие на моих «курей», прорвавшись сквозь забор, совершила набег – тот самый набег, после которого так оскудел хвост Петела, – злобная собачка, и, главное, поведал мне о мужестве и самоотверженном геройстве моего Петела.
С этой поры я перестал замечать угрюмость и мрачность деда или, во всяком случае, гораздо меньше замечал их. И сутуловатый дед этот со своей характерной фигурой в длинной рубахе с низким поясом, со своей маленькой хворой старушкой?женой представлялся мне дедом из русской сказки – из той же курочки Рябы, например, где жил дед и жила баба.
Так вот, как?то неожиданно, как неожиданно назвался у меня Пижон Пижоном, я заметил, что взгляд и выражение глаз моего Петела удивительно схожи со взглядом старика?соседа. Знаете, бывают такие глаза, голубые, зеленые или желтые, в радужной оболочке которых плавает каким?то хитрым образом попавшая туда с рождения и не растворяющаяся в ней до самой?то смерти, плавает каринка, такая каряя штуковина, неровный кусочек?обрывочек, или два кусочка?обрывочка, или три даже, чего?то коричневого. Вот такой кусочек? обрывочек плавал, – или мне только показалось так? или сейчас, задним числом, разыгралась фантазия? – плавал в одном голубом глазу деда. Нет, у петуха моего, у Петела, в глазу такого явления не наблюдалось. Но дело в том, что у самого деда?то, кроме этой не растворившейся в глазу каринки, плавала – на этот раз уже хорошо растворившаяся, и не в одном, а уже в обоих глазах – шальнинка или дичинка, как хотите, которая тоже, видимо, попала в глаза деда от рождения, и которая, должно быть, тоже будет там до самой?то его смерти, и от которой, растворившейся этой шальнинки или дичинки, как расширяется зрачок от какого?то там снадобья, глаза деда несколько расширились, так что при желании в них можно было совершенно ясно увидеть, как дед в свое время ходил в штыки или даже в сабли, памятное свидетельство о чем в виде какого?нибудь, а то и не одного Георгия на желто?полосатенькой ленте хранилось его старушкой?женой на дне какого?нибудь сундучка в осевшей избушке, и также можно было увидеть в глазах деда, как в свое время он тоже зело любил распевать, как теперь младший его Гаврила, «Красную рубашоночку». Правда, расширенность дедовских глаз уравновешивалась теперь уже приобретенными к старости мудростью и добротой, проступавшими сквозь грубость и суровость и нет?нет да изливавшимися теперь на хворенькую и верную жену его – мать, не поймешь каким образом, десятерых сынов этих, – да и по?разному на самих сынов, да и на внучат, да и на брехливого, ласкового и никуда не годного Буяна, на коровенку на солнышко да на небушко…
В этом месте моего рассказа недовольство мною со стороны читателя достигнет, наверное, возможного предела.
Такой взгляд, такого, по собственным же словам моим, прекрасного деда, я сравнил с каким?то петушиным взглядом, и если в начале своего повествования, бормоча в свое оправдание что?то невразумительное о взгляде сверху вниз и взгляде снизу вверх, я осмелился сравнить песий взгляд со взглядом какого?то случайного трамвайного старца, то здесь я сравниваю взгляд уже вполне определенного старика из народа, отца, деда и почти прадеда, сравниваю со взглядом какого?то там петуха, у которого, как говорят ученые, не только по сравнению с человеком, но даже по сравнению с той же собакой, волком, обезьяной рот неподвижен и не может изобразить даже искаженную, не похожую ни на что и обманчивую звериную улыбку Петуха, у которого на лице нет никакой мало?мальски заметной мимики и поведение которого, как у той же собаки, волка, лошади, по компетентным утверждениям ученых, соткано из простейших, ну и немного более сложных рефлексов, которые вполне на современном этапе можно моделировать, ну если не практически, например, сразу же, в данный момент, то с полным успехом теоретически, ну и практически, конечно, уже в скором времени.
По правде говоря, я совсем растерялся и потерялся, я, пожалуй, совсем не знаю, что сказать в свое оправдание. Действительно, у петуха неподвижный рот в виде жесткого клюва, и, действительно, лицевые мышцы его, в отличие от собачьих, не имеют никакой, даже минимальной подвижности. Но объясните же мне, пожалуйста, почему взгляд этого петуха – этого моего благородного Петела – так удивительно похож на взгляд старика?соседа?
Может, потому все же, что, несмотря на свою почти полную неподвижность, лицо это выражает непонятную в деталях, но ухватываемую нашей интуицией суть примитивной души этого петуха? Суть его характера и индивидуальности в таких каких?нибудь незаметных и не ухватываемых нашим пониманием нюансах и оттенках, еле заметных смещениях и отклонениях, как построенная тоже на каких?то не ухватываемых нами смещениях и отклонениях необъяснимая монализовская улыбка. Ведь форма гребня?то, так же как, например, повадка и осанка, совершенно разны у Петела и у Пижона. Может быть, и все остальное совсем неприметно – здесь капельку и здесь чуть?чуть – тоже отличает одного от другого? Ведь должно же в чем?то внешнем выражаться внутреннее их различие.
Я уверяю и настаиваю, что, несмотря на всяческие условные и безусловные рефлексы, не только там у пса того или у нашей кошки, но и у этих петухов есть четкие, ярко выраженные индивидуальности и характеры. А если есть таковые, то как?то они должны находить и внешнее свое выражение? Пускай не всегда, а только лишь по счастливой случайности заметное нам, но всегда отлично заметное им самим, животным и петухам, которые запросто определяют, как им себя вести при встречах друг с другом: сразу поджать хвост или нет, улыбнуться друг другу – если у них не жесткий рот – или нет, поспешно начать клекать всерьез что?нибудь или нет. С другой стороны, ведь говорится же, и я это не раз замечал, что вот такой?то человек – вылитый портрет его личного пса или наоборот: вот такой?то пес – вылитый портрет своего хозяина. Ведь даже большие художники, исходя как раз из этого факта, запечатлевали некоторых людей на одном холсте с их собаками. Пусть одни скажут, что такая похожесть человека и собаки простая случайность, а не то, что человек инстинктивно подобрал себе в пару определенное животное. Другие же пусть скажут, что похожесть эта вырабатывается, так сказать, в процессе совместной жизни животного и человека и из глупого обезьянничанья животным повадок своего хозяина (а может, наоборот, жертвы собачьих капризов и деспотизма?). Пусть они скажут это, а не то, что похожесть взаимно вырабатывается и от любви и уважения – да, уважения! – друг к другу, и от перенимания лучшего друг у друга, что, может, она вырабатывается даже от какого?то основанного на симпатии и взаимном притяжении совмещения и взаимовлияния каких?то магнетических биополей. Пускай так скажет первый и так скажет второй, но факт?то остается фактом: похожесть эта выражается в мимике, повадке и так или иначе является следствием похожести внутренней, склада душ и характеров. Уж не говоря о каких?нибудь, конечно, не идущих в счет, навязших в зубах сравнениях людей то со львом, то с шакалом, то с гиеной или коровой, или так часто встречающемся сходстве с ядовитыми змеями, или сходстве с волками, собаками, лошадьми, с кошками или орлами и прочими многочисленными птицами и животными. Но при всем том, что мы не берем ни в какой серьезный счет эти последние сравнения, они все же показывают, что какие?то характерные черты, свойственные, как принято считать, лишь человеку, рассыпаны в природе и часто встречаются далеко за пределами человеческой сферы, понятой здесь, конечно, не в физическом или геометрическом, а в ином, видовом, так сказать, смысле.
Так почему же, учитывая все вышесказанное, я не могу, не имею права с чистой совестью сделать это свое сравнение взгляда и выражения глаз уважаемого мною деда, правда, не со взглядом орла или льва, а со взглядом и с выражением благородного и великодушного, независтливого и мужественного, когда?то считавшегося даже – хотя теперь и за давностью это и не имеет никакого значения – священной птицей, красавца?петуха, моего Петела, у которого тоже от рождения растворилась в глазах расширившая их шальнинка и у которого тоже сквозь – но тут уже сквозь петушиную зоркость и цепкость взгляда – просвечивают в такой мере свойственные ему доброта и благородство!
Я, наверно, уже утомил всех длиннотой своих рассуждений. И вот, для того чтобы хоть немного отдохнуть от моего тяжелого стиля, я предлагаю читателю вместе со мной немного пофантазировать. Небольшая доза фантазии в этом моем повествовании вполне допустима хотя бы уже потому, что все остальное, в нем рассмотренное, – это подлинные события и голые факты, я говорю это серьезно и хочу избежать малейших сомнений и кривотолков на этот счет.
Ну так вот, предположим, что в вашей душе, так же как, наверное, в душах какого?то неопределенного числа других людей, имеется свой рай и свой ад; и если рай в вашей душе, подобно некоторым сказкам и настоящему раю, населен добрыми существами и человекообразными зверями, то ад ее, тоже подобно некоторым сказкам и настоящему аду, населен звероподобными людьми и чудовищами, и вот часто вы, и по своей и не по своей воле, спускаетесь из своего рая в этот ад и бываете терзаемы там, терзаемы этими звероподобными людьми и чудовищами и, конечно, самим собою, звероподобным. Но я не собираюсь углубляться здесь в эту грустную, тоскливую и бездонную, касающуюся только вас тему, я лучше снова обращусь к тому, за счет чего вы можете или стремитесь умножить и укрепить свои райские рати.
Предположим, что когда в становых и прочих ваших жилах, как известно, выносящих основную тяжесть борений сильных чувств и страстей, когда в жилах этих, как два океанских течения или как два встречных вихря одного урагана, сталкиваются давление творческое и давление, образующееся от резкого и неожиданного вашего спуска?погружения в личную вашу преисподнюю, когда от встающих перед вами и зависающих над вами роковых вопросов, многочисленных мелких и немногих громадных, но крайне существенных и, главное, тех и других никоим образом неразрешимых в данный текущий момент, – когда от всего этого общее, так сказать, результативное давление в ваших становых и прочих жилах столь повышается, что вы уже не можете не только работать, но не можете просто сидеть, и просто лежать, и просто спать, не можете заняться даже, предположим, столь любимым вами делом, как колка дров, – то, надев ватник, вы выходите на крыльцо, во двор на свидание с грустной осенней природой, с загубленными, но все еще живыми яблонями, с облетающими тополями, с медлительной речкой, с курами и с двумя?тремя котами, что регулярно приходят сидеть в разных точках двора и орать время от времени, вызывая из дому своими воплями беременную и потому теперь почти равнодушную к ним кошку. Вы выходите на свидание с осенней природой и с разными этими птицами и зверями, зная на опыте, как благотворно воздействуют на вас эти свидания. Вы прогуливаетесь по берегу реки, глядя вдаль или в меланхолично движущуюся у ваших ног воду, сквозь стеклянный ледок – если у берега образовался ледок – разглядываете следы улиток на илистом и песчаном дне, представляете себе таинственную подводную жизнь; или сосредоточиваете свое внимание на траве, удивляясь ее непонятной выносливости к заморозкам и морозам, несмотря на которые она – трава эта – все зеленеет и зеленеет, приобретая лишь несколько утомленный вид; или, возвращаясь к дому, к тополям у дома, вы принюхиваетесь к великолепному, уже крепко настоявшемуся запаху палых листьев, лежащих толстым и рыхлым слоем почти на всем участке, и наблюдаете, как облетают все еще остающиеся в большом количестве на тополиных верхушках листья… как они… как каждый из них, с неравным успехом, даже под довольно свежим северным ветром стойко, до последнего критического мгновения удерживается на ветке, весь трепеща от напряжения, а потом вдруг – не уследить даже как – отрывается и уже, делая вид, что ему вот как легко и весело – когда у самого?то сердце щемит и заходится от тоски, – выделывая в воздухе – желтое по голубому – легкие, скользящие, вернее, все время соскальзывающие фигуры и арабески, будто притворно насвистывая или напевая какую?то легкую песенку, летит как можно подольше в сторону, чтобы под конец неумолимо присоединиться все к тому же недвижномертвому слою…
Но обратимся к нашей фантазии. Возможно, вы в такой ситуации не смотрели ни в воду, ни на облетающие тополиные листья, а просто стояли у стены сарая, попеременно то грудью, то хребтом поворачиваясь к солнышку, глядя, куда душе вашей было угодно, то в белесое небо, то туда, то сюда, то в щель бревна, где, хитро укутавшись на зиму в свою собственную паутину, спал какой?нибудь беззаботный паук; может быть, вы просто стояли и цедили сквозь многочисленные одежды – потому что в летнем доме достаточно холодно – жиденькое, чуть?чуть проникающее солнечное тепло, точно так же как в двух метрах от вас цедили его сквозь свои разноцветные и одноцветные перья тоже зябнущие, как и вы, куры. Но предположим еще, что если все эти созерцательные и тепловые процедуры не помогали вашим жилам, то вы, памятуя о том, что в некоторых упрощенных случаях и ситуациях жизни осязание более действенно, чем созерцание, вы, чтобы обрести уже полный контакт с природой, приступаете к таким на первый взгляд уже бессмысленным действиям, как то: начинаете обламывать никому не мешающие сухие тополиные прутья, пробуете, насколько крепко еще держатся листья на различных деревьях и кустарниках или упакованные впрок почки, сапогом пихаете?продавливаете стеклянный ледок на реке, добиваясь того, чтобы хлынувшая в пролом вода не успела замочить отдернутый вами сапог, наконец, именно в этом случае вы обращаете свое обостренное внимание на кур, например.
Что касается кур – я снова не могу устоять, чтобы не вмешаться в развертывающуюся фантазию, – что касается кур, они привыкают к новому человеку исключительно быстро, и уже вскоре после знакомства нельзя выйти во двор, чтобы они не кидались к вам сломя голову и маша крыльями, и нужно сказать, что, хотя я часто укорял кур в жадности, курами двигает в этих случаях не одно стремление к наживе, иными словами, к пище, они так же кидались ко мне, зная заведомо, что ничего от меня не получат, и в тех случаях, когда были по горло сыты. Курами двигает любопытство и любознательность. Судя по всему, они относятся к нам так же, как мы, люди, относились бы к какому?нибудь много выше пас организованному и вдруг появившемуся среди нас существу
Куры провожали меня на почтительном расстоянии в любой угол двора, до любой двери или калитки, куда бы мне ни заблагорассудилось направить свои стопы. Они, например, провожали меня до калитки, когда я, позвякивая ведрами, отправлялся на речку за водою, они сопровождали меня и толклись в непосредственной близости, когда я просто так, бессмысленно бродил по участку, они с крайним удивлением и любопытством вытягивали шеи, чтобы лучше видеть меня своим птичьим боковым зрением, то вправо, то влево вертя своими головами, только для виду, из деликатности только наклоняясь, чтобы клюнуть там что?то пару раз, щипнуть одну?другую травинку или гребануть лапой по листьям… И вид у них бывал такой удивленный, а глаза такие недоуменно?расширенные, в бедных куриных мозгах происходила, видимо, такая работа, какая могла бы происходить у нас в головах, когда к нам прилетело бы какое?нибудь неземное создание: зачем он бродит, глядя в небо? не клюет, не разгребает? что им движет? или за этим прозрачным и твердым льдом в своем курятнике что он там делает, быстро скребя лапой и ничего не клюя? Вы скажете: «Эх, глупые куры», – я тоже не раз говорил себе: «Глупые, глупые куры». Наверно, так же о нас мог бы сказать высокоорганизованный и многоопередивший нас в развитии своих мозговых и прочих возможностей какой?нибудь житель иных миров… Но я убежден, что он не сказал бы так, он постарался бы взглянуть на все это дело с какой?то иной точки зрения, с какой я старался глядеть на кур.
И правда, ведь между мной и курой, по всему судя, расстояние гораздо меньшее, чем между курой и, например, каким?нибудь дубом. Да и не такие уж куры глупые в своем общежитии, а некоторые из них так просто умны и благородны – взять хотя бы того же Петела. Или что касается куриного любопытства, – если взглянуть на него тоже с иной точки зрения, то оно становится кое?каким показателем. Ведь вообще любопытство?то – это в какой?то мере интерес, любознательность, сознательное или инстинктивное стремление сквозь внешнее проникнуть в непонятную и недоступную суть, приобщиться к этой загадочной сути. Куры, сопровождая меня по участку, хотели ко мне приобщиться, приобщиться к моей сути! И я не гонял их, я давал им спокойно приобщаться, даже разговаривал с ними или ловил их и держал в руках, убеждая их, что не хочу им делать никакого вреда. Дело в том, что я тоже, взаимно, хотел как можно полнее приобщиться к их сути, ведь всякая суть обогащает, обогащает душу и куриная суть. Суть – это лучшая пища. Она обогащает в гораздо большей степени, чем куриное мясо. Я хорошо понял это. Но понял я и то, что куриная суть – превосходное целебное средство…
Есть, к примеру, такие крайне обычные и привычные для нас, северян, золотые, желто?оранжевые или оранжево?желтые цветочки огоньки?ноготки, с горьким соком в своих стеблях и листьях – это от них, от этих горько и терпко пахнущих ярких цветочков к октябрю на грядках остаются лишь блеклые, дряблые кулачки с семенами. Как ни будничны эти цветочки, именно из них приготовляют вернейшие целебные средства – настойки и мази. Настойки и мази эти – наверно, не без связи со своей отчаянной горькостью – излечивают всякие там телесные повреждения, ушибы, царапины и воспалительные процессы покровов. Так вот, возвращаясь к нашей с вами фантазии, которую я так сумбурно прерывал несколько раз и которая по этой причине как?то сошла на нет и заглохла, так, возвращаясь к этой фантазии, я продолжаю: когда вас мучают все эти страшные вещи, все эти преисподние и населяющие их чудовища, все эти противоборствующие течения и ураганы, поднимающие давление в ваших жилах до недопустимых пределов, и когда в таком состоянии вы, можно сказать, торопливо, как пчела к цветам на поляну, бежите на встречу с природой, то вы неспроста бежите на встречу с ней. Дело в том, что все же одним из самых лучших целебных средств в ряду всеобщего созерцания всех этих течений вод, горений огня, дуновенья ветров или обладающих спасительным излучением растительных и животных жизней, – во всем этом ряду для ваших несчастных, саднящих от напряжения сосудов одним из лучших целебных средств будет эта – чистейшая куриная суть.
И хотя семейство птичек малиновок далеко не семейство кур, но здесь уместно привести тот известный пример со слоном, который в бешенстве все топтал и крушил несколько дней подряд, пока не заметил гнезда птичек малиновок, как и положено, сперва с крохотными яичками, а потом и с голенькими птенцами; и как слон, успокоенный и умиротворенный этим зрелищем птичьей сути, стал наблюдать за жизнью семейства малиновок и даже постоянно обдувал птенцов из хобота своим теплым дыхом.
Здесь меня могут заподозрить в том, что вся эта моя фантазия о страстях и личных преисподних, о смертоносных водоворотах и разгулявшихся в жилах давлениях мною не выдумана, а взята, так сказать, с натуры, из личного духовного и телесного опыта. Слов нет, конечно, как и телу моему, моим становым и прочим жилам, как и всяким иным системам, приходилось испытывать иногда кое?какие приливы и перепады разных давлений и кое?какие спады и напряжения; конечно, и на моей душе, как и на всякой более или менее порядочной, а не бесчувственной душе, имеются кое?какие царапины, травмы и прочие невольно и вольно нанесенные на нее засечки, зарубины, начальные буквы собственных и несобственных слов; конечно, и в моей душе время от времени протекали те или иные воспалительные процессы, но никогда с моими жилами и душой не происходило таких странных вещей, о каких вместе с вами мы позволили себе так чисто художественно пофантазировать. Кое?какой жизненный ветерок раздувал и во мне кое?какие наследственные недуги и изъяны, ведь теперь уже вроде бы окончательно доказано, что в этом почти совсем не сложном процессе – я говорю о наследственности– иногда встречаются разные обидно?случайные, но устойчивые срывы и казусы, связанные, слава богу, с какими?то почти уже математически уловленными и ущемленными генами. Если привести здесь еще одно, но уже совершенно неточное природное сравнение, то получается что?то вроде того, что на какой?то лесной опушке кто?то халатный и преступно неосмотрительный оставляет плохо притушенный костерок, и вот подует жизненный ветер (а иногда и ветрило, можно сказать), подует такой ветер, сдует?раздует с уголька голубенький пепел, а там загорится какая?нибудь былинка?соломинка, какой?нибудь листик или веточка, треснет, лизнет, перекинется и пойдет, и поедет, и заполыхает, и дай?то бог тогда, чтобы не дотла в несчастном лесу этом все погорело да выгорело…
Все это я привел здесь так, для красного словца, все эти фантазии расписал лишь для того, чтобы вернее доказать прекрасные целебные свойства чистой куриной сути, которую и я использовал в небольших дозах для легкого лечения разных мелких царапин и ушибов.
Да. Было бы неточно, а главное, несправедливо, если бы я, говоря здесь о целительных свойствах куриной сути, при всем ее значении для меня в этот месяц, приписал бы ей какое?то из ряда вон исключительное значение по сравнению с целительными свойствами прочих сутей, например кошачьей. В данном случае кошачьей сути потому, что в этот октябрь месяц единственным лекарством моим и жизненным эликсиром в долгие вечерние, а иногда и ночные часы в темном и тихом мире, когда шумы приливов и отливов давлений в становых и прочих жилах не только ощущаются, но и отчетливо слышны невооруженным ухом (почему?то особенно левым ухом), единственным лекарством и эликсиром моим оставалась лишь суть кошачья, так как – напомню вам – куры в ту пору давно уже спали, оповещая о себе лишь «в полночь, перед зарей и в зорю» приглушенными петушиными кликами и еле слышными в закупоренном доме случайными ночными куриными всполохами и переполохами. Кошачья же суть, притом суть беременная тогда еще неизвестным количеством других кошачьих сутей, в эти вечерние и ночные часы была под одной кровлей со мною, в одной комнате, рядом со мною – на столе, или на стуле, или всей своей умноженной тяжестью давила сквозь одеяло мне на ноги, уютно и блаженно разлегшись там, используя естественные возвышенности и выемки одеяльной поверхности, посапывая и вздрагивая во сне, а то постанывая и бормоча что?то, когда в затуманенном сонном ее сознании проходили и проплывали картины страшных или счастливых кошачьих снов, или, иногда, будучи согнана или даже просто осторожно подвинута в сторону даже со словесными извинениями, обижалась и величественно гордо, но не очень?то грациозно в своем интересном положении соскакивала на пол и переходила на голый стул или другую, холодную, койку и, глубоко обидевшись – потому что этой кошачьей сути было свойственно глубоко обижаться, – проводила ночь или остаток ночи в одиночестве.
Конец ознакомительного фрагмента — скачать книгу легально
[1] Татьяна Акулова. Материалы к биографии Виктора Конецкого // Виктор Конецкий. Лети корабль! СПб., 2003. С. 42. См. также: Благодаренье снимку… Семейный фотоальбом Виктора Конецкого. СПб., 2009.
[2] См.: Топоров В. Н. Петербург и «Петербургский текст» русской литературы (Введение в тему) // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. М., 1995.
[3] Выражаю глубокую признательность Марианне Олеговне Базуновой за предоставленную возможность знакомиться с документами из ее семейного архива. Цитирование материалов специально не оговаривается.
[4] Дружески благодарю Б. Н. Сергуненкова (члена нашего литобъединения) за разрешение использовать текст его неопубликованных воспоминаний.
[5] Перевод Т. Сильман.
Библиотека электронных книг "Семь Книг" - admin@7books.ru